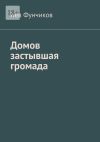Текст книги "Однажды в Петербурге"

Автор книги: Екатерина Алипова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Глава 10
Пути Господни
Все утро Трифон пребывал в растерянности. Раньше с ним такое случалось редко. Должно быть, в семье, где ему доводилось тесно общаться с полукрестьянкой-полубарышней, пусть без большого образования, но любящей размышлять, он и сам этому обучился. И теперь в его голове отчаянно боролись две мысли. Желание барина – закон, его приказ сродни Божиему, и раз он сказал ехать домой, стало быть, и надоть домой пробираться. Но как же быть, как снова свидеться с Кирой? Мысленно, в воображении своем, крепко обнять ее, а наружно ничем не показать ефтого, потому как она любит барина Безуглова, а на чужой каравай рта не разевай. Потому как она все понимает, и оттого тяжко ей, от ефтой его любви проклятущей. А может, бежать? Бежать на край света, коли есть у яво ефтот край, – умные люди сказывают, что будто круглый свет-то, а стало быть, и края у яво нетуть. А чаво? Денег нонеча много ему барин пожаловал, авось кудысь дорога и выведет. Один раз он убёг же – и ничаво, не помёр, чай. Но как же… как же быть, ежли он не воротится в срок? А ну как кинет барин клич, хватятся… найдут да и в острог… Эхма, придется, кажись, и всамделе домой иттить. «До самого Фомина», как барин сказывал, – да какой там «до самого», коли три дни в одну сторону и столько ж в другую. Это ж на один токмо денек дома-то показаться. Бабаньку повидать, у бар прежних прощенья спросить за побег – да и назад повертать.
С этими мыслями, перекрестясь и земно поклонившись в красный угол, Тришка увязал в узелок скудные пожитки и минут через десять был уже на окраине города, там, где дорога брала круто в гору, поворачивала и убегала через леса и болота в сторону родного Углича.
Петербург кончился как-то резко. Вот здесь еще красовались последние угодья, темнели избы чьих-то крестьян, а шагов через десять, за огородами, на всхолмье, уже стелились поля, и на окоеме замаячила опушка леса.
Внезапно до слуха юноши донеслись переполошенные голоса:
– Горит! Горит! Посетил Господь!
Обернувшись на крики, Тришка увидел темно-серый столб дыма, вздымающийся высоко в нежное, голубое, с еще не сошедшим утренне-розовым оттенком небо. Искры, как маленькие звездочки, заспавшиеся на небе и не заметившие, как рассвело, растерянно таяли, и за ними вереницей оранжевых горячих мух взлетали новые. Забыв обо всем, Трифон скинул узелок в придорожные кусты и бросился в ту сторону, надеясь хоть чем-нибудь помочь.
Полыхала крайняя в городе крестьянская изба. Пожар еще не разошелся в полную силу, но горел и дымил изрядно. «Ежли займется соломенная кровля, – подумал Триша, – то и конец дому-то». В этот момент к дому, ускоряя шаг, подошла пожилая женщина, зажав что-то в руке, как оберег. И одновременно с этим, провожаемая изумленными взорами крестьян, бежавших к горевшему дому с ведрами воды, на ясном небе скользнула маленькая одинокая тучка. Пролив свои запасы аккурат над полыхавшей избой, она растаяла так же внезапно, как появилась. И от огня, так же как от этой тучки, не осталось следа, кроме разве что нескольких обуглившихся бревен. Подошедшая женщина – по всей видимости, хозяйка избы – вдруг заплакала и стала мелко креститься, бормоча себе под нос вместо молитвы:
– Царь на коне… царь на коне… Ну спасибо тебе, Ксеньюшка!
– Ты чего бормочешь, мать? – спросил один из молодых крестьян, вихрастый паренек в косоворотке. – И чего плачешь? Али не вишь: целехонька твоя избушка-то!
– Стренула я в городе Ксенью…
– Это блаженненькую-то нашу?
– Ее, матушку… а она веселенька такая, радостная чегось… подходит, смотрит тако ласковенько да и сказывает мне грешной: возьми, мол, тут царь на коне. И вот енту вот копеечку подает. Я так и опешила: она, матушка, в затрапезненьком ходит, исхудавшая, аки Божья былиночка на ветру. Ей-то копеечка, кажись, надобнее будет. Я ей так и сказываю в ответ: мол, Андрей Федорович, голубчик, – потому она мужним именем называется, знаете ли, – голубчик, сказываю, не надоть мне, тебе понужнее будет. А она енту копеечку ажно мне в руку кладет и сызнова: возьми, мол, тут царь на коне, потухнет. Чего, думаю, потухнет? Блажит чегось матушка наша. Только ведаю я, что все-то у ней не просто так. Ежели скажет чегось – стало быть, и сбудется. И домой пошла. Подхожу – а тут полымя! А как потухло, то вы и сами все видали.
Крестьяне один за другим стянули с головы шапки и стали истово креститься кто в сине небо, а кто на купола ближайшей церквушки.
– Не иначе Ксеньюшка блаженненькая своими молитовками и выручила.
Тришка улыбнулся, вспомнив, что слыхивал о юродивой Ксении, и так его вдруг отчего-то потянуло в отчий дом, что и сказать нельзя. Какая тут связь, он, ей-богу, не мог понять, а только захотелось вдруг до одури – обнять бабаньку, поклониться в пояс барам… авось и чайком угостят… а уж если Кира Ляксанна своими ручками на стол самовар поставить изволят, то и опосля Фомина и вовеки не вертаться б ему к князю с княжной. Отыскав в высокой траве свой узелок, юноша собрался уже идти дальше, но вдруг вскрикнул от боли, и все поплыло перед глазами. Шаг в сторону – и под ногами зачвакало, распустив ненасытную пасть, болото. В последней вспышке сознания Триша догадался, что потревожил змею, облюбовавшую себе его узелок, пока он ходил смотреть пожар и слушал сказ крестьянки. Потом все провалилось, погасло и слилось в одну большую пустоту. Укус болел нестерпимо, топь тянула медленно, но цепко, так что бороться и барахтаться не было никаких сил.
* * *
У Безугловых Кира, несмотря на больную ногу, все так же проводила больше времени с дворней, чем с барами. Арсений, как и тогда на Масленой, считал это блажью, милой забавой детства и понимал, что когда троюродная сестра найдет себе уважаемого мужа – а в том, что за крестьянина ее не просватают, он отчего-то не сомневался, – готовка, оттирание котлов и столового серебра, пранье[27]27
Пранье – от слова прать – выжимать, стирать выминая, колотить вальком.
[Закрыть] белья в корыте или на речке должны будут остаться в ведении дворни, а для нее будут платья, балы, а ежели Господь смилостивится, потому как она ни в чем не виновата, то и дети. И вдруг где-то в самой глубине сердца – как раз там, где была надежно заперта его любовь, – Арсений Безуглов почувствовал, что экосезы, аллеманы, тугие корсеты, заморские духи и высокие прически – это не для Киры Караваевой; что для нее это будет клеткой, из которой ей уже никак не вырваться на волю. А в неволе певчие птицы живут недолго, и даже если Господь отпустит ей еще лет пятьдесят жизни, тот огонек, который он в ней любит, может погаснуть. Нет, это было до неприятия странно, но ее сила и радость были в действии. Когда Кира мыла, штопала, убирала – она жила и, когда от усталости валилась с ног, твердо знала, что завтра будут все те же котлы, тряпье и штопка, и все равно оставалась всегда веселой и приветливой.
Зато помогать троюродной сестре, как и тогда, на Масленицу, изо всех сил взялся Матяша. Хоть в маленькие радости они уже не играли, да и вообще по большей части не разговаривали, но в четыре руки работа делалась веселее. И никогда еще не ладились дела так быстро, потому что Танька с Авдотьей то и дело, бросив работу, ругались, а другая дворня кидалась разнимать, потому как иначе девки непременно расцарапали бы друг дружке лица или выдрали бы все волосы. А у Матвея и Киры все именно ладилось. Это, естественно, не укрылось от глаз Арсения, и теперь, как ему казалось, он видит все, все понимает и не знает лучшей развязки. Старший Безуглов помнил слова Ксении из его сна. Сестра… она должна быть сестрой. Но ведь она сестра и Матяше, между прочим, тоже.
Кира как раз несла на стол самолепные пироги с почками, как вдруг замерла, не донеся поднос до стола, и кинула куда-то вдаль встревоженный взгляд.
– Что? – Матяша ловко подхватил поднос. Кира не успела ничего возразить. Перевела взгляд с окна на своего помощника. Они сказали тихо и почти хором, он – вопросительно, девушка – утвердительно:
– Триша…
Перекрестясь освободившейся рукой, Кира Александровна выдохнула:
– Спаси, Господи, раба Твоего Трифона на всех путях его…
Очнувшись, Трифон долго не мог понять, где находится. Присел с трудом: рука еще болела – и огляделся. Это было небольшое помещение с низкими сводами, почти клетушка. Кроме его лежбища – жесткой кровати из необструганных досок, прикрытой куцей овечьей шкуркой, – в комнате находился огромный образ в серебряной ризе с теплившейся перед ним лампадкой, совсем маленький столик, на котором стоял небольшой глиняный кувшин. На шатком табурете, поставленном в изголовье кровати, сидел молодой человек, едва ли намного старше самого Триши, с небольшой белокурой бородкой, в монашеском одеянии.
– Христос воскресе! – прошептал Триша первое, что пришло ему в голову, и расплылся в широкой – должно быть, нелепой и не к месту – улыбке.
– Воистину воскресе Христос! – отозвался монашек. – И тебя воскресил. Ну, не пужайся, тебя змеюка за руку цапнула, да в болото угодил ненароком, видать, от боли. Крестьяне перво-наперво к нам сбе гали, потому как ихняя знахарка под Пасху померла, а сами они цельбовать змеиные укусы не умеють. А у нас отец Никодим по этому делу мастер великий, дар у его от Бога.
– Где я? В монастыре?
– Так, в Божией обители святителя и чудотворца Николая, на Старой Ладоге.
– Как же, до Старой Ладоги от столицы, почитай, верст триста будет, как же крестьяне сбегали-то?
– Шесть человек нашей братии к святому Ляксандру в монастырь шли на богомолье. Остановились в одной хате на краю города, передохнуть. А тут и крестьяне набежали, тебя, значится, из болота вытягать да от змеюкиного яду лечить.
– Спаси Господь и вашу братию, и крестьян тех добрых. – Тришка засуетился.
– Куда ты?
– Домой, в Углич. Мне барин отпуску дал до Фомина.
– И думать забудь! Слаб ты ишшо опосля змеюки той…
– Мне барин башку оторвет, коли не возвернусь!
– А мы яму письмецо отпишем и домашним твоим тоже, коли кто из них грамоте понимает. Авось и не оторвут, – засмеялся монашек. – Тебя как, кстати, звать-то, брат?
– Трифон сын Семенов. Был господ Караваевых, плотника в Угличе, да убёг к князьям Щенятевым, по соседству, в Прытком, да в столице.
– Так-так… беглый, значится…
– Нет. Князья и так меня у господ Караваевых торговали, да только я не дождался, убёг.
– Для чего ж?
– Для того, что не могу я, когда дочка ихняя, барская, мучаются.
– Она что же, любит тебя?
– То-то и оно, что любит другом, братцем, да не женихом. Оттого и мается, оттого и убёг я.
– Эвона как… – Монашек сдвинул куколь на лоб и почесал затылок. Потом поправился и сказал важно:
– Я о тебе отцу Пахому расскажу. Настоятель это наш. Он мудрый, он подскажет, что делать. А только отпустить тебя нонеча мы не могём никак: змеюка тебе попалась злая дюже, с неделю хворать будешь. Еще слава те Господи, что вовремя крестьяне к нам успели-то. Ты поседи здесь пока, я за отцом Пахомом сбегаю. Да не вздумай опять убечь, а то, не приведи Господь, помрешь по дороге, а нам отвечай потом перед господами твоими…
Молодой монах ушел, и Тришка остался наедине со своими мыслями. Остаться в монастыре? Оно, конечно, и можно, раз так управил Господь, что он попал сюда, да и молениями и трудами авось удастся вытравить из сердца зазнобу ефту… Да только вот их сиятельства нарисуют себе другую картину: взял много денег да и спрятался за стенами святой обители, все равно что вор. Нехорошо! А ежли с неделю, как сказывал монашек, ему хворать еще, то как раз до Фомина и выходит, и не видать ему ни дома, ни бабаньки, ни прежних господ. А ну как сызнова убечь? Помрет по дороге – и ладно, невелика потеря. А только жить все равно отчаянно хочется, отчего и для чего – Бог весть.
И тут на душу смущенного юноши снизошло озарение, а с ним – спокойствие, мир и даже какая-то апатия. Должно быть, и всамделе еще не прошла хвороба-то… Какое озарение? Да вот его сиятельство сказывали, что деньги эти на подарок Кире Ляксанне. Что ж, так тому и быть. Когда монашек ефтот али отец Пахом отпишут Ляксандру Ануфричу и Наталии Ивановне, попросить яво отправить с оказией и деньги ефти, так и есть что на подарок. А вот с ним что будет? Да ладно, его сиятельство богомольны, поймут авось. Только непременно надобно отписать им, что денег он ни копеечки не присвоил, а все куды надоть послал.
Отец Пахом, оказавшийся добрым седым старичком навроде Николы Угодника, как его на иконах изображают, решил все наимудрейшим образом: оставить Трифона у них на время болезни, за этот срок отписать и Караваевым, и Щенятевым, а далее как решат они. Ежели от кого придет возражение, тому и препроводить юношу на дальнейшее пребывание. А в случае ежели обе стороны пришлют ему свое благословение, облечь в стихарь послушника и отправить на искус[28]28
Искус – в данном случае, испытание перед постригом в монахи.
[Закрыть] на родину, в Угличский Воскресенский монастырь, с письмом к настоятелю, игумену Евгению, состоящему в дружбе и даже, кажется, в дальнем родстве с самим отцом Пахомом. Трифон принял такое решение как волю Божию и только не знал, о чем ему молиться: чтобы Наталия Ивановна не дала своего благословения и он вернулся под отчий кров или чтобы облечься ему поскорее в монашеские одежды и навсегда вычеркнуть из сердца и памяти любимый образ.

Глава 11
Предсвадебные заботы
То непрошеный гость у нее, то мигрень,
То канун маскарада, то сам маскарад,
То верченье столов, то большая
примерка, и так что ни день…
Михаил Щербаков
– Барышня нынче богомольны стали, – долетел до слуха баронессы Бельцовой громкий шепот Палашки, зашедшей принести молодой хозяйке воду для умывания и только что вышедшей обратно, – с утра поране уже молитвенник у них в ручках.
– Оно и правильно: Святая нынче, как не богомолить! – отвечала Маланья.
Прасковья Дмитриевна от души расхохоталась, прикрывшись книгой. Она и в самом деле читала ее всю Страстную, пол-Пасхального воскресенья и три дня Светлой.
– Вот умора! Видят тисненую обложку и золотой обрез – так и думают, что молитвенник! Арсений бы, пожалуй, лопнул от смеха! Надо непременно рассказать ему…
И вдруг Пашина мысль осеклась, как будто обо что-то споткнувшись. Какой, в самом деле, Арсений и что она пойдет ему рассказывать после всего, что между ними произошло?! У нее теперь новый жених, который и в подметки не годится прежнему и умом, и красотой, и – главное – состоянием и титулом. И именно ради него она и сидит, не ведая сна и покоя, вторую неделю за этим фолиантом – журналом свадебной моды, – пытаясь выбрать лучший в мире венчальный убор.
Но воспоминанием об Арсении ее мысль сбилась, и, посидев еще немного, Прасковья Дмитриевна в отчаянии отшвырнула книгу:
– Палашка! Одеваться!
– Слушаю-с, барышня! Сию минуту! – Конопатая жгуче-рыжая служанка скорым шагом вошла в комнату баронессы и ловкими, уверенными движениями одела хозяйку, четко помня порядок: корсет, фижмы, платье, накидка, прическа. Хотела уже уйти, но Паша остановила ее:
– Как ты меня находишь?
– Чавой-то я не пойму, барышня, об чем толковать изволите…
– Все ты понимаешь, а только отвечать не хочешь. Хитра! А скажи-ка, глядя на меня: веришь ли, что пред тобою княжна?
– Чистая прынцесса! – заверила ее Палашка. – Только с Императрицей-матушкой и могли бы потягаться! Господи, прости мою душу грешную, – и убежала, скоро перекрестясь и зачем-то запрятав лицо в передник.
– «Прынцесса»… – повторила Паша, когда девка ушла. И опять засмеялась – выдумает же словечко! Как там старший Безуглов говорил? Дворню учить – что мертвого лечить. Не пристает к ним образование, хоть ты в лепешку разбейся! Значит, и идея глупа, и внедрять ее в Отечестве нашем бессмысленно. В Европах оно, может, и ничего, а у нас не пройдет: больно темен народ наш и косен в этой своей темноте…
Тьфу ты, Господи, опять он на уме! Больно много чести вспоминать о нем так долго! Кто прошлое помянет, тому и глаз вон!
«А кто забудет, тому оба», – резануло, как ножом, откуда-то изнутри сознания. А собственно говоря, из-за чего весь сыр-бор-то? Подумаешь, кому он там куры строит! Она тоже, когда была с ним помолвлена, уже с князем Романом играла, хотя бы на именинном балу у его сестрицы. Да и с другими тоже… Не может же быть у него всерьез с той, к которой не пристало образование, коли уж он и в самом деле мыслит такие вещи, как говорит… Небось, девка-то Караваева на чужой кусок рот раззявила, он и решил подыграть – от скуки, должно быть… Но почему же тогда он сам, Арсений, вместо того чтобы оправдаться – и посмеялись бы вместе! – так отчаянно доказывал невесте, что любит Киру?.. Позлить! Раззадорить, вывести из себя! Это в его духе!.. Ох уж эта Нинон Щенятева! Что видела, не поняла, приврала с три короба, накрутила до неимоверных размеров да и выплеснула на подругу, а та и повелась…
Баронесса Бельцова не заметила, как слезы застлали пеленой ее чернющие жгучие глаза. Села перед высоким зеркалом и долго сквозь эту пелену вглядывалась в собственное отражение. И чудилось ей, что там, за гладью зеркального стекла, не Светлая Среда и не ее покои с рюшечками, пуфами и вышитыми тут и там букетиками розанов и фиалок, а зима, серебристая метелица, осыпающая мелкими звездами ее косу и ресницы, каток на реке, слышен гомон и смех подруг – это княжна Нина решила посостязаться с товарками в исполнении особенно трудных фигур. Вспомнилось, как попыталась она, Паша Бельцова, повторить за Нинон особенно замысловатый шаг – и как предательски ноги запутались в длинных юбках. И крепкие руки, не давшие ей больно упасть на лед. Руки, от которых жар пробежал по коже. А дальше – неловкая пауза, смех, знакомство и тихий вечер на заледеневшей реке, под звездами, а через каких-то два с небольшим месяца – помолвка…
Роскошная шкатулка, украшенная маркетри[29]29
Маркетри (от фр.) – инкрустация по дереву тонкими деревянными листами (шпоном).
[Закрыть], полетела ровнехонько в зеркало, рассыпав на лету жалостно звякнувшие ожерелья, серьги и перстни. Венецианское стекло разлетелось прозрачными брызгами. Шкатулка, должно быть, тоже пострадала, но этого Прасковья Дмитриевна уже не видела: она упала на собственную постель под нежным балдахином все с теми же фиалочками, закрыла лицо руками и расплакалась. Услышала возню дворни – сейчас, сейчас все понабегут на звон, поглазеть, что это тут случилось, наплетут кучу домыслов и будут потом целый год шептаться в девичьей да за печкой… До чего же Прасковья Бельцова ненавидит простонародье! Ну ничего, слава Богу, что все так устроилось, – быть ей в воскресенье княгиней, и хорошо, что жених ее неглуп и обучался наукам в Дерпте, а это, чай, получше, чем Московский университет…
«А у князюшки, небось, дворни-то поболе будет, чем у студента университета! Хочешь убежать от тупости простонародной – а не прибежишь ли к ней?» – вопрошало подсознание. Паша напряглась вся, но не успела придумать никакого подходящего ответа, потому что открылась дверь.
– И, барышня, зеркальце раскололось… – охнула Палашка, подметая осколки. – Ой, а бусики-то, на кусочечки… и не жалко вам?
– Ничуть! – холодно отозвалась баронесса. Она уже стояла возле кровати, перебирая пальцами кончик искусственно навитого локона, чуть растрепавшегося, и на лице ее не было и следа слез. – Мне князюшка еще купит, и поболе того, – и, чтобы показать, насколько ей не жаль разбитого добра, перешагнула через нитку коралловых бус и смела ее шлейфом платья. Кажется, на эти бусы ушли все карманные деньги, которые Марья Ермолаевна выделила старшему сыну на месяц, – ну и что? Князюшка ей и правда получше купит.
«А девке Караваевой он такого не покупает! Не тратит на нее последние денежки!»
«Замолчи! – прикрикнула Паша на собственный внутренний голос. – Кире совершенно не пошли бы бусы. Куда – к крестьянскому сарафану или ее неразлучному платьицу в цветочек?! И смех и грех!»
Снова хлопнула дверь, на этот раз входная. Через короткое время в покои баронессы безо всяких церемоний вбежала запыхавшаяся Маланья.
– Барышня… их сиятельство княжна… нареченного-то вашего, стало быть, сестрица… сердешно приглашать вас изволят на девичник, потому как они тоже венчаться на Красну горку изволят и хотели бы напоследок погулять, значить, вдоволь. В пятницу ждут-с и весьма надеются, что вы изволите и заночевать у них, потому как князюшка сиятельный, нареченный ваш, будет распрощеваться с холостою жизнью вне дома.
Вот оно как! Княжна тоже выходит замуж, да еще в тот же день! Что ж, очень кстати!
– Благодарствую, Малаш, за добрые вести, передай, буду непременно, – отозвалась Прасковья Дмитриевна неожиданно мягко. – Там где-то книжечка моя упала невзначай, не подашь ли?
Растерявшись от столь доброго тона вечно капризной хозяйки, Маланья кинулась искать книгу, не пробормотав даже себе под нос всегдашнего «слушаю-с».
Не нарочно ли Роман решил устроить в один день обе свадьбы, чтобы стравить меж собой сестру и невесту?.. Нет, вряд ли: это было бы очень по-арсеньевски, а князь, насколько она его знает, не таков… А каков? Что знает она о своем нынешнем женихе, кроме того, что он самая завидная партия во всем Петербурге, имеет без малого четырнадцать с небольшим тысяч душ и несчетное состояние да когда-то строил куры Леночке Безугловой? Пожалуй, что и ничего. А ведь на всю жизнь пред алтарем обет давать. Пусть для нее и алтарь почти не свят, а только врата с образами, да пространство за ними, да церковная утварь – а все-таки сама клятва, как ни крути, свята, и именно что на всю жизнь свяжет ее с красивым, умным и богатым, но незнакомым и нелюбимым.
«А и ничего, пожалуй. Стерпится – слюбится», – твердо сказала себе баронесса. На том и успокоилась и в следующие три четверти часа успела перебрать все свои платья, отобрать те, что возьмет на девичник к Щенятевой, сделать соответствующие распоряжения, выбрать наконец венчальный убор и заказать его портному и напоследок отписать княжне, что приятно удивлена ее скорой свадьбе и на девичник прибудет непременно. После этого Прасковья Дмитриевна, борясь с соблазном немедленно заехать к Леночке посплетничать о городских новостях, приказала одеваться кататься. Пока дворня приготовляла наряд, Паша заметила застрявшую в шве ее юбки маленькую коралловую бусину. Подняла ее, долго перебирала в пальцах. Потом положила ее на ладонь, крепко сжала руку в кулак. Подумала еще, нарочно упустила бусину сквозь пальцы и с легким сердцем поехала кататься.

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.