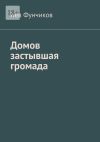Текст книги "Однажды в Петербурге"

Автор книги: Екатерина Алипова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Глава 8
Происшествие на Пасху
– Трифон!
Юноша продрал сонные глаза, вскочил с мешка с углем, на котором задремал, утомленный ночной Пасхальной службой, и кинулся искать звавшую его барышню.
Княжна Нина стояла, уперев руки в боки, посреди комнаты, и от ее решительного лица, костюма амазонки, заботливо застегнутого услужливой Хаврошкой, лихо заломленной набок треуголки – словом, от всего ее вида веяло свежестью, молодостью и совершенным отсутствием границ и преград.
– Чаво изволите, барышня? – спросил наконец Тришка, входя в комнату и вытирая рукавом лицо: успел по дороге скоренько умыться.
– Закладывай Лихого, Чертяку и Бурку. Поеду кататься!
– Не сручней ли будет верхами, ваше сиятельство?
– Не-е-ет, – протянула княжна с усмешкой, – нынче Светлое Воскресенье, так надо звонко, радостно, с бубенцами!
– Понял-с. Слушаю-с, – отчеканил юноша и бросился исполнять. Уже на пороге обернулся: – А каку коляску изволите, барышня?
– А какая понаряднее!
* * *
Выбрав самую нарядную, на его вкус, коляску, Тришка пошел на конюшню выводить коней. Первым приветливо зафыркал и затопал черный как смоль Чертяка. Вообще-то звали этого вороного жеребца просто Скакун, но за непредсказуемость, дикость и масть он получил от их сиятельств прозвание Чертяка, к которому привыкла и вся дворня, и сам конь. Это был самый любимый жеребец молодой княжны – наверное, за схожесть характеров, – но вот сам конь едва ли платил молодой хозяйке взаимностью. Неожиданно для всех – кажется, даже для остальных княжеских лошадей – Чертяка проникся неподдельной симпатией к скромному кучеру. Поэтому Трифон, с опаской подходивший к другим породистым и норовистым щенятевским скакунам, в стойло к Чертяке зашел без тени страха. Погладил его по высокой горделивой шее, похлопал по загривку:
– Ну что, Чертяшечка, ее сиятельство велели тебя запречь. Поедешь барышню катать. Так что ты уж держись там, старина.
Жеребец фыркнул понимающе и ткнулся Трише в плечо. Юноша обнял его за морду, спрятал лицо в длинную конскую гриву. Почему-то от Чертяки куда сильнее, чем от других лошадей, пахло домом, духовитым угличским сеном, в котором крепостному мальчишке Трифону Семенову снились порой чудесные сны, цветастые, как причудливые узоры на пасхальном платке барышни Караваевой. Этот платок подарила двоюродной племяннице Марья Ермолаевна, кажется, на очередные именины. Был он соткан из какой-то мудреной, тончайшей и по-особенному как-то выделанной шерсти, крашен серой с прозеленью краской, и по всему полотну были пущены диковинные не то цветы, не то птицы, то красные, то розовые, то желтые, а то и вовсе лазоревые. Платок Кира Александровна берегла пуще зеницы ока и надевала лишь раз в году – на ночную службу в Светлое Воскресенье. А ить это, стало быть, нонче было, прошлой ночью. Потом, как обычно, барышня зашла в дом, с порога похристосовалась с хворыми и хозяйственными – одним словом, с теми, кто не был ночью в церкви, прошла к себе в девичью, сняла платок и бережно убрала его в сундук, бабанька принесла ей ее обычное домашнее платье взамен пасхального, белого, расшитого. Дальше на эту картину опускалась целомудренная пелена, дававшая Кире Александровне переодеться без того, чтобы Тришкины мысли, память и воображение тянулись за ней по пятам, и скоро из этой пелены выходила прежняя бойкая, курносая и рыжая барышня Караваева, со смехом стукавшаяся крашенками со всеми домашними и непременно оставлявшая батюшке и маменьке по самому сладкому куску кулича – где изюмца побольше.
Свежий воздух с утренней апрельской прохладцей разогнал последние остатки сна, а с ними и картины домашней жизни. Что толку вспоминать, коли домой он больше никогда не возвернется? Храни ее Господь, Матерь Божья и все святые, и хозяина с хозяюшкой тож, и бабаньку, коли странствует она еще по этому свету, – а только нет ему пути обратно, потому как не сможет он без боли взглянуть в эти серые дорогие глаза. Своя-то боль что, с ней, пожалуй, и жить можно, но вот увидеть ответную боль в этих глазах хуже пытки, лютой смерти и геенны огненной, той, где плач и скрежет зубов.
Окончательно очнулся Триша только тогда, когда княжна Щенятева спустилась к коляске. Зачем ей наряд для езды верхами, коли не в седле она, а в коляске, Бог весть, но с господами спорить не принято и совать нос не в свои дела тоже. Поэтому юноша уверенно подал барышне руку и открыл перед ней дверцу коляски.
– Молодец! – Нина хлопнула кучера по спине. – Крепко запряг, ладно. Ну, садись, трогай!
Трифон покорно залез на свое место, дернул поводья:
– Но!
Кони рванули с места, и молодого кучера оглушил неистовый звон бубенцов.
Княжна Щенятева за дорогой особенно не следила, предоставив лошадям и кучеру самим выбирать направление. Ей просто было весело от скорости, от того, что Трифон не дурак и выбрал коляску с открытым верхом, что ветер треплет ее волосы и перо на треуголке, что бубенцы кричат так громко и звонко, да и от того, что Пасха, кончились заунывные дни поста с бесконечными богослужениями, и скоро откроется новый бальный сезон, где она будет блистать. А у Романчика через неделю свадьба, и надо и на нее нарядиться: пусть Пашенька знает, кто первая красавица во всем Петербурге!
Простучав по мосту, кони внесли коляску на Выборгскую сторону, в почти необжитую часть Петербурга. Там, за большой и добротной усадьбой старого бобыля князя Игнатьева, начинались дикие места, но княжну Щенятеву это не напугало, а только развеселило.
Три всадника поравнялись с коляской неожиданно. Один из них, державшийся в седле особенно ровно, оглушил Тришку по голове чем-то тяжелым и бесцеремонно взял под уздцы заржавших и беспокойно забивших копытами коней. Двое других подскочили с двух сторон к коляске и в один момент рывком распахнули двери. Нина завизжала и в испуге закрылась руками, потому что лиц лихих людей не было видно под низко надвинутыми шляпами и почти до носов намотанными шарфами. Разбойники уцепились за барышню и не церемонясь выкинули ее прямо в весеннюю хлябь.
– Пардон, мамзель, – хрипло сказал один из них, – цацкаться некогда. Подавай украшения!
Княжна покорно отстегнула серьги, положила в грубую руку золотые браслеты-змейки с большими аметистами. Подумав, сорвала с шеи нательный крест червонного золота, но тут один из лихих людей остановил ее руку:
– Что ж мы, нехристи какие, что ль? Это себе оставь.
– И на том спасибо! – Голос княжны прозвучал спокойно и даже дерзко. – А теперь, разбойнички, может, позволите проехать?
Ответом ей был резкий, грубый смех, и жесткие руки потянулись к ее корсажу и юбкам. Но прежде, чем княжна успела придумать хоть какой-нибудь план бегства, их окликнул третий разбойник:
– Эва, братухи! Забыли, чай, кто здесь главный? Она моя!
Он в один лихой прыжок подскочил к барышне, с силой втолкнул ее в ее же опрокинутую на бок коляску и, убедившись, что кругом стоит безмолвный перелесок, дал волю ненасытным рукам. Только сейчас княжна поняла наконец в полной мере, чего от нее хотят эти люди, завизжала и стала отчаянно отбиваться. Она колошматила атамана разбойников кулаками, бодала головой и в конце концов даже огрела его коленом в живот и до крови прокусила руку, когда он потянулся, чтобы разорвать на ней платье. Насильник ослабил хватку, но не сдался и уже готов был свистнуть на помощь подельников – втроем они бы точно с ней сладили («а потом и разделили бы на троих», – леденящий ужас пронзил все существо Нины Щенятевой), как вдруг тяжелая дубина огрела атамана по голове, и он рухнул как подкошенный к ногам своей почти состоявшейся жертвы.
– Батюшки-светы! Ваше сиятельство! – воскликнул изумленный человек без парика, в наскоро, не на те пуговицы застегнутом камзоле поверх ночной сорочки и кое-как натянутых панталонах, разглядев спасенную им девушку. Остальные двое разбойников почему-то не стали устранять внезапную помеху и доводить до конца начатое их атаманом, а кинулись к распростертому на земле главарю и, оттащив его, принялись приводить в чувство. Спаситель накинул на княжну Щенятеву теплый салоп, помог ей выбраться и усадил в заранее приготовленный экипаж. Трифон сидел там же и потирал ушибленную макушку. Хозяин экипажа, он же спаситель отчаянной княжны, поднес ей бокал, где на донышке плескалось вино.
– Водки! – решительно попросила Нина, отстранив заботливую руку с бокалом.
– Пожалуйте, можно и водки! – заключил человек, извлек из-за борта камзола флягу и, выплеснув вино в придорожные кусты, хотел было налить водку в бокал. Но Нина выхватила флягу у него из руки и залпом ополовинила ее. Поморщилась и только тут, придя немного в себя, разглядела своего спасителя. Это был мужчина лет чуть за пятьдесят, с тонким крючковатым носом, прямо как у сказочной Бабы-яги, с глубоко посаженными и от того немного страшноватыми, но даже красивыми карими глазами, ничуть не поблекшими с годами, с серьезным ртом и белесыми прядями волос, изрядно поредевших от возраста и постоянного ношения парика. Княжна узнала его: князь Игнатьев, владелец близлежащей усадьбы, раненный в Северную войну и бобыль.
– Князь, какая удача! – обрадовалась Нина Щенятева. – Не знаю, как вас и благодарить!
– Лучшая благодарность для меня – то, что вы живы и ваша драгоценная честь не порушена, – расшаркался церемонно старик Богомазов. И то ли из-за своего геройского поступка, то ли из-за чего другого, впервые он не вызвал у юной княжны Щенятевой отвращения.
– И все же? – продолжала настаивать Нина. – Я слишком дорого ценю свою, как вы изволили выразиться, драгоценную честь, чтобы оставить вас без награды.
– В таком случае, – лицо князя приняло просветленно-торжественное выражение, – позволите ли вы мне некую дерзость и, может быть, даже наглость? Я стар и, как вы знаете, ранен в ногу под Полтавой, отчего и по сей день остаюсь хром. Я никогда не имел жены в утешение себе и в хозяйство в доме. Мне не до долгого сватовства, ибо, повторюсь, я стар, и кто знает, когда Господь призовет меня. Но, несмотря на все эти обстоятельства, я давно, с тех самых пор, как вы появились в большом свете, дерзаю мечтать о такой именно спутнице жизни, как вы… Одним словом, не откажете ли вы мне в чести и счастии войти хозяйкой под кров моего дома и разделить со мной отпущенный мне Провидением остаток жизни, будь он короток или долог?
Княжна молча, долго и пристально рассматривала престарелого жениха. В любой другой ситуации она подняла бы его на смех, прибавив сто прикрас и разнеся эту потрясающую новость по всему Петербургу. Но сейчас – то ли от того, что сама попросила его выбрать цену ее спасенной чести, то ли от стукнувшей в голову водки, – некоторое время помедлив в раздумьях, Нина Щенятева как следует на положенные пуговицы застегнула князю Богомазову камзол и нежно пролепетала:
– За всеми этими страхами запамятовала совсем… Христос воскресе, Петр Артемьевич!
– Воистину воскресе, Нина Павловна! – расцвел князь, посчитав это за утвердительный ответ.
Христосуясь, целовали, как положено, воздух, но на третий раз князь, осмелев, коснулся губами щеки своей собеседницы. Экипаж остановился возле дома Щенятевых, но сидящие внутри не спешили расставаться и разговаривали обо всем на свете, как старые добрые друзья.
* * *
Князь Роман сидел посреди кабинета в уютном кресле и в задумчивости барабанил пальцами по столу. Нинон вошла быстро, сбивчиво рассказала брату о том, что с ней случилось, и поднялась к себе, чтобы отдохнуть от выпавших на ее долю приключений. Убедившись, что она ушла, князь Щенятев вышел в лакейскую.
– Спиридоныч, – обратился он к лакею, – ты говорил, там, у ворот, двое артистов стоят?
– Точно так, ваше сиятельство! Сказывают, будто бы ваше сиятельство им денег обещали. Да только…
– Выдай им от меня по штофу водки ради Светлого Воскресенья да по двести рублей золотом. Они отличные ребята!
Лакей, пожав плечами, пошел исполнять, но князь окликнул его:
– И еще по сто за молчание.
– Понял, ваше сиятельство.
– Трифон, – позвал князь кучера, едва Спиридоныч ушел, – Трифон, не сильно я тебя стукнул тогда?
– Ничаво, барин, ваша ручка легенькая.
– Ну смотри… А ты молодец! В точности как я просил, все сделал! Ну, чего хочешь? Отпуску тебе до самого Фомина[24]24
Фомино воскресенье (Антипасха, Красная горка) – следующее после Пасхи воскресенье.
[Закрыть]. Чай, дома-то долго не был? Ну, езжай, повидайся. Родные-то есть?
– Бабанька… – промямлил от растерянности Тришка, – да там… ента…
– Зазнобушка, понимаю, – улыбнулся Роман, – а вот и ей от меня справь подарочек ради Пасхи Христовой, – и князь сунул в руку кучеру несколько ассигнаций.
«Все идет в точности согласно плану, – сказал юный князь сам себе и довольно прищелкнул пальцами, – ну да, положим, палку я несколько перегнул, но Нинон… тоже хороша!» Князь пошевелил пальцами левой руки. Кусается сестра здорово, но даже уже почти не болит. Роман подошел к столу, долго шарил там и наконец вытащил кусок грубой ткани. Развернул. Улыбнулся, рассматривая изящные браслеты в виде двух змей с глазами-аметистами и серьги, тоже из чистого золота.
«Подарю-ка Нинон на свадьбу, когда поздно уже будет идти на попятную! Ну, чтобы она поняла и оценила шутку!» И, довольно усмехнувшись, князь Щенятев поспешил перепрятать украденные нынче у сестры лихими людьми украшения куда-нибудь подальше.

Глава 9
Школа жизни
Едва Кира, опершись о руку Арсения, сошла с коляски, она пристально посмотрела на юношу и сказала быстро и вкрадчиво, без приветствия и даже не похристосовавшись:
– Нам надобно немедля разыскать Ксению и спросить у ней совета и благословения!
Старший брат Безуглов аж опешил. Нет-нет, он верил в то, что юродивая Ксения по-настоящему Божий человек и знает что-то, что обыкновенным людям неведомо, но чтобы идти спрашивать ее о чем-то! Да еще проехав тысячи верст из Углича по весеннему бездорожью!
– Мой солнечный лучик, может, ты сперва отдохнешь с дороги? – Он поцеловал ей руки. Хотел снять с коляски ее дорожный сундук, но заметил, что даже раньше Авдотьи и Таньки это сделал Матяша.
Кира смотрела на Арсения все так же пристально и очень серьезно. Ей казалось, что в его глазах, манере, тоне была какая-то перемена, и это ее радовало и одновременно пугало. И тем сильнее было желание разыскать блаженную странницу и спросить у нее, выйдет что-нибудь из их любви или не стоит даже и надеяться?
– Мне все думается, что бестолковая у нас с тобой любовь получается. Не выйдет из нее ни толку ни ладу.
– Да почему же?
– Потому что не любовь это, а попрание Божьих заповедей! На венчании батюшка завсегда спрашивает жениха: «Не обещался ли иной невесте?» – и что ты скажешь? «Обещался, да раздумал, теперь этой обещаюсь, а Господь что ж, милостив, простит, чай…» Так, да?
Вопрос прозвучал в лоб, даже заставил юношу вздрогнуть. Раньше Арсения успокаивала спасительная мысль: помолвка у них с Пашей Бельцовой была, а обручения не было. Был пир у них дома в присутствии баронов Бельцовых, на котором Арсений сделал Паше предложение руки и сердца, и та согласилась, было на последние деньги купленное кольцо с настоящими яхонтами, но обета перед алтарем, видит Бог, не было. Но только сейчас, когда его рыжеволосое солнце высветило в его сознании этот вопрос, юноша почувствовал, что это не спасительная мысль, а отговорка, фальшь. Потому как предложение-то было, и согласие было, а Господь всегда видит, даже и без алтаря. А стало быть, ложь или тогда была, или сейчас. А ложь – грех всегда.
Но как же понять, как разобраться в своих чувствах? Как молния, как яркая вспышка, мелькнуло в сознании сначала Пашино платье, нарядное, дивного цвета, почти сливавшегося с возбужденным румянцем на ее щеках, потом – нежность в ее всегда таком гордом взгляде, потом – наперерез с предыдущими образами – его мысль, когда он узнал, что князь Щенятев сватался к Леночке: «Решиться на такой мезальянс он мог только по большой любви». А Паша? Баронесса, красавица, наследница богатого состояния приняла тогда предложение руки и сердца от него, пусть из дворян, но из мельчающего, незнатного рода. Насмешливая, колкая, сродни своей подруге Нине Щенятевой, тогда Паша была с ним одного духа. Это потом Арсений Безуглов понял, что он совсем другой человек, но… разве ж баронесса Бельцова в этом виновата? Он, пусть и невольно, обманул ее, а она, быть может, любила его без обмана.
И Кира – нескладная и некрасивая, полукровка, ни малейшего представления не имеющая ни о манерах, ни о модных туалетах – может, нарочно? – словом, вопиюще неподходящая в жены студенту Московского университета, дворянину и – что греха таить – любимцу светских дам. Но живая, светлая, умеющая одним своим бытием на белом свете внести в жизнь повод для радости. Кого же из них он по-настоящему любит? Откуда-то из глубин и высот пришел ответ «обеих», но Арсения он не устроил, потому что, во-первых, чувства и к той и к другой были сильные, но совершенно разные, а во-вторых, ну не турок же он, в самом деле, чтобы любить двух девушек сразу!
Одним словом, его рыжая троюродная сестра была права. И в том, что обещался, да раздумал, что по молодости все на свете кажется легким, а на деле оказывается куда сложнее и запутаннее, и в том, что им вдвоем без дельного совета ни в жизнь во всем этом не разобраться.
Но ведь Паша Бельцова сама уже «обещалась иному жениху». В расторжении первой помолвки виновата не она, так что ее греха здесь нет, а до их с князем Щенятевым свадьбы остались считаные дни. Так есть ли смысл бороться, даже если этот советчик решит, что с Кирой это все блажь безбашенной юности? Может, уже оставить все как есть, поздравить баронессу Бельцову с тем, что она стала княгиней Щенятевой, и спокойно, искренне жениться на Кире и ни о чем не жалеть?
«Нет, Арсений, малодушествуешь! – сказал ему не то Ангел Хранитель, не то внутренний голос (да не одно ли это и то же?). – Трусишь! Боишься посмотреть правде в глаза, потому что какая бы она ни была, одну из девушек ты безнадежно потеряешь. И с князем Романом состязаться боишься, потому что крыть нечем – и по богатству, и по знатности и старинности рода, и по красоте телесной. А Кира Караваева в твоем малодушии чем виновата?»
«Отказаться от нее – значит и ее обмануть. Причинить ей боль. Паша-гордячка, она и любить-то по-настоящему вряд ли умеет, да к тому же партию сделает значительно лучше, чем могла бы, когда была помолвлена с тобой. А Кира… она же, как говорят латиняне, tabula rasa[25]25
Дословно: чистая доска (лат.). Так говорят о не искушенном в чем-то человеке.
[Закрыть] в смысле сердечных чувств. Ты, можно сказать, разбудил ее, а теперь не знаешь, оставаться ли с ней», – это подал свой голос разум.
«А привязывать зачем было?!» – парировал первый голос.
Эта борьба голосов утомляла. Действительно, хотелось совета от кого-нибудь старшего и мудрого.
– Да, моя радость, ты права. Пойдем? – выдохнул наконец Арсений. И Кира, не извиняясь перед дядюшкой и тетушкой и никому ничего не объясняя, бросилась исполнять свое намерение: искать Ксению.
Арсений шел за ней, увязая нарядными ботинками в апрельской грязи. Его это раздражало не потому, что жаль было ботинок, а потому, что это очень замедляло ход и за Кирой он не поспевал. Она тоже вязла, но почему-то, несмотря на плотное сложение, шла легко и скоро. Но куда идти? Ксения – она ведь странница, нет у нее ни крова, ни пристанища. Где искать ее?
Прошагав, должно быть, половину Васильевского острова, Кира и Арсений наконец нашли ее. Ксения, по своему обыкновению, шла куда-то, как будто бы на край света, казалось, не замечая никого и ничего вокруг. Но наши юные влюбленные знали, что это лишь видимость.
– Матушка, – Кира, едва завидев ее, опустилась на колени прямо в апрельскую хлябь, – подсоби советом. Жить не могём, истерзались дюже.
– Андрей Федорович, – Арсений вспомнил, что она не отзывается на свое настоящее имя, а только на имя покойного мужа, – рассуди, с кем мне быть – с Прасковьей Бельцовой или с сей Кирой, юже зде пред собою видеши?[26]26
«сию (имя), юже зде пред собою видеши» (т. е. «эту (такую-то), которую видишь здесь перед собой») – из вопроса священника на венчании о согласии жениха взять в жёны именно эту женщину.
[Закрыть]
Нищенка, кажется, застигнутая врасплох, смотрела проницательными серыми глазами и молчала, переводя взгляд с одного на другую. В ее взгляде читалось полнейшее непонимание обращенных к ней слов. В душе Киры еще теплилась надежда, что это – намеренное юродство, маска, а на самом деле она все понимает и знает и вот сейчас поманит их рукой куда-нибудь в укромное место, где можно не притворяться сумасшедшей, потому как, кроме Бога, никто их не видит, и там расскажет им все: и про них, и про Тришку – невысказанная мысль, истерзавшая Киру не меньше, чем эта дурацкая любовь, но ведь юродивая Ксения умеет читать в душах – стало быть, непременно и про это расскажет.
– Пойдем. Мы только зря теряем время. Она и верно не в своем уме! – воскликнул вдруг Арсений своим прежним насмешливым тоном. – Не добьешься от нее толку!
Он рывком поднял свою спутницу с колен и попытался увести. Ксения молчала. С места не трогалась, смотрела на них ласково и спокойно, но по-прежнему как будто непонимающе – и молчала. И как ни хотелось Кире одернуть его, сказать, чтобы он не смеялся над бедной нищенкой, но сейчас, когда она так чаяла от юродивой помощи и не дождалась ее, нервы сдали и у барышни Караваевой.
– Почему ты молчишь?! – закричала она вдруг. – Разве не видишь, что двоим хорошим людям так худо?! Мы пришли просить подмоги, а ты… ты, оказывается, гордячка, а не смиренница и богомолица! – И, не помня себя, Кира Караваева с силой пнула нищенку ногой.
Ксения молчала.
Арсений потянул Кирину руку еще сильнее, и девушка вынуждена была пойти с ним. К ней, казалось, вернулся здравый смысл, и теперь она очень спешила вернуться в гостеприимную семью и извиниться за неожиданную отлучку. Крепко держась за руки, перебирались они через скользкие от грязи ухабы, кривые дороги и противное месиво.
– Ай! – вдруг крикнула Кира.
– Что?! – Арсений притормозил и испуганно оглянулся на нее. Барышня Караваева сидела прямо в грязи, держась за ушибленную о камень ногу.
– Я дале иттить не могу, – опередила она его вопрос.
И всегда она попадает в нелепые ситуации, все усложняет и путается под ногами! Арсений вздохнул, осторожно взвалил свою спутницу на спину и понес в сторону дома. Идти было трудно и от веса ноши, и от полнейшего бездорожья. Но от стучавшего ему прямо в плечо сердца, от выбившихся, как всегда, из-под платка рыжих прядей, от дыхания, скользившего невзначай по его лицу, вся досада на нее за это глупое предприятие куда-то прошла, и думалось только об одном: непременно вылечить Кирину ногу.
* * *
– Нет! – запротестовала Кира, когда с тем же намерением заботливо склонилась над ней Мария Ермолаевна. Тетушка так и застыла в изумлении.
– Нет, – повторила девушка твердо. – Это мне в назидание: я этой самой ногой юродивую Ксению пнула. А она, може, и не нарочно молчала, може, и не знает, как помочь нам. Ее любовь давно была, а теперь она, почитай, как монахиня – не иначе, и забыла про все это земное да сердешное… Пусть эта нога больная мне на памятование останется, что нельзя святых да блаженненьких обижать.
Мария Ермолаевна просияла, а вот Арсению такое решение явно не понравилось.
– Глупая! Как же ты будешь? Ты не думала о том, что твоя боль больна́ и мне?
– И что? Ты прынц заморский, чай? Ни у кого не болит ничегошеньки, одному ему, видите ли, больненько! Сам-то хорош: «не добьешься от нее толку!», «и верно не в своем уме!»… Вот и получай теперь! Больно ему…
Меньше всего Арсений ожидал таких слов от Киры. Но – уже второй раз за день – почувствовал, что она права. Это было против его ощущений и жизненных воззрений, против того, что он успел вынести из сегодняшнего посещения Ксении, но тем кристальнее сияла эта Кирина правота. И тогда он окончательно понял, за что именно он все это время так любил свою троюродную сестру: именно это, наверное, и называлось святостью. Не сусальное золото сияющих в свете тысяч свечей нимбов, не трогательные рассказы из детских книжек, такие же сусальные и патетичные, а сама жизнь, подчас резкая и неприятная, но чувствующая и думающая именно так. По-Христову. Без сделок с собственной совестью, без малейших сомнений в правильности черного и белого в своей душе и голове.
А с этим осознанием сам собой пришел и ответ. Святых чтим мы все, если только верим в силу, данную им Господом. Им молимся и преклоняемся перед сияющим сквозь них Божьим величием. Но мы-то земные, а стало быть, и жизнь – длинную, богатую на радости и горести – нам нужно жить с земными. А святые и так всегда с нами.
А ночью, в тишине спальни, которую Арсений Безуглов делил с младшим братом, был сон. Ему снилось, что он в какой-то парадной и нарядно убранной гостиной, сидит за большим столом, уставленным всевозможными яствами. А во главе стола – Ксения, не такая, как сейчас, а юная, в нарядном розовом платье, об руку с Андреем Федоровичем, мужем ее и придворным певчим соименного ему собора. Они счастливы, смотрят друг на друга влюбленными глазами и ведут неспешную беседу. Должно быть, это их свадьба, но отчего-то и он сидит с ними за столом. Поцеловав мужа, Ксения встает, подходит к нему и изящным жестом наливает ему из чайника душистый чай. И говорит ласково:
– Что приуныл, Арсюша?
И он рассказывает ей все, все без утайки, потому что точно знает, что она сможет понять.
– Погоди, – останавливает она его наконец, – ты баронессе Бельцовой обещался?
– Обещался, но перед алтарем обещания не было.
– Так в чем же дело? – продолжает Ксения, не обращая внимания на его слова про алтарь.
– Я стал другим человеком. Я внутренне изменился, а она… осталась прежней – такой, каким я себе совсем не нравлюсь.
– А как ты думаешь, без тебя, с тем же князем – как его по фамилии-то, запамятовала… – она станет другой?
– Не думаю, – отзывается Арсений как-то глухо, холодком по спине осознавая, что о князе Щенятеве он сестре не рассказывал.
– А вот честно, заглянув в самые глубины своего сердца, ты любищь ее хоть капельку?
– Не знаю. Потому и пришел к тебе.
– Ну что ж, давай разбираться вместе… Было тебе больно, когда ты понял, что не хочешь на ней жениться, и боялся ей в этом признаться?
– Было, только это не любовь, а стыд человеческий…
– Ты погоди, не спеши. Было тебе больно, когда ты столь неожиданно встретил ее в Первопрестольной?
– Было, а только это не любовь, а робость человеческая…
– А ты погоди, не спеши. Было тебе больно, когда, встретив ее, ты высказал свой отказ от женитьбы?
– Было.
– Отчего же было тебе больно, раз ты сказал ей правду?
– Должно быть, от страха, от боязни ее гнева.
Ксения вздыхает и отходит снова к мужу, садится на свое место. Арсений думает о чем-то, и вдруг ему ужасно хочется окликнуть сестру, ответить на ее вопрос, но Ксения так тихо и нежно беседует с мужем, что, право, неловко. Наконец он набирается смелости и кричит ей через весь стол:
– А Кира? Я ведь люблю и ее!
– А тебе разве кто-то запрещает? Люби. Люби непременно и посильнее, она ведь сестра твоя.
Он хочет сказать что-то еще, но Ксения, и Андрей, и вся нарядная гостиная начинают таять перед глазами, теряться в дымке сна. И уже из этой дымки доносится все тот же голос:
– Ты стал другим человеком, а она осталась прежней. Так неужели ты бросишь ближнего, раз ты можешь помочь, направить?
Последнее слово звучит эхом, потом и оно пропадает, и в следующую секунду студент Безуглов спит уже без сновидений, глубоким и мирным сном.

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.