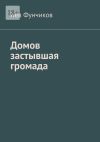Текст книги "Однажды в Петербурге"

Автор книги: Екатерина Алипова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
– А и правда, – отозвалась Кира. – У Господа все неспроста. Стало быть, отошла маменька прямо к Престолу Божьему.
– И молится там о нас. И хочет, чтобы у нас с тобой непременно все было хорошо. – Матвей взял ее за руку.
– Как бы ни было тяжело, я постараюсь. Я обещаю тебе, маменька.
* * *
Вскоре младенца крестили. Раздумья, какое имя наречь ему, прервал Александр Онуфриевич:
– Да знаю я, как Наташа его нарекла бы! Она не говорила, а я знаю. А пусть так и будет, по-ейному. Видать, никуды от ефтого не уйти…
И потому на крещении, погружая ребенка в купель, отец Василий торжественно произнес:
– Крещается раб Божий Фаддей. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь.
И никто против этого не возражал, и так, в доме Караваевых вместе с кормилицей – дородной бабой с соседнего квартала, похоронившей давеча своего и оставшейся в состоянии выкормить чужого, появился маленький Фаддей Александрович. Он потихоньку набирался сил и всем своим видом показывал, что намерен жить. Это радовало Киру, которая как-то сразу полюбила братца и очень возилась с ним, так что Матвей говорил:
– Это нам с тобой Господь послал взамен тех, что не дал тебе.
В пятнадцать лет Матвей Григорьевич Безуглов почти чувствовал себя отцом, и это, несмотря на скорбные дни, очень смешило Киру. Он растворял ее горе в своей любви, неизменной и незыблемой, и потому оно скоро перетопилось в смирение перед Господним Промыслом и в ожидание – когда-нибудь – встречи.

Глава 3
Муза живописи
Я люблю ее, деву-ундину,
Озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины,
Оттого, что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской!
Николай Гумилев
Дворовая девка Аглая застала барыню за задумчивым перебиранием собственных нарядов.
– Ваше сиятельство! К вам их сиятельство братец ваш!
– Дура! Сто раз тебе повторять: его сиятельство князя Романа Павловича Щенятева ты можешь пускать без доклада.
– Слушаю-с. – Аглая сделала неуклюжий книксен. – Дозволите иттить?
– Нет, постой. – Княгиня Игнатьева кивнула на пять платьев, выставленных перед ней на манекенах и занимавших большую часть будуара. – Какое мне лучше надеть для парадного портрета?
– И, барыня, да откель же мне знать?! По мне, так все платьица хороши дюже.
– А, ну ступай, – отозвалась Нина Павловна как-то рассеянно, – да братца пригласи. Нехорошо ему в передней толкаться.
Аглая ушла, и ее сиятельство снова погрузилась в раздумья.
– Венерой он меня уже видел… – Манекен, несший ее давешний маскарадный костюм, был отодвинут к стене. – Перваншевое – слишком нежно, как будто я невинная овечка. Гридеперль – скучно. – Таким образом три платья из пяти были отсеяны, оставалось выбрать между ярко-алым, затканным крупными золотыми цветами, и густо-сливовым с украшениями из черного жемчуга и перьев. И вот здесь выбор был чрезвычайно сложен. С одной стороны, глухой фиолетовый как нельзя лучше подходил к каштановым волосам княгини и оттенял ее зеленоватые глаза, с другой – алый выглядел гораздо более страстно, жгуче, а это как раз то, чего ей хотелось.
– Романчик, – улыбнулась княгиня вошедшему брату, – помоги мне сделать трудный выбор. Я жду художника, хочется предстать на портрете во всей красе.
Князь Щенятев закатил глаза: ох уж эти женские штучки! И так дома приходилось подсказывать жене, какой цвет лучше всего подходит к ее глазам, волосам, мраморной коже и румянцу. Но Леночку хотя бы можно было понять: в девической жизни у нее никогда не было столько платьев, она не привыкла выбирать по полчаса, во что ей одеться к тому или иному случаю.
– А по какому поводу ты заказала свой портрет? – спросил князь Роман терпеливо.
– Через месяц маркиз де Соссюр едет обратно в Нант. Не хочется, чтобы он уезжал без меня. – Она засмеялась почти неприлично. – А поскольку я мужняя жена, – на этот раз картинно вздохнула, – и ехать с ним одна не могу, придется отправить с ним мой портрет. На память.
– Маркиз де Соссюр? – Юный князь удивленно поднял брови. – Этот смешной французик, только и умеющий, что флиртовать с замужними дамами?
– Какой же ты зараза, Романчик! – продолжала смеяться Нина Павловна. – Он не смешной французик, а вице-адмирал французского флота!
– Ах вот в чем дело! А я думал, ты за один бал сумела разглядеть его трепетную пламенную душу…
– В душе все люди одинаковы, – отрезала княгиня. – Во всяком случае, все мужчины… Так какое платье мне выбрать для портрета?
– Смотря что ты имеешь целью. Напомнить о приятном вечере – маскарадное, Венерино. Прикинуться скромницей – гридеперль, пастушкой из слезливого романа – перванш. Подчеркнуть свое княжеское достоинство – вот это, фиолетовое. Очаровать – красное.
– Заставить пасть к моим ногам!
– Тогда тебе лучше позировать обнаженной, в образе Данаи. Сразу станет ясно, чего ты добиваешься.
Пощечина была достаточно сильной, но князь стерпел:
– Смотри, Нинон, как бы тебе не доиграться!
– До чего? До Страшного Суда? Да скоро ли он будет! И потом, помнишь поговорку: волков бояться – в лес не ходить.
Его сиятельство недовольно покачал головой. Нина скорчила обиженную гримасу, потом потрепала брата по руке:
– Ну-ну, Романчик, ты какой-то скучный стал в последнее время! Как будто тебе не двадцать один год, а сто двадцать один! Дай угадаю: твоя прекрасная Елена на поверку оказалась нудной клушей, и ты не знаешь, куда себя деть… Так бери пример с меня: заведи интрижку на стороне!
Князь вздохнул. Разговаривать с сестрой ему с каждым разом было все труднее. Теперь он прекрасно понимал, почему Леночка так ее боялась. И несмотря на то что сестру Роман Щенятев очень любил, а со смертью родителей они остались друг у друга одни и стали оттого еще ближе, жену он любил тоже, и хотелось, особенно теперь, когда она ожидала дитя, оградить ее от всего неприятного. Князь Щенятев попытался еще раз воззвать к сердцу Нинон:
– Запомни, пожалуйста, если тебе не трудно: Лена – моя жена. Я люблю ее. Пожалуйста, перестань постоянно над ней подтрунивать и зубоскалить! Если ты помнишь, в Писании сказано, что муж и жена – одна плоть. Так что, обижая Лену, ты обижаешь меня.
Нина Павловна пожала плечами:
– Когда это я ее обидела? Ты же знаешь, я всегда с ней приветлива, всегда рада ее видеть. Да и потом, убогих обижать грешно, так что это не про меня.
И вот тут князь Роман не выдержал:
– Ах, значит, убогих, да?! А ты? Думаешь, княжеский титул – твоя заслуга?! Княгиня – так и кичишься, и презираешь всех, кто ниже тебя? Если хочешь знать, гордыня тоже грех! Может быть, даже самый страшный на свете!
– Да разве ж я виновата, что она у тебя статуэтка мраморная, а не человек? Такая чинная, такая тихоня! Ни пофлиртовать ни с кем, ни во все тяжкие пуститься… монашенка почти. – Княгиня Игнатьева говорила с жаром, но почти не повышая тона, и это, особенно ее разгоревшиеся щеки и позеленевшие глаза, всегда производило на князя Романа ошеломляющий эффект. Сколь бы он ни был прав, а не мог сердиться на эту резвую избалованную девочку, красивую маленькую Нинон, которой очень рано стал вместо отца.
– Ты когда-нибудь слышала о таком понятии – «целомудрие»? – поинтересовался его сиятельство спокойным тоном.
– Слышала. – Нинон надула губки, потом усмехнулась: – Явно не мой конек!
– Вот этим ты и отличаешься от Лены.
Пришедший живописец прервал их разговор.
– Романчик, останься посмотреть, какова я буду выходить на портрете!
– Нет, Нинон, прости, я тороплюсь.
Роман поцеловал сестру в щеку и, воспользовавшись удобным случаем, поспешил ретироваться. «Бедный князь Петр Артемьевич! – подумалось вдруг ему. – Надо будет по-родственному поддержать его как-нибудь…»
* * *
Князь Роман ошибался: в отличие от своей подруги Прасковьи Безугловой, княгиня Нина Павловна Игнатьева никогда не презирала тех, кто был ниже ее по статусу. Вспомнить хотя бы простонародный бал, который она затеяла как-то в Прытком. Тот самый, на котором Арсений Безуглов очень недвусмысленно вел себя с этой рыжей, троюродной его сестрой, как ее там… Кира, кажется. Ну и что из этого получилось? Женился-то он все равно на Пашеньке. А рыжая, кажется, снюхалась с младшим… Чего только не бывает на свете! И что они все в ней нашли? Дело не в том, что полукровка, а в другом совсем: чересчур дородна, неуклюжа, не умеет и не любит танцевать и прихорашиваться. Какая же это женщина?
– Ваше сиятельство… позволите? Живописец Тимофей Ильин, по вашей просьбе, ваш портрет писать.
Вот те на! Без доклада! Наглость или простонародная непосредственность? Пожалуй, что второе. В таком случае это даже интересно! Облачившись, при помощи Аглаи и Райки, в алое платье и уверенными жестами надев рубиновое колье, браслет и серьги, Нина Павловна вышла из-за ширмы и приветливо улыбнулась художнику:
– Bonjour! Это по-французски означает «добрый день!». Как вам удобнее будет меня писать?
– Как изволите, сударыня.
– Ну, какой вы скучный! А я думала, коли вошли без доклада, так и распоряжаться будете! – Она засмеялась очаровательно, молодо, звонко. Тут только, как будто невзначай, заметила, что художнику дашь от силы тридцать пять лет, что у него пронзительные карие глаза, очень симпатичные усы и простодушное, открытое лицо. Он заметно смутился, но от цепкого взгляда княгини не укрылась промелькнувшая в его глазах озорная искорка. Поддавшись ей, живописец ответил деловито:
– Что ж, в таком случае не угодно ли вам будет встать вот здесь, возле стола. Нет-нет, смотрите не на меня, а вот на эту вазу с цветами – как бишь их зовут? Все время забываю название…
– Гладиолусы.
– Точно-точно. Глади-волосы… гм… Так вот, смотрите на цветы и делайте вид, что поправляете их руками. А я встану вот здесь и… Прекрасно! Прекрасно!
Тимофей поставил мольберт, развернул краски и оточил угольный карандаш. Ее сиятельство встала в точности как он велел, отметив про себя, что выбранный ракурс очень необычен. Обыкновенно живописцы писали своих моделей анфас. Это было скучно, но страсть как модно. А здесь… что-то новое! Что-то интересное! Карандашный набросок вскоре был готов. Сейчас он положит основные цвета, наметит, как падает свет и где выходит тень, и скажет, что допишет дома. Как же задержать его? Как же затянуть сеансы надолго?
– Право же, я устала! – вздохнула княгиня Игнатьева. – Может, продолжим в другой раз? Например, завтра?
– О, как вам будет угодно! Простите меня, ради Бога, ваше сиятельство! Я заставил вас стоять так долго! Возможно, мне стоило бы писать вас сидя!
– Что вы, не беспокойтесь, все в порядке. Я просто немного устала. Давайте продолжим завтра.
– Как вам будет угодно, – повторил художник и собрался уже уходить, как вдруг поднял глаза и заметил, что ее сиятельство стоит совсем рядом. Она потрепала его по спутанным волосам так запросто, как будто он был ей сыном или младшим братом, и спросила вполголоса, с ласковой улыбкой:
– Вы из каких мест?
– Из Кронштадта. Господ Тевяшевых. Отпущен на волю за картиночки свои.
– Из Кронштадта… С самого моря, значит?
– Точно так-с.
Он ни капли не смутился таким обращением княгини, и это ей страшно понравилось. В этот раз тем и кончилось, она отпустила его, повторив на прощание: «Продолжим завтра», а вот назавтра, дав Тимофею, после долгих попыток, наконец смешать краски для дивного цвета ее кожи и выписать первый тон лица, она уже не выпустила его из своих чар. Природный такт и осторожность не позволили живописцу зайти дальше поцелуя в длинную шею – на губах застыло ощущение нагретых кожей рубинов – и обещания непременно продолжить на другой день, но уже через неделю сеансов живописи крепость рухнула под натиском женского шарма, и тяжелый балдахин темно-зеленого бархата с золочеными кистями скрыл от посторонних глаз то, чего им не положено было видеть.
– Отчего у древних греков не было музы живописи? – спросил Тимофей, после того, что произошло, почувствовавший себя чуть ли не хозяином.
– Оттого, что древние греки были столь глупы, что считали живопись ремеслом, а не искусством, – отозвалась Нина из глубины скрытого альковом ложа.
– А быть может, оттого, что когда древние греки сочиняли свои мифы, на свете еще не было княгини Нины Павловны Игнатьевой. Не то непременно придумали бы!
Как же очаровательно она смеется! Так и веет от нее молодостью, силой, страстью! Оба как могли старались затянуть написание портрета, и Тимофей даже готов был бросить холст в огонь, чтобы начать сызнова, но Нина остановила его, боясь, что так они не поспеют к сроку. Княгиня Игнатьева должна была успеть отправить вице-адмиралу французского флота прощальный подарок.
«А если он окажется таким же податливым, как этот художник, то портрет достигнет своей цели», – не без удовольствия подумала Нина Павловна, простившись в очередной раз с Тимофеем и тщательно поправив растрепавшуюся в порыве страсти прическу.

Глава 4
Наследники Иосифа-плотника
Сорок дней, с кончины Наталии Ивановны и до самых крестин Фадюши, Александр Онуфриевич не показывался из дому, да и дома сидел в своем любимом уголке под иконами. Сидел без слез, без слов, без еды, без сна, как статуя или предмет мебели. Кира, в перерывах между домашними делами, заботой о братце и заупокойных молитвах и слезах о маменьке, изо всех сил пыталась подбодрить его, но ничего не выходило.
Придя из церкви после крестин, хозяин вздохнул глубоко, как бы собираясь с мыслями, и бесцветным голосом позвал:
– Матвей Григорьич! Подь сюда!
Матяша, которого Александр Онуфриевич иначе как по имени-отчеству не величал, подошел и встал рядом с хозяином дома.
– Ну, Наталия отошла, чую, и мне недолгонько осталось. Потому намерен начать тебя учить прямо тотчас же. А то, не ровен час, Господь призовет – и что Кира, серединочка моя, тогда кушать будет?
Встретив смущенный Матяшин взгляд, пояснил добрее, но все так же блекло:
– Пойми, лучшего мужа я для дочки не желаю. Ну не столичный она житель. А здесь тебе с твоим гимназическим учением заняться нечем будет. Здесь, почитай, деревня. А в деревне руками надоть, тут одной головой не вылезешь… Заходи, – Александр Онуфриевич открыл перед юношей дверь в чулан, оборудованный под маленькую мастерскую.
– Вот, смотри, знаешь, что это? – Плотник Караваев снял со стены инструмент.
– Топор.
– «Топор», – передразнил хозяин. – Это вам, грамотеям, топор, а нам, плотникам, отец родной, кормилец и поилец. Ничего без него не сладится, каким бы искусным ни был ты. Понял?
– Понял. – Матвей попытался улыбнуться, но траур и испуг перед новым занятием и перед суровым хозяином не дали ему это сделать.
– А ну-ка, покажи свою силушку богатырскую, рубани-ка по чурбаку! – Александр Онуфриевич подставил под топор крепкий чурбачок.
Матяша замахнулся и со всей силы рубанул топором. Дерево глухо чокнуло под лезвием, и чурбачок аккуратно развалился на две почти равные части.
– Ну, молодец! А теперь попробуй-ка осторожно.
Матяша аккуратно стукнул лезвием топора по половинке чурбака. Даже следа почти не осталось, только отлетело несколько щепок.
– Ну вот, видишь, со всей силы махнуть всяк может, а чтоб винограды да завитушки вырезать, это время нужно, терпенье и сноровка.
– И надо полагать, другие инструменты?
– Смышленый, далече пойдешь. И другие струменты есть, вон, смотри, все стены завешаны, будто образами. А только без топора никакой струмент не помогёт!
Всю следующую неделю Матвей Безуглов учился обходиться с топором, чтобы не только рубить им, но и, по выражению Александра Онуфриевича, работать красоту. Теорию – о породах дерева, их жесткости и какое для чего пригодно – юноша схватывал на лету, а вот на практике многое не получалось. Но учитель и ученик вскоре оценили друг друга: плотник Караваев хоть и подтрунивал то и дело над столичным неженкой-гимназистом, но оказался наставником терпеливым и снисходительным, а Матяша изо всех сил старался хорошо освоить новое для него ремесло, да к тому же был покладистым и критику воспринимал спокойно. Все это привело к тому, что дом на окраине Углича окончательно поделился на мужскую и женскую части: пока Кира и Феша готовили, мыли, стирали, ходили за скотиной и нянчились с младенцем вместе с приходящей кормилицей, Александр Онуфриевич и Матяша почти все время пропадали в чулане-мастерской, и через два месяца хозяюшкам были явлены стульчик и низкая скамеечка, специально сработанные для маленького Фаддея Александровича.
– Ефто все его работа, – довольно пояснил хозяин, кивая на Матвея, – я ни капельки не подмогнул. Послал Господь сынка на старость лет! Фадюшу я уж в такие лета, как ты, не застану, а так и помирать не жалко, не пущу дитёв по миру.
Начавшую успокаиваться и входить в колею жизнь Караваевых снова перевернули с ног на голову два события, случившиеся почти одно за другим. И оба пришли с большой разъезжей дороги в виде скрипа колес и брызг осенней грязи из-под лошадиных копыт.
Сначала в доме появился высокий юноша с бескровным лицом и в черном подряснике, подпоясанном обычной толстой веревкой. Хотя он вырос в семье Караваевых, но сейчас казался неузнаваемым: много старше и серьезнее прежнего. Он по большей части молчал и сновал по дому черной тенью, помогая по хозяйству женской половине семьи. Со всеми был приветлив, но на Киру старался не глядеть, усердно отводя взгляд, а Матвея поначалу как будто не замечал, но потом стал дружелюбен и к нему.
Кира все понимала лучше других и глядеть на нее и не требовала, наоборот, старалась быть понезаметнее. Немного чувствовала свою вину: это ведь она, разбирая оставшиеся после маменьки бумаги, нашла письмо из Никольского монастыря, что на Старой Ладоге, с вопрошением от настоятеля о том, как поступить с прибившимся к ним беглым крепостным Трифоном Семеновым. В том же письме сообщалось, что его новым хозяевам, господам Щенятевым, было о нем отписано, и их сиятельство князь Роман Павлович прислали ответ, что к постригу означенного крепостного в ангельский образ они возражений не имеют и препятствий чинить не будут, а, напротив того, просят новопостриженного монаха молиться о них, супруге и сестрице. Написавший письмо спрашивал, буде ли угодно досточтимой Наталии Ивановне Караваевой возвернуть бывшего своего крестьянина себе, простив побег, или же благословить, как и князь, на постриг. Кира не знала, ответила ли маменька на письмо, а потому отписала, что Наталия Ивановна преставилась родами в начале сентября, а она, Кира Александровна Караваева, а также и отец ее, Александр Онуфриевич, пусть и плотник, а наследник за женой всех крепостных душ и всего хозяйства, против пострига Трифона Семенова также не возражают. Несколько недель назад на это был получен ответ, что Наталия Ивановна успела перед кончиной своей об этом распорядиться, что ее имя за то навеки вписано в монастырский синодик, а Трифон отправлен на искус в Воскресенский Угличский монастырь и что о кончине его прежней хозяйки туда отписано и ему непременно об этом скажут.
И вот он приехал. Сказал коротко, что из монастыря отпущен на неделю – проститься с бабинькой и домочадцами, помянуть хозяюшку да и назад вертаться. Над могилой Наталии Ивановны спел панихиду на три голоса с Кирой и Матяшей, не забыв при этом вместе с Наталией помянуть почти скороговоркой младенцев Стефана, Архиппа, Клавдию, Никанора, Любовь, Агапию, Пульхерию и Иоанна, а потом, подумав, и раба Божьего Фаддея. Бабиньке пал в ноги, благодарил за труды, за то, что подняла его, вырастила. У Александра Онуфриевича спросил прощения за побег и получил его, вместе с благословением большим образом на монашеское житие. На Киру по-прежнему не глядел, но слишком уж старательно, так что однажды не утерпел, подошел к ней и шепнул: «Молись за меня». И Кира совсем бесстрастно и спокойно перекрестилась в серое небо: «Господи, спаси и помилуй раба Твоего Трифона, благослови его на монашеское житие и соделай достойным звания монаха и Твоих щедрот». Высокий тощий послушник понял, о чем она молилась и что имела в виду под «соделай достойным звания монаха» – на человеческий язык это переводилось «и помоги забыть зазнобу», – и потому дальнейшее желание с ней говорить отпало. Нет, не от обиды – обиды не было. Напротив, наступили умиротворение и ясность: она о нем заботится и хочет помочь. Она хочет, чтобы из него вышел хороший монах, – значит, так тому и быть. На Матвея Безуглова Триша посмотрел долгим взглядом, но ничего не сказал. Недели не прогостил, на четвертый день пешком ушел обратно, в Воскресенский монастырь, к своей новой жизни, могущей когда-нибудь стать житием, – она ведь и об этом молилась.
На следующий день после его ухода загнанная почтовая лошадь привезла на себе письмо.
– Тебе. – Александр Онуфриевич протянул письмо Матяше.
– Мне? – удивился юноша. Он всего два дня назад писал домой и, по осенней распутице, не ожидал такой скорости. Взяв письмо, Матвей прошел в дом. Сел за стол, сломал печать, продрался через хитроумные завитушки маменькиного почерка – и поднял на свою рыжеволосую возлюбленную растерянные, полные боли и слез глаза. На ее вопросительно-напуганный взгляд ответил не сразу. Потом прошептал, еле разбирая собственные слова:
– Нам надо немедля ехать в Петербург.

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.