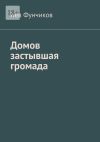Текст книги "Однажды в Петербурге"

Автор книги: Екатерина Алипова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Стой! Я понял, как это делается! – крикнул Арсений, нагнав ее. Подбежал к терему и вгрызся зубами сразу в стопку мерзлых блинов. Откусил большой кусок и попытался быстро прожевать, но блины, как и предупреждал дядюшка, оказались с сюрпризом: Феша щедро смазала их горчицей и тертым корнем хрена.
– Хо! – выдохнул юноша, проглотив наконец откушенный кусок. – Ну вы, дядюшка, хитро придумали!
Возглас «ура!» заставил его обернуться. Поверженный Триша выкарабкивался из сугроба, в который свалился, а на верхушке крепости стояли, взявшись за руки, Леночка и Кира.
– Это ж какая трата теста! – изумился Арсений, махнув рукой в сторону крепости.
– Этот год зерно не очень уродилось, – шепнула ему Феша. – В том смысле, что много его, да мука дрянная выходит. Стыдно такую на блины в Господень праздник пускать! Вот Ляксандр Ануфрич и придумали…
– Ну мука понятно, а остальное?
– А что остатнее-то? Блинцы енти из муки и воды мешены, ничаво в их и нету больше. А горчицы и хрену нам Господь завсегда с избытком посылает, аки библейские тернии и волчцы.
Следующим испытанием был снежный лабиринт, выкопанный Александром Онуфриевичем еще накануне. Он распростерся на целый квартал караваевских огородов, до самого погоста Корсунской церкви.
На этот раз было решено, что братья Безугловы зайдут в лабиринт с одного края, а Кира и Леночка – с другого, и каждый попробует быстрее других найти выход.
Арсению стало весело: ползти на локтях и коленях по низким ходам почему-то казалось ему забавным. Вообще, весь этот день с самого приезда он пребывал в радостно-взбудораженном состоянии духа, от былой тоски и тревоги не осталось и следа, хотелось смеяться все время и всему и не думать ни о чем серьезном. Но Александр Онуфриевич что-то перемудрил с ходами, переходами и поворотами, поэтому уже через минуту юноше пришлось сосредоточиться на лабиринте. Он старался запоминать дорогу, чтобы в случае, если не найдет выхода, хотя бы вернуться обратно, но уже после третьей развилки сбился и решил ползти наугад и просто получать удовольствие от игры, хотя коридоры лабиринта казались бесконечными и уже начинали надоедать.
Повернув на очередной развилке направо и протиснувшись под ледяным потолком, он лоб в лоб столкнулся с Кирой. Лицо ее раскраснелось от мороза и натуги, длинная прядь свесилась со лба до самого подбородка, а тулуп и платье были до колен мокрыми и перепачканными снегом, но почему-то это больше не раздражало, а веселило, шло в лад с безбашенным настроением. На этот раз Арсений решил не упускать момент, двумя пальцами убрал с ее лица рыжий локон и как будто невзначай осторожно поцеловал троюродную сестру. Увидел ее ошарашенные глаза, засмеялся и очертя голову ринулся в следующий поцелуй, успев все же поймать себя на мысли, что Паша после трех с небольшим месяцев официальной помолвки так и ходила нецелованной, носилась со своей девичьей честью как с писаной торбой и вообще слыла недотрогой. Что чувствовала Кира, он не знал, но она была податливой, и с непривычки это будоражило и манило, поэтому юноша, сколько хватало сил и дыхания, пытался оттянуть слова. Никогда еще они не казались настолько лишними.
– Ты… ты чего? – только и смогла произнести девушка, когда ей удалось наконец, мотнув головой, выпутаться из его поцелуя. Она хмуро сдвинула свои по-мужски густые брови и тяжело дышала.
– Ну… вот так. – Слова все еще не находились.
– Ну и не смешно вовсе! – строго сказала Кира и заспешила дальше по снежному коридору.
Арсений крепко взял ее за бока, перетащил через себя, легонько подтолкнул в нужную сторону и исчез за поворотом лабиринта. Выбравшись, он понял, что Матяша опередил его и нашел выход самым первым из всех, но все равно именно себя старший брат считал победителем. Потому как не у всех же есть взошедшее над жизненным горизонтом рыжее солнце, к которому можно подойти так близко, коснуться и не сгореть, а согреться и озариться. А с баронессой Бельцовой надо было быть чопорным и напыщенным, насмешничать надо всем и все время строить из себя кого-то другого, не похожего на настоящего Арсения Григорьевича Безуглова. Как, оказывается, это утомило! И вот в чем секрет, в чем прелесть некрасивой и незатейливой троюродной сестры из Углича: она настоящая и никогда ничего и никого не пыталась из себя изображать. Она просто жила, дышала полной грудью и вносила в каждое мгновение свет и пьянящее желание непременно проснуться завтра, а потом послезавтра, и так далее лет на сто вперед. И такую Киру Караваеву ему хотелось любить без рассуждения и без оглядки, как беспечную юность и саму жизнь.

Глава 10
Настоящее сокровище
Коляска, скрипнув и закачавшись, неуклюже остановилась в запорошенном дворе караваевского дома. Триша был чем-то занят, поэтому двум женщинам пришлось выбираться наружу и снимать вещи самим.
Первая была высокой дородной дамой в вылинялой до бесцветности куцей шубке, из-под которой виднелось светло-серое платье с неимоверным количеством кружевных оборок, лент и бантов, но все равно выглядевшее дешево. На голове у дамы красовалась шапка чудной формы, но, впрочем, бывшая ей к лицу. Дама выступила на снег, движением, резким от досады, что приходится делать это самой, сняла с коляски дорожную сумку и брезгливо огляделась по сторонам, морща длинный нос.
Следом вылезла из коляски вторая дама или, точнее, молоденькая тоненькая девушка, иссиня-бледная и с огромными, по-детски распахнутыми светло-серыми, почти бесцветными глазами. Ее платье тоже было от души расшито и украшено рюшами, бантами и розами и тоже выглядело дешево, потому что украшений этих было слишком много и сидели они не ровно, а вразнобой, как будто пришивавший их мастер слыхом не слыхивал о симметрии. Голова девушки была прикрыта капюшоном ее мантильи, а головного убора на ней не наблюдалось вовсе. Она тоже озиралась, но не презрительно, а робко и с интересом.
Дамы на несколько секунд замешкались у ворот дома Караваевых – впрочем, это была скорее калитка. Хлопнула входная дверь, и им навстречу бросилась, наскоро кутая светлые косы в платок, моложавая женщина. Улыбнулась приветливо и, жестом пригласив войти, на ходу бегло заговорила с приехавшими по-немецки. Чувствовалось, что она хорошо владеет этим языком, но почти отвыкла говорить на нем за ненадобностью.
В жарко натопленной столовой гостей встретил хозяин дома с дочерью и семейство Безугловых в полном составе. Наталия Ивановна, представляя гостей, начала издалека:
– Все вы, конечно, знаете, что хорошо известный вам доктор Таддеус Финницер скончался в этом доме, и дай Бог каждому уйти так светло и легко, как он… Я просила моего кузена Гришу разыскать по возможности хоть кого-нибудь из его родных или друзей, чтобы сообщить им о случившемся и добром помянуть покойного вместе. И, видно, раб Божий Фаддей легкой и светлой походкой взошел прямо на Небо, потому что он прислал нам своих родных ровно в день своих сороковин! Это родная сестра покойного, фрау Магдалена Шмайль, и ее дочь Юлия.
Дамам она что-то долго шептала по-немецки, очевидно представляя всех присутствующих. Те кивали головами и натянуто улыбались, но было видно, что вся обстановка им дика и непонятна. Наталия Ивановна приняла у них вещи и сама проводила в комнату, где они могли бы остаться на ночь. Крикнула Фешу и попросила принести гостьям полотенца, о которые можно вытереться после умывания. Сама хозяйка уже готова была оставить дам отдыхать, но в дверях фрау Шмайль поймала ее за локоть. Характерным жестом близоруких оттянула уголок глаза, покрутила головой, как бы стараясь получше рассмотреть женщину, и наконец спросила холодно:
– Так это вы та самая Natalie, из-за которой умер мой бедный брат?
– Да, я Наталия, но ваш брат умер не из-за меня, а из-за скарлатины.
– Которой он заразился от вас.
– Или, лучше сказать, которую он принял на себя по великой любви ко мне, грешной.
– «По великой любви», – повторила сквозь зубы фрау Шмайль.
– По великой любви, которой я не заслужила даже и тысячной доли.
– Что занесло Таде в эту глушь? Он же практиковал в Санкт-Петербурге.
– Врачебный долг, полагаю, – пожала плечами Наталия Ивановна. – Мой двоюродный брат, Григорий Афанасьевич Безуглов, – ну, если быть совсем точным, его младший сын Матвей, – узнав, что у меня пурпурная лихорадка, предложил пригласить ко мне вашего брата, зная, что он прекрасный лекарь.
– Он знал, что едет именно к вам?
– Нет, он узнал моего мужа уже по приезде. Они были знакомы давно.
Фрау замолчала, и хозяйка сочла это окончанием неприятного разговора-допроса и поспешила вернуться в столовую. Уходя, она услышала слова Магдалены Шмайль, обращенные к дочери:
– Мой бедный Таде! Умереть в такой дыре, в одиночестве, да еще в безвыходном положении из-за отсутствия пастора. «По великой любви» – как тебе это нравится? Какого эта Natalie о себе мнения? Юлия, ты можешь себе представить, чтобы дядя Таде, – его имя она произнесла с почтительным придыханием, – мог любить эдакую деревенщину?
– Но мама, для деревенщины она уж больно хорошо изъясняется по-немецки. Да и родня ее производит самое приятное впечатление.
– Ну из дворян, а все равно, разве может уважающая себя дворянка забиться в этакую дыру, носить штопаные платья, вышедшие из моды лет тридцать тому назад, и самой делать домашние дела, как прислуга? Разве твой дядя с его благородством мог полюбить эту простушку?
Подслушивать нехорошо. Выставлять себя лучше, чем ты есть, тоже. Обижать гостя в доме – тем паче. Но недоверие к тому, как все было, искажение достоверности хозяйка считала неуважением памяти покойного лекаря – памяти, которую она считала своим долгом пронести до гроба и за его пределы. Это перевесило все, поэтому она вернулась. Стараясь принять холодный тон гостьи – по ее природной мягкости выходило не очень убедительно, – Наталия Ивановна подошла ближе и ответила:
– Когда ваш брат полюбил «эдакую деревенщину», деревенщина слыла первой красавицей во всей округе, а кроме того, была любимицей семьи и друзей. И все это она бросила ради неизвестности, которая превратилась вот в этот прекрасный дом в этом чудесном колоколенном городе.
– Вместо того, чтобы разгуливать с Таде по Риге, щеголять в красивом платье и жить безбедно.
Наталия Ивановна пожала плечами:
– У каждого свое представление о счастье… К тому же ваш брат практиковал в Петербурге, так что Рига мне не светила…
Фрау Шмайль вспыхнула:
– А вы знаете, что в вашей стране он остался исключительно из-за вас?! После войны и Дерптского университета Таде мог бы вернуться в родную Ригу, жениться на какой-нибудь богатой наследнице… а он остался в России, потому что надеялся еще хоть раз встретить вас.
– Вы это серьезно?
– Более чем. Он сам писал мне об этом. – Фрау Шмайль достала из-за корсажа связку писем. Наталия Ивановна жадно впилась глазами в беглый почерк и наконец смогла разобрать слова:
«Я знаю, Магди, ты хочешь, чтобы я вернулся, ты хочешь женить меня на какой-нибудь богачке с кучей приданого и полезных связей – воистину, тогда и ты сможешь жить безбедно всю оставшуюся жизнь, и Юлия сможет составить неплохую партию, – но видишь ли, сестра, здесь, в этой суровой северной стране, спрятано настоящее сокровище. Я только потерял его из виду, поэтому живу изо дня в день, работаю добросовестно, существую как придется, не роскошествую, но и не впроголодь, и тешу себя надеждой, протирая скамьи всех лютеранских церквей российской столицы (коих тут едва ли не столько же, сколько православных), когда-нибудь вновь обрести его или, вернее, ее – хотя бы посмотреть одним только глазком и быть утешенным на всю оставшуюся долгую жизнь».
Глаза хозяйки увлажнились, а в душе смешались чувства самые разнообразные: сначала она в умилении прижала письмо к губам, но поняла, что плачет, и быстро отняла бумагу от лица, чтобы не размочить строки. Потом радостным теплом в сердце: «Каким счастливым он ушел!» И только напоследок скребануло неприятно: эта сестра, должно быть, как пиявка сидела у него на шее, выкачивая из него деньги на себя и дочь! Бедный Фадюша, какое одиночество! И снова, как точка, как финальный аккорд, разрешающий это одиночество в свет: какой счастливый конец у этой истории!
– У каждого свое представление о счастье, – повторила она только. – Простите, Магдалена, – можно же мне называть вас так? – простите, я должна вернуться в столовую. Меня ждут. Мы все будем очень рады, если вы и Юлия будете столь любезны присоединиться к нашей трапезе. А после нее мы вместе сходим к вашему брату на могилу и вспомним его добрым словом. Если бы вы видели, в каком живописном месте он упокоился! Воистину, мы ничем его не обидели…
– «Ничем не обидели»!.. Да если бы вы любили его хоть капельку, он был бы счастлив и до сих пор жив!
– И по-прежнему присылал бы вам каждый месяц солидную сумму, а сам продолжал бы «существовать как придется». И это вы говорите о любви!
Магдалена Шмайль как будто язык проглотила. Она не ожидала такого от «этой деревенщины». Пробормотала себе под нос, но нарочито громко, чтобы собеседница услышала:
– А ты сама попробуй жить одной с дочерью на выданье, еле сводя концы с концами!
– Я живу с дочерью на выданье, – улыбнулась Наталия Ивановна, – правда, у меня, по счастью, еще и муж есть, который неплохо зарабатывает плотницким делом и даже, забыв старую боль – а ваш брат когда-то давно едва не ранил его очень больно, разумею вовсе не войну, – сам сделал на его могилу прекрасный резной крест… Так вот, мой муж и я живем с дочерью на выданье и, признаться, тоже иногда бедствуем, но не побираемся по родне, а даже, как видите, принимаем у себя родственников из столицы. – На этот раз Наталия Ивановна была тверда в своем намерении вернуться поскорее в столовую, поэтому никто не смог ее задержать.
– Бедный доктор Финницер! – воскликнула Мария Ермолаевна, услышав рассказ кумы о неприятном разговоре с фрау.
Александр Онуфриевич долго сидел молча, потом сказал, помотав головой:
– А мож, права ента немчура: надо было тебе с им остаться. Хоша б один человек счастливей был бы.
Наталия Ивановна, не стесняясь присутствием гостей – все ведь родня, – обняла мужа и ободряюще поцеловала его в жесткую от бороды щеку.
– Да кто тебе сказал, что я несчастлива? Вот ведь втемяшится ему что-нибудь в голову – так и обухом не выбьешь!
Кира и Матяша, которые к тому времени уже второй день играли в маленькие радости и совершенно неприлично продолжали шепотом за общим столом, – только они придумали еще каждый раз объяснять, почему их радует то или иное, – вдруг резко замолчали, чтобы немного погодя проговорить почти хором:
– Какая сила молитвы была у этого человека, что Господь так слышал его и дал гораздо больше просимого!
А Кира досказала еще:
– Как жаль, что я совсем не знала доктора Финницера! Воистину, судя по маминым словам, это был человек, умевший по-настоящему любить. Такие люди нынче на вес золота. Я такого, кроме своих родителей, только одного наверняка знаю.
Глаза всех присутствующих в столовой устремились на нее в немом вопросе «кого?».
– Юродивую Ксению, – закончила девушка.
Лицо Наталии Ивановны озарила очень украсившая ее нежная улыбка. Григорий Афанасьевич и Мария Ермолаевна переглянулись. Арсений посмотрел на троюродную сестру взглядом, полным одобрения и восхищения. Леночка изумленно вскинула тонкие брови. Александр Онуфриевич почти не знал, о ком идет речь, поэтому так и остался сидеть на своем месте у печи.
И никто не заметил скользнувшего по лицу Киры Караваевой растерянного взгляда серых с просинью глаз в обводке светлых ресниц, силящегося понять для себя что-то очень важное – и очень загадочное.

Глава 11
Маленькие радости Киры Караваевой
– Вчера я говорила, что мне нравятся ясные зимние утра, – сказала Кира вместо приветствия, выйдя утром в столовую и застав там только гревшегося у печки Матяшу. – Что ж, хмурые зимние утра мне нравятся тоже, потому что в них есть что-то величественное. А еще потому, что раз натянуло тучи, стало быть, много снега будет, а я люблю снег.
– А мне радостно от того, что пошел уже третий день нашей игры, – улыбнулся Матвей, увидев, что кузина с утра пораньше куда-то собирается, и подавая ей тулуп. – Это значит, что мы оба умеем радоваться даже мелочам, которых другие и не заметят. Встретить единомышленника всегда приятно.
Чтобы не отрываться от игры, мальчик тоже надел шубу и картуз, сунул ноги в свои отороченные мехом полусапоги. Окинул троюродную сестру взглядом: платок, потертый тулуп, стоптанные валенки, – потом бегло осмотрел себя в натертый до блеска старый поднос, служивший зеркалом, и спросил, чуть смущаясь:
– Еще валенок нет? Если большие, не страшно.
Кира поманила его пальцем и, выудив из кармана платья огромный заржавленный ключ, отперла дверь в кладовую:
– Посмотри там.
Оглядевшись в полумраке кладовой, Матвей нашел сношенные валенки, протертые на пятках чуть не до дыр. Примерил – великоваты самую малость. Не беда. Влез в них, показал Кире. Та широко улыбнулась – да как же она не понимает, что такая улыбка ее уродует! – и проговорила без тени всегдашнего веселья:
– И еще замечательно, что мои столичные братья могут так запросто переделаться в сельских жителей. По крайней мере, один из них. – Она почему-то вздохнула. – Это важно, потому что все четверо моих кровных братьев отсюда почти сразу ушли туда, – Кира подняла глаза к потолку. Так просто и без пафоса у нее это получилось, – а чувствовать хоть кого-то братом хочется. И слава Богу, что можется.
Оба вышли во двор, и девушка тихонько, придержав, чтобы не разбудить громким звуком спящий дом, прикрыла тяжелую дверь:
– Я, может, непонятно объясняю, да только книжным премудростям не научена и говорю, как на сердце есть.
– Как раз это я и хотел сейчас сказать. Как здорово, когда хоть с кем-то можно поговорить по-простому, без церемоний, расшаркиваний… Здорово потому, что так понятнее.
Кира подошла к дровнику и протянула ковшиком руки.
– Нагружай, – скомандовала она.
Матяша поначалу замешкался, потом понял, осторожно положил ей в руки три полена.
– Еще, – коротко отозвалась девушка.
– Тяжело, не донесешь.
– Еще, – повторила Кира чуть строже.
Мальчик водрузил сверху еще одно.
– Еще, – упрямствовала Кира.
– Хватит, – взмолился Матвей, как будто нагружали его.
– Нет, не хватит.
– Я донесу еще.
– Само собой, – отозвалась девушка таким тоном, как будто это действительно было обычным и всем понятным, – но и я донесу и еще одно.
– Лекаря говорят, женскому полу нельзя носить тяжелое, а то потом… – Матяша покраснел оттого, что приходилось обсуждать тонкости женского устроения, – детей не родят.
– И хорошо. Я все одно замуж не собираюсь, теперь хоть не так обидно будет.
Оба замолчали. Матвей придумал выход, чтобы Кира не просила нагрузить ее больше: сгреб кучу и, пустив в ход подбородок и грудь, вполне равномерно разложил у себя в руках семь или восемь крепеньких поленьев. Оба направились к дому.
– Люблю, когда находят выход, – Кира несла дрова так, как будто это был пук травы, шла быстро и говорила, не сбивая дыхания, – люблю благородное упрямство. Потому что это помогает жить. Сама немного такая. – Она засмеялась. – Во договорилась: выходит, себя люблю!
– Арсений давеча говорил, себя любить надо, – протянул Матяша, запыхавшись и не поспевая за троюродной сестрой. – В Священном Писании, говорит, сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», а стало быть, Господь повелевает нам любить самих себя.
Кира встала как вкопанная и на мгновение задумалась. Потом пошла дальше, бросив на ходу:
– Не думала об этом. Но как по мне, опасная мысль. Увлечься можно.
– Мой брат любит подобные мысли.
– Это его в этом у-ни-тете учат?
– Не знаю. А только, продолжая нашу игру, – он догнал сестру, прижал поленья подбородком, чтобы высвободить одну руку, и распахнул перед Кирой дверь, – мне нравятся необычные мысли, потому что они порождают другие мысли в ответ.
– И можно до такого домыслить, что лучше и не начинать даже. – Не найдя тряпки, девушка голой рукой дернула печную заслонку и закинула в топку несколько поленьев. Остальные сложила возле и снова закрыла печь. Главное, чтобы был открыт дымоход. За этим в доме следил Триша, а он свои обязанности всегда выполнял исправно.
– Мне нравится огонь, потому что он дает и тепло, и свет, и пищу.
«И потому что вы с ним похожи», – подумал Матяша, но промолчал, испугавшись смелости собственной мысли. Посмотрел сквозь щелку на бушевавшее в печи пламя, представил себе, как должна была нагреться заслонка, и произнес, переходя от стеснения на шепот:
– А мне нравятся смелые барышни, потому что это нечто необычайное. – Смолк и отошел подальше, якобы для дела.
– Спозаранку уж хозяйничаешь, ясочка! – воскликнула Феша, появившись в дверях с коромыслом, – подрёмала б ишшо чутка… зимами под одеялком-то сладёсенько спится.
– Некогда дрёмать, Феша, – отозвалась Кира, снимая с коромысла ведра, полные, казалось, не воды, а звенящей стужи, – ты у нас одна, да и старенькая уже стала, надо и молодым потрудиться тебе в помощь.
– Сколь ее ни уговаривай, все одно, – поварчивала Фетинья Яковлевна ласково, – ты ж барышня, не пристало тебе работать. Сиди себе в уголку, прянички кушай.
– Этак я еще шире стану, – засмеялась девушка, уморительно разводя руками, – колобком стану. В лес укачусь и буду волкам да лисицам песенки петь. Помнишь, ты сказку сказывала?
– Да когда ж я сказывала-то? Еще Гапка, сестрица твоя меньшая, живая была, упокой, Господи, ее душеньку. – Крестьянка закрестилась часто, не прекращая разговора. – Уж, почитай, лет десять с той поры минуло, неужто помнишь?
– А я и Гапочку чуточек помню. Бойкая была девчурка, сметливая. – Кира тоже перекрестилась, сняв рукавицу. Потянула носом, как будто удерживая слезы, и сказала громко, чтобы услышал Матяша, все еще стоявший в дальнем углу просторной комнаты и рассматривавший увесившие всю стену темные образа. – Ишшо я очень люблю Фешины сказки. Потому что они народные, из самых глубин русской души идущие. И потому, конечно, что очень люблю сказительницу. – Девушка обняла старую крестьянку и прижалась щекой к ее морщинистой щеке.
– Да полно вам, барышня! – отмахнулась Феша. – Еще вон работы сколько!
– Лучше на «ты», как всегда, – попросила Кира, схватила ведра и коромысло и бросилась принести еще воды.
Матяша скользнул за ней: вдруг понадобится помочь; к тому же он придумал, что́ ей ответить. Но, впрочем, пока догнал троюродную сестру у колодца, забыл опять.
Кира поставила ведро на край колодца и скинула вниз другое ведро, привязанное к цепи. Журавль запел, опуская край балки. Девушка ласково погладила тонкую «шею», за которую такой колодец получил свое название:
– Старенький стал журавушка наш. Весной пора бы новый собирать.
Что было силы потянула за конец балки, навалилась на него всей тяжестью. Противоположный конец балки с цепью потянулся вверх, вытаскивая ведро, до краев полное серебряной студеной воды. Кира легонько толкнула балку в сторону, ведро встало на край колодца. Матяша осторожно снял его и перелил воду в другое ведро, принесенное Кирой из дому. Зачем так делается, он знал: на цепи в колодце всегда должно быть одно и то же ведро. Так чище, так правильнее. В полной тишине, если не считать скрипа колодезного журавля, было наполнено еще три ведра. Два Матвей взял в руки. Кира протянула было ему коромысло, но задумалась, смешно наморщив лоб, перекинула коромысло себе через плечо и ловко навесила два ведра.
– Пойдем, – скомандовала деловито, уходя вперед.
– А еще, – наконец собрался с мыслями Матяша, переводя дыхание, – мне страшно нравится, что ты со мной не церемонишься. Почему, право, и не знаю даже.
Кира остановилась и обернулась. Долго внимательно смотрела троюродному брату в глаза. Круглое лицо в конопушках и бугорках былой оспы, нос картошкой. Тулуп потерт, валенки стоптаны, платок опять съехал назад, открывая растрепанную макушку. Под коромыслом осанка стала ровнее, девушка приобрела статность, добрую мощь, но все равно выглядела с точки зрения столицы и общепринятых правил и норм категорически некрасиво. И все-таки – Бог весть что это такое – решительно прекрасно.
Когда труженики с тяжелыми ведрами воды вернулись домой, в столовой уже собрались все обитатели дома, включая Юлию Шмайль. Ее мать сказалась больной и осталась в отведенной ей комнате.
Когда Александр Онуфриевич нараспев прочитал молитву и все уселись за большой стол, фрейлейн Шмайль обратилась по-немецки к Наталии Ивановне:
– Простите, пожалуйста, мою маму: пока был жив мой отец, мы жили не зная нужды, и она все никак не может смириться с тем, что с его смертью обнаружилась куча долгов и все изменилось. Привычка к роскоши дурно влияет на характер, когда эта роскошь исчезает.
– Весьма зрелое суждение для барышни вашего возраста, – улыбнулась Наталия Ивановна, – давно ли умер ваш отец?
– Лет десять тому назад. Мне было пять с половиной или около того. Я помню его отрывочно…
– И все это время ваш дядя Таддеус Финницер поддерживал вас материально?
– Да, – Юлия вздохнула, – он исправно присылал деньги, но маме все было мало. Она считала, что в родной Риге он смог бы заработать куда больше. Или жениться на какой-нибудь богатой вдове и вообще не иметь нужды зарабатывать.
– Словом, во всех ее бедах виновата я. – Наталия Ивановна засмеялась впервые после смерти доктора. – Из-за меня он остался в России, из-за меня не женился…
– Из-за вас перешел в православие – это тоже она считает.
Наталия Ивановна продолжала смеяться:
– Если б это было из-за меня, он сделал бы это куда раньше.
– Нет-нет, в данном случае дело не в любви. Просто мама считает, что коль скоро в вашем городе нет лютеранских пасторов, а умереть по-христиански хочется каждому верующему, у дяди просто не осталось выхода.
– В его сердце читал только Бог, – рассудила хозяйка, – и только Он может судить об искренности этого шага. Но мне сдается, что дело было вовсе не в отсутствии выбора. Просто он осознал, что ни его врачебного искусства, ни даже – как ему казалось – силы его любви не хватит, чтобы поднять меня со смертного одра. А силы Святого Причастия хватило.
Кира не понимала, о чем идет речь, и Матвей, изучавший немецкий в гимназии, как мог пояснял ей смысл разговора.
– Мне радостно оттого, что Юлия не такова, как ее мать. – Кира сделала свой ход в игре. – Это значит, что у нас одним другом больше. Это приятно знать.
И до самого отъезда полтора дня спустя Матяша не нашелся что ей ответить.

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.