Текст книги "Неприкаянный дом (сборник)"
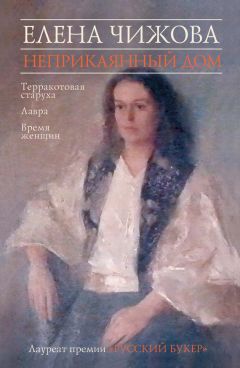
Автор книги: Елена Чижова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 56 страниц)
На пасхальные каникулы муж в составе академической делегации, возглавляемой владыкой Николаем, отправился в Польшу. По замыслу принимающей стороны гости должны были принять участие в совместных консультациях, а в свободное время объездить несколько католических монастырей.
С вечера, предоставленная сама себе, я привычно раскладывала книги и старательно вчитывалась в написанное, но строки бежали мимо. Буквы не желали складываться в слова. Из-за черных знаков, рябивших мелкой зыбью, всплывала то рука, восходящая к губам покорным, просительным жестом, то, словно ее отгоняя, поднимались собранные глаза владыки. Странное слово иерархия, приходящее на ум, не давало покоя. К утру, сломленная усталостью, я добиралась до подушки и засыпала без снов.
Пасхальные каникулы подошли к концу, и в продолжение следующих недель я сама не раз заводила речь о владыке. Задернув клетчатые шторы и разлив чай, я хитро, как мне казалось, наводила разговор. Вспоминая его прежние рассказы, я снова расспрашивала о том, чем закончилась история с беззаконно отъеденной просфоркой (выяснилось, что тогда маленькому Володе здорово досталось от отца Василия), или просила рассказать подробнее, каково это было, когда его застали в ризнице спящим. Давние неправдоподобные, почти апокрифические истории, которые муж пересказывал мне с новыми подробностями и неизменным умилением, вызывали жгучий интерес, который, время от времени отпуская незначащие замечания, я старалась не обнаружить. Раз за разом я возвращала память мужа к прежним временам, так что однажды, видимо, усомнившись в том, что я в полной мере понимаю смысл давнего прегрешения владыки, нарушившего просфорки, муж объяснил мне самую суть: частицы, вынутые из просфорок, – каждая за свое имя – опускают в Чашу, из которой причащают, таким образом объединяя их с Телом и Кровью Христовой. «Женщины не видят главного. Частицы вынимают в алтаре, куда вашей сестре ход закрыт», – он произнес с удовольствием. «Ну что ж, – скрывая плеснувшее через край раздражение, я отшутилась, – значит, вашей сестре придется догадываться по косвенным признакам». Муж не поддержал шутки и вернулся к детским историям.
«Да не было ничего особенного, они уже привыкли – Володя вообще прислуживал неохотно, то одно, то другое. C дисциплиной у него всегда были нелады», – муж отвечал на мои вопросы, кажется, уже удивляясь их настойчивости. Тут меня дернул черт, и я спросила: почему он принял постриг? В моем вопросе крылось двойное дно: я хотела знать, почему, отворачиваясь от мира, он не сумел отвернуться окончательно? Кто как не он, идущий вперед по красной ковровой просеке, он – средоточие пасхальных сияющих глаз, мог и должен был отвернуться от видимого – несовершенного и грешного – мира, но этот мир не отпускал его – притягивал семейным академическим кругом. Я не сказала вслух, но про себя решила, что его монашество не совсем невидимое – из видимого он оставил себе карьеру и академическую семью. В каком-то смысле (об этом я с тайной надеждой сказала мужу) отец Петр, обремененный настоящей семьей, ведет более монашескую жизнь.
Муж решительно отмел сравнение с Петром, но своего ответа не дал. Подумав, он предположил, что кроме всего прочего монашество было важным условием карьеры. Теперь в его необдуманной интерпретации владыка ректор выходил почти заурядным честолюбцем. «Карьеру можно сделать и в другом месте…» – я вспомнила институтского ректора, начинавшего в обкоме. «Его отец из репрессированных», – муж произнес неохотно, словно это признание могло умалить в моих глазах чистоту сыновнего выбора. «Отец умер?» – я спросила не раздумывая, потому что теперь спрашивала о главном. Он кивнул. «Значит, каждый раз во время Великой ектении, когда молятся о властях?..» – «Это – не наше дело. Наше царствие не от мира сего. Церковь не выступает против власти Кесаря», – словно забыв свои же слова о том, что церковь ничего не отпустила, муж отказался обсуждать. «Или боится выступить?..» – я парировала запальчиво и глупо, но он уже вышел из комнаты. Я представила себе руку владыки, поднимающуюся ко лбу безгрешным, ангельским жестом – за всех. С этим я не могла смириться. Не смирившись, я замыслила поймать его за руку.
Случай представился скоро. По долгу службы муж занимался расшифровкой кассет с речами владыки – одновременно он переводил их на английский. Позже из этих переводов составлялись документы для Всемирного совета церквей. Обычно муж работал с кассетами по ночам: ставил на стол портативную пишущую машинку, включал диктофон, надевал наушники. Пленка крутилась беззвучно. По утрам на столе лежали листы готового английского текста. Иногда я заглядывала из любопытства: перевод речей казался мне замечательным. Я не видела оригинала и могла судить лишь по переводу, однако и в переводе, на мой взгляд, чистом и безупречном, что-то удивляло меня. В нем уживались, как-то противореча друг другу, легко узнаваемые библейские фразы и жесткие обороты речи, которые про себя я называла политическими. Просмотрев, я откладывала в сторону. Однажды диктофон дал сбой: сам по себе он переключился с “off” на “on”.
Мы сидели в гостиной: я смотрела телевизор, муж печатал. Ясный и громкий голос неожиданно прорвался наружу – несвязный обрывок речи, проговоренный вслух. Этот обрывок был коротким, в несколько слов. По отрывочным словам – очень быстро муж переключил назад – я не сумела понять целого, но что-то более важное, более полное, чем смысл, приковало мой слух. Это была странная, невыразимая интонация – какой-то плачущий отзвук, не имеющий отношения к безупречно переведенным листам. На следующий день муж снова уехал в командировку. В этот раз – без владыки. Группу, состоявшую из преподавателей и священников, пригласили в Израиль на какие-то торжества. Довольно туманно муж прокомментировал: «Едем к истокам».
В его отсутствие я поставила кассету на магнитофон. Речь владыки была черновой. Мне показалось, он надиктовывал на ходу, в пустые, свободные минуты: плавное течение прерывалось то коротким распоряжением в сторону, то паузой, заполненной шуршанием бумаг. Кажется, это называется эффектом присутствия, но как бы то ни было, я чувствовала себя так, будто сама сижу в его кабинете. Присутствие, которого я достигла, дарило меня особенным тайным удовольствием. Закрыв глаза и представляя собранное лицо с широковатыми скулами, я слушала живую речь владыки, и эта речь больше не казалась мне безупречной. Глаза, глядевшие на переведенные листы, оказались несовершенным инструментом. Противоречие, крывшееся в его языке, становилось все более явным.
Уши не обманули меня: под живым и сильным голосом, глубоко, на самом его дне, таилась странная, неизбывная интонация – та, которую я по короткому несвязному отрывку приняла за плачущую. Под живым голосом, укрытые ясными, но противоречащими друг другу словами – библейскими и современными, – стояли бесстыжие стены страха. Я слушала и снова перематывала назад: мне нужно было время, чтобы свыкнуться. Слова бежали, исчезали и снова появлялись. Господи, я думала о том, что радостное оживление мужа, с которым он встречал свою новую деятельность, похоже на недомыслие. Теперь я видела по-другому: дух, измученный видом страшного, похожего на призрак, сидит за общим столом, надеясь хоть на какое-то время укрыться за их обыденным весельем. Это страшное он скрывал от них, держал их в неведении. Сам-то он видел воочию и не отбрасывал видимое, не заслонялся чужим милосердным сиянием. Перед призраком, не закрывая сосредоточенных глаз, он вставал окруженный двумя рядами оцепления. Эта странная сцена, которую я представила, показалась мне похожей на другую – из «Гамлета»: принц, окруженный стражниками, выходит из круга, чтобы встретиться с призраком отца. Встретиться, чтобы отомстить. Литературное сравнение укрепило меня. Снова я чувствовала твердую почву, на которой крепко и надежно стояли мои ноги. Пленка крутилась и крутилась. Я больше не останавливала ее.
Не кабинет, в котором я представляла себя сидящей, – прежняя комната, убранная к пасхальной трапезе, встала предо мною. Сидя за пасхальным столом, на своем прежнем месте, я переживала все заново, словно случившееся было записано на пленку, которую можно было перемотать. Священники, похожие на придворных, сидели за столами, однако праздничная радость, разлившаяся по их лицам, больше не обманывала меня. Их глаза были пусты. Шум, похожий на ветер, гулял за стенами комнаты. Они сидели перед полными тарелками, на которых, беззаконно надкушенные со многих сторон, лежали чужие маленькие просфорки. Теперь я поняла: эти просфорки не были надкушенными. Они сами, своими неразборчивыми руками, вынули из них частицы хлеба – за всех, без разбора. Вынули и опустили в Чашу, где эти частицы убийц и убитых соединились в Теле и Крови Христовой. Он помнил об этом каждый день, а значит – я догадалась, предвосхищая, – должен был попытаться разъединить. В память об отце, по обязанности своего рождения. Нет, это невозможно. Владыка не был принцем. Всего, чего он достиг, он достиг не по рождению – просто сделал карьеру.
Странная мысль шевельнулась в моей затуманенной голове. Я попыталась представить себе, что бы сделала я, если бы не ему, а мне примыслилось – разъединить. Единственный выход, чтобы не допустить соединения частиц, – съесть их самому, сквозь сонную пелену я вспомнила слово: потребить. Однажды муж рассказывал мне об этом, но тогда я не придала значения. Священники всегда доедают то, что остается в Чаше, – Тело и Кровь: выливать нельзя, они потребляют, доедая и допивая в алтаре. Так они делают всегда, но после, когда ничего уже нельзя поделать, а он – он должен делать это заранее, так, как сделал однажды – в детстве. Надкусить просфорки – своими собственными зубами вынуть частицы за убийц – вынуть и проглотить. Вот он, этот Митин разрыв, пропасть, шизофрения: по долгу карьеры он обязан их вынуть, по долгу рождения – проглотить. Проглоченные, одни должны лежать в нем – в его теле и крови. Но если так – какой-то нелепый сонный вопрос поднимался во мне, – сколько частиц нужно отъесть, чтобы тело, смешавшись с их частицами, изменилось целиком, превратилось в их тело?
Ответ я не успела услышать. Створки двери распахнулись беззвучно. Он вошел, приветствуя собравшихся, и за ним, стайкой почтительной свиты, в комнату вступили комсомольцы, среди которых я в тот же миг узнала своего – безобразно изгнанного. Ни на шаг не отставая, они прошли за владыкой и сели за его стол. Их было много, больше, чем мест за столом, а поэтому некоторые встали за спинами сидящих, как на общей фотографии. С моего места мне было видно плохо, наверное, это мне показалось, но я увидела бледное лицо, тревожный взгляд и руку, плывущую просительным жестом – к губам. «Митя…» – имя шевельнулось во мне болью, но чужие спины, вставшие между нами, закрыли его лицо. Владыка выпил вина и отставил бокал. «Кушайте, кушайте, угощайтесь», – ровным голосом он привечал комсомольцев. Пустоглазые сидели над просфорками, не откусывая надкушенного. Всматриваясь острыми глазами, я силилась понять, видят ли они вошедших комсомольцев. Я-то – видела.
«Вы ведь сегодня впервые здесь?» – не ко мне, к ним, владыка обращался ко вновь пришедшим. Теперь я поняла – придворные не видят. Тишина, повисшая над столом, не нарушалась ничьим ответом. Бессловесные комсомольцы кивали головами. «А раньше, прежде, вы бывали на пасхальной службе?» – владыка продолжал спрашивать. Новыми, собранными, разглядевшими его тайну глазами я видела, как матушки, от каждой из которых – приняв постриг – он отказался, испуганно смотрят на меня. Их мужья сидели неподвижно, как обвисшие тяжелые облачения, среди которых, испугавшись раз и навсегда, он просыпается снова и снова… Так же, как однажды, наяву, владыка поднялся из-за стола и, оглядев застолье, направился к выходу. Широкие рукава рясы взметнулись черными крыльями. Сделав несколько шагов, но не коснувшись двери, он обернулся ко мне. У самых дверей он застыл, не приближаясь, но лицо, посрамляющее земные законы, становилось четче и яснее. Сжатые, почти прикушенные губы плыли пред моими глазами, и, медленно поднявшись с места, я сделала шаг… Короткая боль пронзила ногу, и в ту же секунду я очнулась.
Я сидела в кресле, неловко поджав под себя затекшую ступню. Пленка остановилась. Совершенно ясно я вспомнила увиденное, и жгучее чувство вины опалило мое сердце. Словно поймав себя за руку, я поняла, что замыслила: ради себя я хотела вернуть его миру – уличить в грехе. Только теперь я осознала, что натворила. Раз за разом перематывая пленку, я проникла в его тайну, и в моих глазах, сумевших разглядеть невидимое, он, глотавший частицы, стал воплощением греха. Его грех входил в трапезную, как входили потомки убийц, чьими частицами он был исполнен. Какой-то долей своего изменившегося тела он стал частью их множества, а значит, спасая их, спасал и себя. «А если?.. Господи…» – только теперь я поняла окончательно: если их спасение не удастся – он сам становится обреченным.
«Какие глупости! – решительно возвращаясь к яви, я щелкнула клавишей и пихнула кассету в ящик стола. – Когда он выбирал – уже не то время. Отец ни при чем. Если бы он захотел карьеры, он сделал бы ее где угодно – и здесь и там, надо же, напридумала ерунды…» Наяву, глядя на мир прежними глазами, я вернулась к детской истории с просфорками, словно надеялась, начав от нее, как от печки, зайти с другого конца. Я думала об изъеденных просфорах, но видела мальчика, заснувшего в ризнице, и вспоминала обвисшие облачения, похожие на пустоглазых гостей. Он, посвятивший себя церкви, но видевший собственные сны, был одним из них, но в то же время стоял особняком.
Я смотрела на пустые облачения и думала о том, что мир, построенный церковью, целен и совершенен, но именно в этой целостности и совершенстве он эфемерен. Его строители не видят главного разделения – на убитых и убийц, не слышат его под сердцем, а значит, этот народ им никогда не спасти. В их мире, не видящем жизни, можно полагаться только на смерть, умеющую соединять несоединимое. Я вспомнила шею мужа, изгоняющего комсомольца, храмовых старух, берущих на себя роль всепрощающих мертвых… «Если так, – я начала медленно, словно, проведя расследование, готовилась вынести вердикт, – если они не видят живого мира, значит, они и сами – мертвые, и все их усилия должны быть направлены на то, чтобы умертвить». Как в сказке: мертвые, они приходят к живым из темного невидимого царства.
И все-таки именно к нему пришел мой муж: в своих надеждах он полагался на владыку Николая. Теперь, в свой черед, я думала о владыке как о замковом камне, способном держать конструкцию. Одной частью своего проглотившего тела он был с убийцами, другой – с убитыми. А значит, соединяя в себе и тех и других, он мог и должен был стать их общим первосвященником.
Быстрый АнгелНа этот раз муж не привез книг. Его подарок был особенным. Раскрыв чемодан, он высыпал горсть деревянных крестиков – от Гроба Господня. Эти крестики им вручили устроители, провожая: простые, цельного дерева, безо всяких украшений. Для меня одной их было слишком много. Я подумала, надо раздарить. Вечером, когда мы сели за чай, муж приступил к рассказу: «Ты бы удивилась. Совершенно не похоже на Евангелие: ни Крестный путь, ни все остальное – Голгофа, Вифлеем… Мы-то представляем себе так, как было написано: думаем, все осталось, как было при Нем, – ясли, дорога, гора. На самом деле все давным-давно застроено – над каждым из этих мест возвели церкви, и не угадаешь…» «Значит, если бы вам не сказали, что вот это, например, Голгофа…» – мне как-то не верилось. «Нет, конечно, гора осталась, не срывать же гору, но там не то лысое место, где – три креста, и в Вифлееме – не хлев, и пещера Лазаря – не пещера». Он принялся подробно описывать богатое убранство тамошних храмов, закрывших святые места. Конечно, я слушала его с интересом, но тайное разочарование проникало в меня. Застроив церквями, они навсегда скрыли евангельское прошлое, так что теперь – даже попади я в Израиль – мне не доведется увидеть то, что первые христиане видели воочию. Я же желала смотреть их глазами и, может быть, поэтому, внимательно слушая, не сочла его слова за рассказ очевидца: побывав на застроенных местах, он ровно ничего не разглядел. «Нет, я уж лучше по описанию… По книгам». Закончив о путевых впечатлениях, муж ни с того ни с сего заговорил о своем попутчике, с которым каждый раз их селили в один номер. Прежде такого не случалось. Сопровождая владыку, муж всегда жил один – в отдельном. Рассказ о попутчике я слушала невнимательно, норовя свернуть обратно – к святым местам. Эта тема была интересней. Муж отвечал, но снова возвращался к своему, так что в конце концов в моей голове все начало мешаться: евангельские описания, искаженные позднейшей застройкой, и житейские обстоятельства его нового друга.
В том, что за время поездки они успели подружиться, сомнений не было. С воодушевлением, с каким он прежде рассказывал о владыке, муж говорил об отце Глебе. Говорил, что у них много общего: университетское образование (правда, тот – естественник, закончил биологический), семейное положение (тоже женат) и… Я подумала, он имеет в виду сиротство. До этого муж успел упомянуть, что отец Глеба тоже умер рано, когда сыну было двенадцать лет. Однако, замявшись, он закончил: общая судьба. Торжественность этого заявления покоробила меня. Муж заметил и объяснил, что отец Глеб довольно долго шел к церковной службе, сначала работал по специальности – преподавал химию в Крестах, хотел стать писателем (писал в стол), одно время увлекался восточными учениями, кажется, йогой, потом пришел к православию, но, не имея церковных знакомств, подался в дворники – в Академию. В общем, человек необыкновенный.
Дворником он работал довольно долго, смиренно подметал академический двор и ходил в храм, пока не обратил на себя внимание владыки: «В этом смысле мы оба – крестники Николая». Через несколько лет, поступив в Академию и закончив, он принял священнический сан. «Ну, и что же общего?» – замысловатая жизнь Глеба, коротко очерченная мужем, на мой взгляд, никак не совпадала с его собственной – за исключением, может быть, университета, но мало ли народу его заканчивало. «Что тебе непонятно?» – горячее и сбивчивее, чем того заслуживал мой вопрос, муж заговорил о петлистой дороге, о неожиданном и непреодолимом желании уйти в церковь, о том, что в конце концов отец Глеб после долгих мытарств стал наконец священником. Слова о неожиданном и непреодолимом желании смутили меня. «Конечно, я не знаю, как там у твоего Глеба, но что касается тебя…» – «Что – касается?» – он смотрел на меня так, как будто я, единственный свидетель, становилась лишним. «Я хочу сказать, – лишний свидетель, живший во мне, упорствовал, – ты-то не работал дворником. Не пригласи тебя Николай, ты бы так и… играл в “Зарницу”…» Я не успела закончить. Его щека дернулась, словно, свидетельствуя, я становилась комсомольцем, стоявшим в оцеплении. Ломая губы, он заговорил о том, что дело не в приглашении, не кто кого позвал, а в Божьей воле, которая вела их обоих – и его, и Глеба. Я не возражала, и, справившись с гневом, он – теперь уже миролюбиво – принялся рассуждать о том, что им обоим выпал трудный и долгий путь, который отец Глеб в какой-то степени уже прошел. «Вообще, мы многое повидали, знаем не понаслышке, и это – очень важно для понимания…» Видимо, он имел в виду, что общая судьба позволяет им понимать друг друга с полуслова, говорить – как он позже выразился – на одном языке, на котором в церкви заговоришь не с каждым.
В его словах было много обыденной справедливости. Я и сама легко представляла себе, каково входить в новый мир, где каждый считает тебя чужаком. С владыкой, с которым муж был связан детскими, теперь уже шаткими иллюзорными воспоминаниями, он не мог говорить на равных. Воспоминаний хватило лишь на то, чтобы пригласить на работу и доверять. Уже сожалея о своем неуместном и жестоком свидетельстве, я думала о том, что на первых порах муж и должен был цепляться за общие воспоминания, искать в них опору. Видимо, это время кончилось, потому что, восхищенно говоря о новом друге, муж поворачивал дело так, словно владыка, отказавшийся от университетской и семейной жизни, так и остался мальчиком, с которым нельзя говорить о взрослом.
Прошло довольно много времени, прежде чем я познакомилась с отцом Глебом. Я помню тот вечер. Я задержалась в библиотеке и пришла домой поздно. Открывая дверь, я услышала громкий смех, напомнивший мне смех университетских друзей. Такого смеха я уже давно не слышала. В последние годы друзья приходили всё реже. Звонили, собираясь зайти, но муж настойчиво ссылался то на срочную работу, то на усталость. Скучая по их компании – чего только я ни узнала, смиренно прислушиваясь к застольным беседам, – я не раз предлагала мужу всех собрать, но он уклонялся. Теперь, вертя ключом в скважине, я радостно торопилась, предвкушая долгий и веселый вечер. Почему-то я была уверена, что это – не Митя.
Муж вышел мне навстречу. Улыбнулся радостно и свободно. Его улыбка была светлой, словно озабоченная отчужденность, к которой я за последний год привыкла, сошла с его души. Нетерпеливо я заглянула за его плечо, угадывая – кто. Сидевшего за нашим столом я никогда прежде не видела. Теперь он торопливо поднимался – знакомиться. Быстро и стеснительно одергивая пиджак, он смотрел на меня какими-то изумленными глазами, словно увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Это изумление было таким доверчивым, что я, шагнув навстречу и протянув руку, не удержалась: «Что это вы так смотрите, или не ожидали?» Наверное, меня сбил с толку их общий смех: на такие шуточки университетские легко находили ответы. Этот же растерялся. Изумленные глаза заморгали, руки кинулись вверх по отворотам пиджака. Какое-то смятение проступило в его лице, словно мой глупый вопрос поймал его за недозволенным. «Да, я не ожидал, совсем не ожидал, что вы – такая… другая…» – он забормотал растерянно.
«Не хватало еще идиота», – я подумала зло и несправедливо, в сердцах вычеркивая гостя из блистательной когорты университетских. В следующий миг я, мгновенно устыдившись, надела личину хозяйки и, недоумевая, над чем они могли так смеяться, предложила продолжить чаепитие. За столом отец Глеб постепенно приходил в себя. Коротко взглядывая на меня время от времени, он мгновенно отводил глаза, однако умудрялся весьма находчиво поддерживать разговор, в котором, по своей привычке (в присутствии университетских друзей мужа я все больше молчала и слушала), я не принимала участия. Разговор шел о владыке. Однако тон разговора разительно отличался от того, в каком муж говорил о Николае со мной. С отцом Глебом он говорил весело и свободно. Они обсуждали какую-то семинарскую историю, в которой владыка ректор каким-то образом принял участие – что-то о непослушании и дисциплине. По их веселым репликам я поняла, что кого-то из семинаристов, явившихся после двенадцати, вахтер не пустил в общежитие. Скандал выплыл наружу, и ректор вынужден был вмешаться. Вопрос о дисциплине обсуждался широко. Сдерживая смех, муж весьма артистично рассказывал, как древний и уважаемый профессор гомилетики, оказавшись с ним в трапезной за одним столом, горестно посетовал: «В какой ресторан ни приди, всё наши воспитанники сидят с блудницами и курют!» Потешно копируя интонацию, муж восхищался высоким профессорским слогом. «И ведь врет, собака, какие такие рестораны, будто он сам ходит – весь скрюченный, с его-то радикулитом, но врет-то сущую правду». – «Да уж – чуть отбой, наши – шасть в гостиницу и сидят… Там их уже знают. Ну а насчет блудниц, это он, конечно…» Теперь, ни к селу ни к городу вспомнив Лильку, я засмеялась. Образ скромного семинариста, проводящего время с гостиничными блудницами, позабавил меня. Забавным выглядел и профессор, врущий правду. «А разве там у вас запирают?» – «Разве запрешь от недозволенного!» – отец Глеб откликнулся легко. Сидя напротив, я смотрела веселыми глазами, забыв, что еще какой-нибудь час назад сочла его идиотом. Веселье переполняло меня. Наверное, я очень соскучилась по гостям, а потому пользовалась случаем посмеяться. Время летело быстро. Когда я взглянула на часы, уже перевалило за полночь. Поймав мой взгляд, отец Глеб вскинулся: «Ух ты, засиделся, хорошо с вами, но надо идти! А то домой не пустят…» По привычке я начала отговаривать: возьмете машину, а хотите, можете остаться у нас – место есть. В таких случаях университетские друзья сидели еще с полчаса и уходили. Отец Глеб сказал, что останется. Это был первый раз, когда он остался.
Удивившись такой готовности, я предложила кофе. «Знаете что, ребята, – муж поднялся, – мне завтра к восьми, и голова не своя – болит и болит. Вы сидите, а я пойду ложиться», – он посмотрел на отца Глеба пристально.
Мы остались одни. Я отвернулась к плите – варить кофе. Обычно, когда кто-то из университетских сидел у нас в гостях, я, отвернувшись, прислушивалась к разговору, не затихавшему ни на минуту. Так и привыкла слушать вполоборота. На этот раз прислушиваться было не к чему – за моей спиной стояла тишина. Дождавшись, пока курчавая шапка кофе поднимется над кофейником, я подхватила и обернулась. Он сидел, вперив глаза в стол. Руки лежали на краю – недвижно. Подождав минуту-другую, я вежливо прервала молчание. Я не знала, о чем начать, и уже жалела об опрометчивом приглашении. Зацепившись за конец веселого разговора – о семинаристах, профессоре и блудницах, я заговорила о Лильке – о ее дурацкой истории с негром. Наверное, мне хотелось сказать, что такие истории случаются в каждом общежитии: ректор есть ректор – во все обязан вникать. Отец Глеб слушал внимательно.
Входя во вкус, я подробно рассказывала о собрании, о предваряющем выступлении секретаря, о явлении Лаврикова. Все еще весело я рассказала о Лилькиной юбке, о том, как она подурнела, став похожей на свою деревенскую мамашу, о виноватой улыбке, сквозь которую сочился Лилькин покаянный голос. Не знаю, как это получилось, но под его внимательным взглядом я, незаметно для себя войдя в роль, заговорила Лилькиными словами, словно теперь уже не Лилька, а я стояла перед ними, кивая в такт покаянным словам. Я остановилась. Сидящий напротив меня смотрел ясными глазами: «И что же, заслужила она прощение?» Под его ясным взглядом я принялась рассказывать о том, как говорила перед ними – сияющими словами из бахромчатых книг. Он слушал собранно и внимательно, как будто слова, исходившие из моих уст, были знакомыми и близкими – известными. «Вижу, вы умеете и любите… читать?» – перед последним словом он помедлил. «Да, очень», – я ответила быстро и твердо. Его взгляд сверкнул. Я говорила, приводя все новые свидетельства, но не успела упомянуть о голосовании, когда он, коротко усмехнувшись, остановил меня: «Значит, именно начитавшись, вы сумели спасти ее?» Он выделил голосом то, что про себя я выделяла сама. Я замолчала, обдумывая. Что-то в его голосе насторожило меня. Заданный вопрос казался легким и очевидным: выслушав все перипетии, поинтересоваться результатом. Однако его голос выделил не сам результат – Лилькино счастливое спасение. Выходило так, будто он, слушавший внимательно, был заранее уверен в исходе. То, что его интересовало, лежало в стороне от очевидности. Как будто он, слушавший мою жалкую покаянную речь, понял, что здесь, пред его глазами, я говорила о себе, за себя, о своем страхе – о своих никуда не исчезнувших грехах. Теперь, словно грехи были дрожжами, на которых поднимаются силы, он спрашивал о том, есть ли силы у меня пойти дальше, чтобы спасать себя и их всех – отринутых и бессловесных.
Он застал меня врасплох, поймал на главном, и его лицо разительно изменилось. В нем не оставалось и тени доверчивого изумления. Лицо закрылось. Я подумала, неужели своим честным ответом я вторглась туда, куда он не желал пускать чужих? В эту область посторонним хода не было. Сюда заходили те, кто, положившись на крещение, раз и навсегда забывали обо всех прошлых грехах. Жесткое стояло в его глазах, словно сейчас, минуту назад, он, быстро подняв нож, нанес мне удар – пригвоздил.
Мне не хотелось продолжать. Сохраняя вежливость хозяйки, я спросила о недавнем путешествии, надеясь снова услышать рассказ о святых местах, закрытых церквами. Услышать и забыть. Отец Глеб задумался. Скосив глаза, он внимательно смотрел за окно: за стеклом рваными пунктирными линиями догорали последние окна. Его глаза вернулись. Они были такими ясными, что я невольно усомнилась в том, верно ли поняла его короткое и жесткое отчуждение. «Самое удивительное – пустыня. Я привык думать, что там – пески, куда ни глянь, он так написал: пески и редкие кусты, похожие на всё». – «Похожие на… всё?» Господи, я не могла взять в толк, о чем это. «Да, – он улыбнулся радостно и доверчиво: – По сути дела куст похож на всё. А разве?..» Ясность и жесткость, соединявшаяся в его взгляде, изумляли меня. Я поднялась и отвернулась к плите. Его странные слова удивляли.
Он смотрел ясными глазами, но говорил бессвязно, будто пьяный. «А разве вы его не знаете?» Вопрос, обращенный ко мне, толкнулся в спину. Я не успела ни ответить, ни обернуться. Голос, не похожий на его голос, начал странные слова: Идем, Исак, чего ж ты встал, идем, сейчас иду, ответ средь веток мокрых ныряет под ночным густым дождем, как быстрый плот, туда, где гаснет окрик… Я слушала. Стрела, оперенная этими словами, пронзила мою спину между лопаток. Она дрожала, не позволяя продохнуть. Голос шел и шел дальше, не щадя меня, как будто не желая замечать боли, прораставшейся во мне из этих слов. Справившись, я обернулась: «Что это?» – мне хотелось сжать пальцы и приложить к спине, к больному месту, так, как каких-нибудь полчаса назад я прикладывала к груди. За последний час он сумел ударить меня дважды. Эти удары были разными: один – жесткий, другой – ясный; я не знала, как объяснить по-другому, разные, они рождали одинаковую боль.
Он остановился и, глядя на меня внимательно, назвал имя и фамилию. Это имя мне ни о чем не говорило. «Но это, – я возвращалась к больным словам, – я уже думала, мне не сказать, это противоречие… Библейский и современный – два языка, которые надо…» – я забормотала, ни на что не надеясь. «Соединить», – он закончил за меня, и я кивнула. Я думала о том, что уши снова не обманули меня. Из-под живого, не похожего ни на чей голос, вырывалась странная интонация: человек, написавший больные слова, видел воочию и не отбрасывал видимое. Он зажигал свечу с другого конца – свечу, уже горевшую огнем владыки Николая. Я не смогла бы объяснить иначе, я и сейчас вряд ли могу объяснить, но под этим языком прорастала какая-то другая иерархия, встававшая рядом с иерархией владыки. С этой – другой иерархией, иерархией языка – он и сумел сладить: подобно тому, как владыка ладил со своей. В его слаженных словах мой разорванный мир обретал новую надежду. Когда-нибудь он, разорванный надвое, мог стать похожим не на дерево, разбитое молнией до корней, а на куст, из которого, вслед за этими словами, проросли бы мои пальцы и сложились вместе – прижать. «Одного поля ягоды», – наверное, я пробормотала вслух. Этот человек, имя которого я только что услышала, знал слова, чтобы в одном кусте соединять разорванное: два языка – библейский и современный.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































