Текст книги "Неприкаянный дом (сборник)"
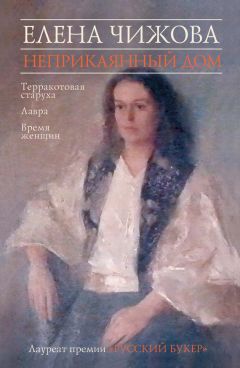
Автор книги: Елена Чижова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 56 страниц)
Телефон звонил непрестанно. То из канцелярии Академии требовали мужа, то из Москвы – торопили с какими-то документами. Затишье наступало ночью.
После похорон муж все чаще оставался ночевать на работе. Он объяснял это неотложными делами, требующими едва ли не круглосуточного присутствия. В рабочий кабинет доставили диван. Мелкие безделушки, украшавшие домашний письменный стол, начали постепенно исчезать. Вытирая пыль, я думала о том, что, относя их в Академию, он приноравливается к новой жизни.
В эфемерной ночной тишине я крутила пленку с речью Николая, и все больше проникалась мыслью, что невосполнимая потеря, которая на нас обрушилась, ударила по нему всего сильнее. В отсутствие иных свидетельств я могла судить единственно по голосу, и этот голос, к черновым интонациям которого я успела за несколько лет привыкнуть, свидетельствовал о том, что теперь, переложенный начисто, он претерпел существенные изменения. Прежде, вслушиваясь в интонацию, выводившую – друг подле друга – библейские выражения и жесткие обороты речи, я представляла себе нового Гамлета, выступившего из круга друзей, чтобы отомстить за погубленного отца. Тот принц глядел на трон почти равнодушным взглядом, всерьез не помышляя, что рано или поздно это станет его седалищем. В пьесе, разыгранной на современных подмостках, между ним и троном стоял возлюбленный духовный отец, которому, по высшей справедливости, должно было достаться и патриаршество, и отмщение. Победительное отмщение: подняться и встать вопреки всему. Всего накопилось с лихвой: больное сердце, непримиримые отношения с ортодоксальным епископатом, с одной стороны, и радикальными церковными диссидентами – с другой. Было от чего прийти в отчаяние, но желание Ватикана вести переговоры именно с покойным владыкой Никодимом обнажало истинную иерархию, рядом с которой действительное положение дел не могло не стушеваться.
Я не знаю и не могу знать, так ли думал об этом владыка Николай, однако он, человек тридцати с небольшим лет от роду, конечно, не мог не понимать, что в отсутствие своего духовного отца он окончательно лишается роли принца, во всяком случае, наследного. Если ему когда-нибудь и удастся взойти на престол, это восхождение случится совсем на иных путях, а потому теперь, когда духовный отец был погублен, в голосе названого сына больше не звучало прежней – безоглядной и почти трагической – решимости, когда, преодолевая страх, точнее, не позволяя себе за себя бояться, он боялся лишь за того, чей дух, запертый в больном теле, обладал всеми свойствами необходимой и достаточной стойкости. Произнося и записывая на пленку слова, владыка Николай стоял, по видимости, неколебимо, но в этот надгробный миг в нем качались, уравновешивая друг друга, две чаши весов, на каждой из которых лежали проглоченные частицы: на одной – за убитых, на другой – за убийц. Это я слышала в его нарастающем голосе и, перематывая пленку назад, думала: настанет день, когда ему придется сделать выбор – в меру собственного понимания и человеческих сил.
Прислушиваясь к голосу, страдавшему над закрытым гробом, я не могла не думать и о том, что рано или поздно придет конец эпохе – долгому сроку, который начался решением Совета по делам религий, отдавшего предпочтение патриарху Пимену. Это решение пришлось на 1971 год, и, вспоминая Митин кружок шестидесятых, за который его чуть было не выгнали из университета, но по какому-то стечению обстоятельств (об этом, так и не решившись спросить у Мити, я мало что знала) пощадили и даже выпустили за границу, я думала о будущем церкви, отгораживаясь от предчувствия какой-то надвинувшейся беды.
Тогда, в 1971 году – в день восшествия на высший церковный престол нового патриарха – это решение было многими воспринято как неудача: сторонники владыки Никодима надеялись до последнего. Однако неудача лишь подливала масла в огонь, потому что по правилу абсурдного, а значит, единственно правильного ожидания это решение не могло быть признано окончательным. То время я знала только по рассказам. Те, к кому я прислушивалась, говорили о вспыхивавшей надежде, никак не связанной с действительными обстоятельствами. Вот почему даже вопреки изменившемуся голосу владыки Николая я продолжала надеяться. Втайне я надеялась на чудо, которое вполне может случиться, как случилось тогда, когда они пощадили Митю.
Вряд ли в свои двадцать пять лет я могла рассуждать разумно, да, пожалуй, не я одна. Ни у кого из нас, живших в те годы, не было опыта революционной смены иерархической структуры, кажущейся незыблемой. Как абсурдную мы отмели бы мысль о том, что при всей благотворности внешних, диссидентских раскачиваний крах ороговевшей системы наступает лишь тогда, когда на верхнюю ступень иерархии восходит человек, прошедший ее от самого низа, но не сумевший смириться с ее губительной косностью. Моим сегодняшним голосом, усталым и сломленным, я утверждаю, что, сложись все иначе, рядом со светским реформатором стоял бы реформатор церковный – равновеликий в своем историческом порыве, и гибнущая имперская сила нашла бы достойное соответствие в гибнущей силе церковного абсолютизма. Иногда я думаю, что этот сценарий нельзя назвать невозможным. В конце концов, владыка Никодим умер, не дожив до пятидесяти лет.
Новый телефонный звонок прервал мои размышления, и голос мужа, звучавший устало, предупредил, что снова остается ночевать в Академии, завтра к девяти, ехать домой нет сил. Я спросила о самочувствии владыки Николая, и муж, помявшись, ответил: «Ничего». Я уже собралась было повесить трубку, когда он продолжил: «Вот, сидим с Глебом, разговариваем, что-то будет дальше?..» – и я поняла, что в сегодняшней ночной беседе речь идет о будущем назначении на вдовствующую кафедру, Ленинградскую и Новгородскую.
Только теперь, осознав эту близкую перспективу, я почувствовала, что события, начинавшиеся исподволь, со смертью владыки обретают новый импульс, проще говоря, начинают стремительно развиваться. С отбытием последних католических гостей мы вступали в полосу консультаций, которые, как я хоть и не вполне ясно представляла, должны были закончиться выбором: либо, при определенных выполненных условиях, возведением владыки Николая, либо – его почетной ссылкой. Единственным заступником мог стать владыка Ювеналий, по обещающей прихоти природы и внешне похожий на Никодима, которого он незадолго до римской трагедии сменил на посту главы Отдела внешних церковных сношений.
О ссылке думать не хотелось. Я шагала взад и вперед по комнате, подбирая благоприятный аналог. В мыслях, сменяя друг друга, мелькали имена. Бродя вокруг да около, я оставалась под омофором Русской православной церкви, пока что-то, идущее по обочине, не блеснуло зеленоватым лучом. Приглядевшись, я увидела высокую фигуру, увенчанную невиданным по красоте головным убором, похожим на клобук, на переднем скате которого сиял огромный изумруд. Я вспомнила рассказ мужа: в парижском аэропорту он наблюдал воочию, как Илия, католикос всей Грузии, в то время еще недавно избранный, спускался – в полном облачении – по внутреннему эскалатору, сияя вправленным в патриарший убор небывалым изумрудом, но видавшие виды пассажиры, движущиеся навстречу, не удостаивали его ни малейшим любопытством.
Сияющий изумруд высвечивал блестящую карьеру, которую католикос, закончивший Московскую духовную академию и рано принявший монашество, начал ректором духовной семинарии Грузинской православной церкви. Муж нет-нет да упоминал о новом католикосе, выказывая неизменное восхищение: красавец, умница, воплощение грузинской чести. За прошедшие два-три года, став президентом Всемирного совета церквей, Илия открывал действующие церкви, отстраивал монастыри, восстанавливал грузинские епархии. Эти сияющие перспективы виделись мне, когда я думала о будущей деятельности владыки Николая, первой ступенью которой должна была стать Ленинградская и Новгородская кафедра. Молодость, дипломатический опыт, Никодимова пасторская выучка… «Дай-то Бог!» – раскладывая диван, я думала о том, что, в конце концов, оба – и Николай, и Илия – советские люди. Это церкви вроде бы разные. Страна-то – одна…
В этих мыслях я как будто шла по дороге и вспоминала хваткое солнце, обжегшее разъезженную глину. Словно вынутые из огромной печи, на ней лежали шинные колеи дурдомовской машины, а рядом – параллельно колеям – печатались следы резиновых сапог. Кто-то, ступавший широко и размашисто, ухитрялся совершать прыжки, противоречащие силе тяжести – посрамляющие ее законы.
Я раскинула диван и легла. Черная грушка настенного бра попалась под руку, и, дернув за шнурок, я закрыла глаза. На пороге яви и сна я погружалась в зеленый свет, несущий надежду. Степь да степь круго-ом, путь дале-ек лежи-ит… – голос отца Глеба, но чистый и лишенный скверности, затянул песню, и странный надтреснутый звон захрустел на моих зубах. Тревожный звон, пересыпанный песчинками, дрожал все сильнее, и, приподнявшись, я обвела глазами комнату, в которой похолодало.
Теперь, кажется, совсем проснувшись, я лежала, приподнимаясь на локте, и слушала звон, пытаясь обнаружить его источник. Звон, не похожий на телефонный, шел откуда-то сбоку, словно сочился из-под стены. Комната выглядела сумрачно. Серая полумгла лежала по углам, как в белые ночи, когда время не относится ни ко сну, ни к яви. Ежась от холода, становящегося нестерпимым, я потянулась за одеялом. Сбитым истерзанным комком оно лежало в ногах. Вкрадчивый звон, терзающий уши, доносился от самой двери, и, выглядывая из-за диванного подлокотника, я пыталась разглядеть то, что лежало на полу сероватым свалявшимся комком.
Это что-то, не то мешок, не то забытая половая тряпка, на самом деле было ни на что не похожим. Подобравшись к самому краю, я смотрела, как, шевельнувшись, оно обрело очертания и серо-зеленый цвет. Тревожный звон рассыпался гадким хихиканьем, и маленькие сморщенные ручонки, высвободившись из тряпичной кучки, потерлись одна о другую. Они были сухими и тощими, как лапки богомола. Острая мордочка, иссеченная морщинами, ткнулась в них подбородком, и два внимательных глаза, приглушенных складчатыми веками, остановились на моем лице. «Дрянь, – я сказала тихо, – гадина и дрянь. Не смей смотреть на меня». Веки моргнули припухлыми складками. «Тряпка, гнилая тряпка. Только посмей, только посмей раскрыть свой поганый рот».
Посыпалось бессмысленное хихиканье, словно сама мысль о разговоре рассмешила помоечную тварь. «Сейчас я доползу до лампы, дерну шнурок, и ты снова станешь тряпкой. Утром швырну в вонючий бак, поняла, гадина?» Решившись, я двинулась на локтях к лампе. У двери присвистнуло и отдалось торопливым шорохом. Мелко перебирая задними лапками, существо зашуршало по полу, в обход. Добравшись до лампы, оно притулилось к креслу. Больше не решаясь тронуться с места, я замерла.
Холод, сквозящий от пола, пробивал стеганую вату. Оно сидело, не двигаясь. Сероватый свет сочился сквозь плохо задернутые шторы, и в этом освещении я сумела рассмотреть: продолговатое тельце, покрытое некрупной чешуей, длиною не более полуметра. Время от времени его сотрясала судорога, и тогда, будто меняя угол чешуйчатого отражения, существо меняло цвет. Обливаясь то серым, то зеленым, оно приглядывалось и прислушивалось, силясь понять мой язык.
Наверное, прошло какое-то время, потому что, сидя под ватным одеялом, я сумела унять дрожь. Челюсть, ходившая ходуном, замерла, как вправленная, и в кончиках пальцев затеплилась кровь. «Скоро рассветет», – челюсть стукнула предательски. Оно отозвалось короткой судорогой и потерло ручонки. «Отвечай или убирайся!» – я крикнула, не узнавая своего скверного голоса.
«Да ладно чибе… Чи думаешь, чибе свет поможет?» – оно хихикнуло. Отвратительный щебечущий звук царапал барабанные перепонки. Обеими руками я зажала уши и зажмурила глаза. Не видя и не слыша, я пыталась собраться с мыслями. Они разбегались в разные стороны. «Инопланетный… галлюцинации… покушение…»
«Вот уж глупосчи, глупосчи, сущие глупосчи, никак от чибя не ожидал! Чи же – непоседа, чуть что, в монастырь, неужто там не насмотрелась?» – оно чирикало и терло ладошки. «Давай, давай… Не вижу и не слышу», – не отнимая рук, я бормотала сквозь зубы. «Так-таки не бывает. Обет есть обет: или чи не видишь, но говоришь, или молчишь, но видишь?» Оно разговаривало со мной, как будто заранее знало мои мысли. В земноводных устах они звучали гадостно. «Чирикало гнусное!» – я вытерла губы, словно глотнувшие отравы.
«Ах, извините, – оно чмокнуло, – вам, ленинградцам, не потрафишь, чуть где областной говорок, вы уж и нос воротите, не так, мол, произносим, не оттуда, мол, прибыли. А то еще, скажи, понаехали. Дескать, не народ, а толпа… Ладно, изволь, буду ломаться по-вашему, по-ленинградски… А между прочим, абсолютное большинство граждан этот ваш гонор не одобряют. Осуждают, можно сказать». – «Говори, что надо», – мало-помалу я начинала приходить в себя.
«Вот так-то лучше! Да брось ты кутаться, можно подумать, окоченела. Не так-то и холодно, если рассудить здраво». – «Это ты-то – здраво? Судья зеленая!» – «А чего? Не хуже других, – оно буркнуло и обиделось. – А может, еще и лучше, смотря у кого спрашивать. Иные, ежели бы могли, уж всяко предпочли бы меня. Я, если хочешь, расстрельные списочки не подписываю». – «Ага, – я откинула одеяло, – ты только нашептываешь, а перышком водят другие. Интересно, как их потом по вашему ведомству награждают? Что им там полагается?»
«Помойная яма». Он ответил кратко. Гнусный звук, терзающий уши, исчез. Голос обрел спокойную ясность, словно отроду принадлежал ленинградцу, имеющему вкус к словам. «Помойная яма полагается всем, и тем, и этим, нечего ваньку валять», – рывком я дернула подушку и пихнула себе под бок. «Не-ет, вот этого ты не доду-умала, яма яме рознь», – подтянувшись, он перевалился в кресло и сел поудобнее. Невесть почему, я успокоилась. Сидящий в кресле становился подобием гостя. «Ну и черт с ним, – я сказала себе, – в конце концов, как пришло, так и уберется». Как будто услышав, он глянул внимательно.
«Послушай-ка, – неожиданная мысль пришла мне в голову, – ты там, у вас, кто?» – «Кто – кто?» – он повел острым ухом. Судорога отвращения прошла по спине: «Не знаю, по иерархии: старшина, рядовой, не генерал же?» – «Чего это?» – он чавкнул недовольно. Отведя глаза, я поежилась: «Ну, в книжках, почитать, вы, как это, вроде бы человекообразные, а ты больно уж… пресмыкающийся». – «Не вижу особой разницы. А что до величины, так каждому – по его грехам». – «Значит, если, например, к убийце – шлют кого покрупнее?» – «Чи что, дура? – забывшись, он снова сбился на говорок. – У вас энтих убийц, считай, полнарода. Ежели к каждому крупного слать – крупных не хватит. С убивцами вашими – задача простая, к ним – любой дурак рядовой…» – он вскинулся и присвистнул. «Сам дурак, не свисти», – я сморщилась злобно. «А чо, денег не будет? Так мне не надо, я и на дармовщинку могу, халявой, не хуже вас, совейских», – поелозив тощим задом, он устроился поглубже.
«Значит, рядовых – к убийцам… А ты, по всему видать, не рядовой?» – «Этого тебе знать не положено, а то возгордишься, возомнишь о себе». – «Ладно, – я сказала примирительно, – не положено, так не положено, только не верится мне, что ты там, у вас, – в генералах». – «Нету у нас генералов, – опять его голос стал ясным и серьезным. – Там, у нас, другие чины». – «Это какие ж? Штатские, что ли?» – «А как поглядеть. Я вот, к примеру, архимандрит». – «Чего-о?» – я протянула презрительно. «А тебе, гляжу, подавай бородку благообразную, клинышком, или подрясничек, веревкой препоясанный, а то еще, бывает, зевки крестят и ручки суют в рукава… – он расхихикался, довольный. – Я ведь вот что подумал: кто в рукава, а кто и в брючки, если взять по-вашему, по-скитски!» – откинувшись, он почесал брюхо.
«Заткнись. Мальчишка – больной», – я огрызнулась, защищая. «Да у вас каждый второй – больной, и ничего не поделаешь, вырождение-с… – он гладил начесанное брюхо. – Ну-ка, – подмигнул глумливо, – сравни фотографии: до и после». – «Хорошо, что вас не коснулось!» – мне хотелось плюнуть в глумливую рожу.
«Какое там, не коснулось, и-и-и! – он завел тоненько, по-поросячьи. – Вот, взять меня, раньше-то я – красавец!» – он завертел головой, охорашиваясь. «Тьфу! – я плюнула. – Значит, говоришь, архимандрит. А главный ваш кто – поди, патриарх?» – «Князь, – он ответил и причмокнул. – Это вы своих шпокнули, а мы бережеем». – «Заткнись! Шпокнули! Кто это – мы? Я, что ли, их шпокнула? Меня и на свете-то не было, и нечего глаза колоть». – «Во-от! Ты-то и выходишь дурой. Те-то, кто сам, может, хоть порадовались, прия-ятно кровушкой побаловать. А вы-то – так, уродцы в чужом пиру…» – «Уродцы?! – отшвырнув подушку, я села руки в боки. – На себя гляди, гадина!»
«Знаешь, – он почесал за ухом, – а ты мне нравишься. Как это говорят, непуганое поколение. С вами надо работать творчески. Между прочим, тяжелая работа – берешься как с нуля. Эти, до тебя, ну сама скоро узнаешь, с ними попроще, но – нет, не интересно», – он шарил вертлявой мордой. «А ты, значит, при исполнении? И долго тебе еще творить? Вон, весь в морщинах, на пенсию не скоро?» – «Эх! Да кабы моя воля, я бы когда еще! В этом, как его, год-то, когда съезд ваш знаменитый… Да, видно, не пришло еще времечко бока отлеживать. Родина-ваша-мать в опасности. Годков этак тридцать-сорок еще покру-утимся! А то и все пятьдесят». – «А потом что же, сгинете?» – я натянула одеяло. «Сгинуть – не сгинем. Другие придут, помоложе», – он замолчал и задумался.
«В сущности, в этом и заключается связь времен… – ручонка поднялась и вывернулась раздумчиво. – Старики, вроде нас, уходят, молодые приходят. А что поделаешь? Как говаривал апостол Павел, с каждым поколением нужно разговаривать на его языке. Мы вот – романтики», – сведя кулачки, он потянулся. «Врешь, – я сказала уверенно, – апостол Павел говорил: с каждым человеком». – «Во-первых, ты-то откуда знаешь? Там давным-давно все застроено. А во-вторых, какая разница?» – острые глазки сверкнули хитро. «Такая! Нечего придуривать, сам все понимаешь». – «Я-то понима-аю… А вот ты! Эпоха! Шестьдесят лет назад! Десятилетия! Такие, вроде тебя, напридумают, а нам – разгребай», – он сморщился и пригрозил пальцем. Холодная волна, сводящая зубы, поднялась по мановению. Язык распух и прилип к гортани, словно холод, исходивший из его пальца, лишил меня речи. Сглатывая всем горлом, я задохнулась и раскашлялась. Он сидел, пережидая приступ.
Ледяной воздух царапал бронхи, проникал до корней. Стараясь дышать тише, я вытерла мокрые щеки. «Плачешь?» – нарушая молчание, он спросил заботливо. Я дернула щекой. Мною овладевало странное бессилие. Гнусная тварь, по-хозяйски развалившаяся в кресле, подчиняла мою волю.
«Человек… Поколение… Еще не хватало здесь, – я забыла слово, – политинформацию…» – спиной я чуяла голый бесстыжий бетон. В собственной комнате, как в склепе, я собралась из последних сил и вытерла рот: «Говори, что надо, и уходи».
«Да-а… – он протянул разочарованно. – Все-таки ты мало читаешь. Взять твоего любимца, Фому. Сам, как ни крути, человек, а писал, вишь ты, прямо от лица поколения. Жаль, главной его книжечки ты так и не удосужилась!» – «Кто?» – я спросила, не удержавшись. «Вот такто лучше, – он поерзал в кресле. – Роль ученицы тебе к лицу. Вообще-то, должен признать, ученица из тебя хорошая. Прямо скажем, талантливая. И учителей выбираешь с умом». Каждое слово, сказанное тварью, било в сердце. «Ах да, – он присвистнул. – Что это я? Теперь-то дело другое, теперь тебе и спросить некого! Ну спроси хоть у мужа. Поди, спрос – не грех. Грех-то венцом прикрыт? А? Кстати, чего это он так упирался, когда ты его – к венцу?» – хихикнув, он откинулся. «Не твое дело!» – я кусала губы. «Не мое, не мое, я – сторона, это ваши игры, монастырские. А здорово ты отца Иакова обломала, раз-два и готов! Вот это по-нашему», – распустив лобные складки, он сопел одобрительно.
Глядя на меня пристальными туманящимися глазами, он жмурился, как от солнца. Монастырское воспоминание дарило его наслаждением. Глаза, глядевшие неотрывно, дрогнули оплывающими зрачками, и длинная волна, похожая на судорогу, изогнула жалкое тельце. Цепляя подлокотники всеми пальцами, он дышал, отводя глаза. Наливаясь отвращением, я смотрела, но не видела земноводной твари. На моих глазах, упустивших последний миг, случилось необъяснимое превращение. В кресле, легко и свободно откинувшись, сидел человек. На вид ему не было и сорока. Болотная бледность покрывала черты, неуловимо сходные с исчезнувшими. Туда же гнул и костюм с серо-зеленой искрой. Я не заметила, как в его руках оказался портфель, откуда, запустив пальцы, он вытянул мелко исписанный лист. Пробежав, кивнул удовлетворенно и поднял холодные глаза.
«Если здесь ничего не напутано, вы хвалились, что умеете угадывать то, что написано в чужих книгах? Растить их слова в своем чреве?» – перейдя на вы, он улыбался. Холодный вежливый голос терзал меня. Я кивнула. «Тем лучше. Значит, нам будет проще договориться», – он отложил исписанный лист. «Догово… А кто это за мной записывал? – Желудок сжался, и, сводя взмокшие ладони, я выдавила: – Договориться – о чем?» Короткая судорога повела его шею. Он кивнул и отложил.
«Так, – холодный гость сверкнул внимательным глазом. – Начнем сначала: с книг. Прошу учесть, что все, прочитанное тобою, доставлено сюда при нашем попустительстве. Если бы мы не хитрили с таможней, где бы ты взяла свои книги?» – «Я бы их угадала», – чуя холодную стену, я думала о том, чтобы отвечать достойно. «Угадаешь, еще угадаешь, конечно, если мы позволим, – он кивал. – Позволим и благословим. Говорят, без нас ни одна хорошая книжечка не пишется, – в голосе вскипала угроза, – а впрочем, скоро узнаешь и сама». Я заметила: со мной он – как монастырские, на ты.
«А знаешь, что особенно смешно? – он оживился. – С учителем-то твоим… Училась, училась, а главному не выучилась: в этой стране за спросом ходят к нам. Ежели мы благословим, тогда-а! Вон, твои обновленцы. А, – он махнул рукой. – С ними – дело прошлое. Кстати, учитель твой неужто не рассказывал? Уж мы с ним, было дело, повози-ились… Крутился, как черт под вилами. С его-то собственной, а главное, семейной историей… Дура! – он озлился. – Придумала: пощадили и выпустили. Неужели за границу – за так? А ну-ка, спроси у мужа». – «Гадина. Врешь ты про Митю… Я не верю».
«Не хочешь, не верь. Считай, мои выдумки. Лично мне, – он заговорил мягче, – выдумки нравятся, особенно – твои. Как же там?.. – снова он взялся за лист. – Нда-с, передается по крови, согласен, это – хорошо. Это раньше, дескать, каждый сам по себе. Не хочешь, сиди, мол, дома, а уж пошел в бордель – там постыдные болезни, как говорится, грезы любви… А тут и ходить не надо… Считай, в борделе… Да ты и сама скоро узнаешь, когда прочтешь», – порывшись, он вынул темно-синий том. Серебряные буквы, пропечатанные на обложке, дрожали в моих глазах. Я силилась рассмотреть, но рука, качавшая книгу, вывернулась так, что мне досталось одно только слово: Доктор…
«В первый раз напечатали в год твоего рождения, – он завел как ни в чем не бывало, – но теперь – библиографическая редкость, нету и у дочки твоего профессора, там, на Исаакиевской, – он произнес с нажимом, – нечего и спрашивать, но скоро, совсем уже скоро они издадут снова, уже готовят, и знаешь где? Ты будешь смеяться: в Узбекистане. А зачем нам здесь, в России? Нам в России этого не надо – пусть чучмеки читают. Кажется, страна одна, ан нет… Ты ведь любишь все путать, например, с Грузией…» – он хохотнул и сунул книгу в портфель.
«Но что мне особенно понравилось, – сжав кулаки, зевнул сладко, – так это твоя выдумка о первородном русском грехе…» – «Это не выдумка», – я возразила твердо. «Ладно, не надо придираться к словам. Если тебе приятно, назовем не выдумкой, а догадкой, хотя, говоря откровенно (с умными собеседниками и мы откровенны), для нас-то – никакая не догадка, а самый обыкновенный инструмент. Крючок для рыболова… кадило для дьякона… карандаш для писателя… Вот именно – карандаш», – он замолчал, раздумывая.
Безвольным комком, похожим на половую тряпку, я следила за его руками, в которых, как по волшебству, явился тряпичный мешок. Он был точь-в-точь моим, если бы не грубый шнурок, похожий на веревку. «Вещественное доказательство», – собеседник произнес веско. Растянув во всю ширь, словно ослабив удавку, он запустил пальцы и разложил по столу: чай, сахар, помойные варежки. «Ваше?» – обратился вежливо. Косой ярлычок с пометкой tax-free завернулся угодливым крючком.
«Странно все-таки получается… Продукт, купленный за границей, как говорится, на твердую валюту, и где мы его находим? В пе-ре-да-че», – он произнес раздельно. «Это… в больницу», – изо всех сил я прикусила губу и сглотнула солоноватое. «А вот врать нам не на-адо, – он протянул с удовольствием, – тем более так – неумело. Меховые варежки в больнице – без надобности. Нет. Не вы-хо-дит!» – разводя руками, он клонил подбородок к плечу. Серый оконный свет заливал прямые волосы, разложенные на косой пробор.
«А выходит совсем другое. Выходит, к чему-то готовимся… Может, к побегу?» – закинув руку, он пригладил плоский затылок. «А зачем мне бежать? Я – человек свободный». – «И давно ли?» – уточнял деловито. «С рождения», – теперь, ответив достойно, я не опустила глаз. «Приятное исключение, чего не скажешь о других, – голосом он выделил гадко, – о тех, которые ничего о себе не возомнили и знают – что почем. Уж они-то мешочки не складывают, потому что варежками от нас не откупишься, – поднеся к носу, он сморщился от помойного запаха. – Готовься не готовься, а просто так от нас не сбежишь. Кстати, не доводилось ли тебе?.. Короче, есть тут одна теория, сейчас не вспомню ни автора, ни названия, но общий смысл тот, что ад, – дознаватель улыбнулся тонко, – одно из тех трансцендентных пространств, каковые либо существуют для всех, либо вовсе ни для кого. Этот автор вывернул так, дескать, ни единый праведник, узнай он о существовании ада, не насладится собственным райским бессмертием. Не-ет, прижизненная безгрешность ни при чем, тем более здесь, среди вас, где нет и не может быть праведников. Откуда взяться! Все измазаны, – словно нюхая варежку, он протянул брезгливо. – Единственное, что еще попадается, так это сострадание. Прогрызливый червячок точит изнутри. Впрочем, теории, и эта – не исключение, плохи именно тем, что не каноничны. Любая из них отдает душком обновленчества. Для многих он – хуже серы». Я слушала, вникая с трудом. Знакомые слова, произнесенные глумливым голосом, не смыкались со смыслом.
«Уж сколько их, готовых отдать свою душу, – пальцем он очертил аккуратную ровную окружность, – лишь бы соблюсти предписанные каноны…» – «Это – вина властей». – «Брось! – он отмахнулся беззлобно. – Давно-о я замечаю за вами эту паскудную манеру: валить на нас, как на мертвых. На самом деле всегда побеждают те каноны, ревнители которых ловчее договорятся. В эти мелочи мы не вникаем. Договорились с властями, и – ладушки. Уж я-то помню, как юлили и те и эти, только где уж там обновленцам! Хитрости маловато! – он пригладил пробор и покачал головой. – Не-ет, как частное лицо, я никак обновленцев не одобряю. Это надо ж – сотрудничать с большевиками! Однако, если уж, как говорится, считать по осени, то праведные, церковные цыплята, с нашей точки зрения, вышли ничуть не хуже. Что в лоб, что по лбу, но! – он воздел острый палец. – Честное имя этого патриарха возносили на литургиях в полном каноническом соответствии. А в сущности, не случись англиканского архиепископа, вря-яд ли славный генералиссимус завел бы волынку с патриаршеством! А тут – оп! – все одно к одному, и договорились славно: мы вам невмешательство в вашу литургическую жизнь, а уж вы нам – вечную патриаршую поддержку в нашей внутренней, но особенно внешней политике. Нормальный ход. Наши – в дамки, ваших нет. И где они – ау-у! – романтики-обновленцы!» – «У патриарха не было выбора», – слезы бессилия вскипали в уголках глаз.
«У него, но не у тебя. А значит, мы подходим к главному».
Он вцепился в подлокотники и изогнулся, щурясь. «Ломает?» – я догадалась гадливо. «Уколоться пора», – он буркнул и полез в портфель. Медицинский чемоданчик блеснул металлическим боком, и, ловко управившись, серо-зеленый выпустил струйку из иглы. Резиновая петля обвила заголенное запястье и затянулась – сама собой. «Не желаете?» – предложил вежливо. Я отшатнулась.
«Ну, ну, и правильно, лекарство – дело вредное, – он занес и вонзил. Прозрачный столбик, полнивший шприц, медленно вливался в вену. Откинувшись, он прикрыл складчатые веки. – И правильно, и правильно… Лечиться надо народными… Народ всегда прав… Народ всегда поддержит… – бормотал, заговариваясь. – Я была всегда с моим народом… Хорошо написано, от души! – лекарство дошло, голова дернулась и воспрянула. – Да, о чем бишь я? О главном, – глумливая улыбка растеклась по губам. – А главное для нас — что? Свобода. Свобода или смерть?!» – рявкнув, он изогнулся фертом.
В тишине стучала зубная дробь. Вцепившись всеми пальцами, я сдерживала челюсть, но она, сведенная ужасом, выбивалась из-под руки. «Шучу, – он пригладил волосы, – в смысле преувеличиваю. Но не сильно. Так сказать, заостряю проблему. Короче, дело к ночи, в смысле – к достойному концу, который, если доброхот вроде меня не вмешается, грозит стать недостойным. Эй, ты чего там, уснула?»
«Ты сгинешь?» – подняв голову от подушки, я спросила тихо. «Я-то сги-ину, – он махнул рукой, – а ты останешься и будешь сигать к открытым форточкам и сеять крупу. Насеешь и станешь дожидаться всходов: хороша каша, да не наша. А как же учитель? Его дело совсем плохо. Да ты и сама знаешь – беда! А ведь, помню, предупреждали. Обещал. Поверили. Мы, если надо, тоже людям верим – не хуже твоего. Однако веры в таких делах маловато. Долг платежом красен. Это я – про тебя. За других вольно́ рассуждать, дескать, ученик покойного. Как же так: испугался, не сумел, не решился высказать всю правду? А ты попробуй – за своего постой».
Медленно, словно выжимали по слову, его голос проникал в мое тело, бродил по измученным венам. Я чувствовала себя ссыхающейся оболочкой, из которой вытянули все внутренности умелыми крюками. Он выговорил все, что я и в самых последних мыслях не решалась выговорить.
«В этой стране ни черта не вырастет», – я услышала голос и подняла веки. Близко сведенные глаза смотрели на меня неотрывно, словно силились разглядеть, что у меня внутри. Над поднятыми земными пластами, как над разверстой могилой, мы стояли друг против друга. «Ни черта не вырастет, – он повторил медленно, – но ты, тебе я предлагаю помощь, всего лишь безвозмездную помощь. Никакой торговли, я – не процентщик и не торгаш, вроде ваших, церковных. Все, что от тебя требуется, – признать нашу безграничную власть, и мы спасем одну неприкаянную душу. Забери, – он пододвинул. – Это больше не нужно. Забирай и решайся, время – к утру».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































