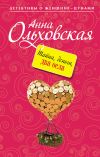Текст книги "Неприкаянный дом (сборник)"
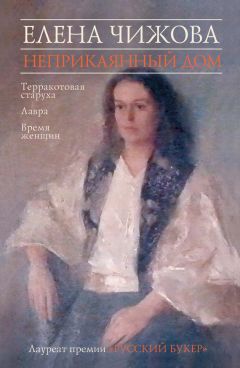
Автор книги: Елена Чижова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 56 страниц)
Между тем карьера отца Глеба развивалась быстро и успешно. На моих глазах – в течение наших двух безмятежных и невинных лет – он получил приход, правда, довольно скромный, но кроме того – почти на исходе двухгодичного срока – был назначен на должность преподавателя гомилетики. Помню, как они с мужем обсуждали приказ владыки, а я, удивляясь слову, вспоминала разве что профессора, уличавшего семинаристов в курении с блудницами. Теперь я спросила, и мне объяснили суть: гомилетика, вспомогательная богословская наука, которая изучает теорию собеседования и церковной проповеди. Насчет собеседования – после наших с отцом Глебом ночных разговоров, в которых он выказал себя истинным виртуозом, – у меня сомнений не возникло. А вот что касается проповедей, тут я действительно удивилась.
По моим представлениям, педагог, обучающий семинаристов проповедовать, должен обладать артистическим даром, способным зажечь массы. Что-то вроде Савонаролы – другого примера мне в голову не приходило. Отец Глеб не был похож на Савонаролу. На амвоне его голос был тихим и слабым. Чтобы ясно расслышать, нужно было подойти близко. Пытаясь говорить громче, он напрягал связки, отчего голос становился напряженным и высоковатым – скверным. Мало того, не умея послушать себя со стороны, он старался говорить напевно. Эта напевность пробивалась через нос. В общем, будь отец Глеб чужим, я назвала бы его голос козлиным. Сами же проповеди – к тому времени мне довелось слышать его не раз – представлялись мне тусклыми. Грешным делом я подумала, что наш институтский философ, застывший на греках и римлянах, вспыхивал ярче. Обычно отец Глеб начинал с Праздника и, танцуя от него, как от печки, произносил простые и обыденные слова, не имеющие ничего общего с тем тайным и пугающим накалом, полыхавшим в речах и проповедях владыки. В его глазах, время от времени поднимавшихся на прихожан, не было и следа той жесткости, которая так поразила меня однажды. Поразмыслив, я пришла к выводу, что форма и содержание этих проповедей как раз и соответствуют маленькому приходу, на который отец Глеб был назначен. Тут я почему-то сказала себе: на пробу. Может быть, владыка думал о том, что небольшая постоянная аудитория, собиравшаяся в маленьком храме, не нуждается в пламенных проповедниках. Местные бабки не очень-то прислушиваются к речам. Конечно, этими мыслями я не поделилась даже с мужем, опасаясь его резкого отпора – за друга он всегда готов был вступиться. Но сама я никак не могла понять, почему владыка Николай, умеющий распознавать самое важное, дал отцу Глебу гомилетику. Неужели под слабым, обыденным голосом отца Глеба он расслышал силу и мощь прирожденного, но никак не проявившего себя проповедника? Почтение, которое я испытывала к Николаю, все больше склоняло меня к мысли о том, что он – сумел.
Кажется, не я одна замечала недостатки его голоса. Ближе к весне владыка Николай распорядился, чтобы отец Глеб брал уроки сольного пения, которые в Академии вели консерваторские преподаватели. Это называлось постановкой голоса. Об уроках мне рассказал муж. Сам-то он обладал великолепным баритоном и замечательным музыкальным слухом. С высоты этих достоинств он, воздевая руки к небу, и рассказал мне, как его друг, страдая и заставляя страдать несчастного педагога, распевает итальянские народные песни. «Прибавь сюда его итальянский, да и прононс – тот еще!» – «Неужели по-итальянски?» – «Именно!» – муж отвечал с истинно филологическим высокомерием. Поймав его на этом грехе, я и ляпнула о Савонароле, дескать, вот немножко обучится итальянскому, поставит голос и возьмется клеймить нас позором – за грехи. Видимо, эта мысль показалась мужу столь нелепой, что он весело посмеялся в ответ: «Воистину Савонарола! Правда, тот, насколько я помню, пылал во Флоренции, а наш – все больше у воды, по венецианским каналам путешествует…»
Уроки итальянского пения продолжались с завидной регулярностью. Педагог встречался с отцом Глебом два раза в неделю, однако дело двигалось медленно. Прошло месяца два, но они все еще топтались на песне гондольера. В общем, я не могла не напроситься послушать.
Я пришла вечером, после службы. Студенты, успевшие переодеться в штатское, уже сбегали вниз по лестнице, уходя в город. Хихикнув про себя, я подумала: к блудницам. На бегу они вежливо здоровались, оглядывая меня удивленно; в Академию я ходила редко, да и час был поздний. Комнатка, приспособленная под уроки пения, располагалась в подвальном этаже. Нужно было спуститься по лестнице и, пройдя через улицу, зайти в боковое крыло. Отец Глеб появился в конце длинного, в этот час темноватого коридора, ведущего в покои ректора. Он приближался стремительно. Полы подрясника развевались, словно раздутые ветром. Сосредоточенно глядя вперед, он шел по красному ковру, выстилающему подходы к покоям. Он подошел совсем близко, и, здороваясь, я вдруг заметила странное: один его глаз косил. «Есть новости, – он обратился к мужу растерянно и напряженно, – потом, позже, вечером». То ли не хотел при мне, то ли боялся испортить рассказ, выложив на ходу. А может быть, медлил, чтобы собраться с мыслями. Похоже, новости были серьезными: я видела, как глаза мужа собрались, словно он заранее знал, о чем речь. Между тем отец Глеб не спешил трогаться. Топчась на месте и оглядываясь, словно нас могли подслушать, он то опускал глаза, то брался за наперсный крест, то снова смотрел на нас пустым отсутствующим взором. Наконец, не выдержав, я спросила – идем? «Да, да», – как будто очнувшись, он повернулся и поспешил вперед – вниз по узкой лестнице. Входя в боковое крыло, я услышала тихий голос, бубнивший словно бы из-под лестницы: «Се, Аз возгнещу в тебе огнь, и пожжет в тебе всяко древо зеленое и всяко древо сухое», – наверное, кто-то из семинаристов готовился к службе. Машинально я подумала, что так – на Аз – говорит Бог, и вдруг, безо всякой видимой связи, вспомнила, что однажды, обсуждая со мной очередную проповедь отца Глеба, муж указал мне на одну грубую ошибку: по правилу гомилетики проповедник не имел права употреблять местоимения я и вы, исключительно – мы. Это правило отец Глеб всегда нарушал – как выразился муж – простодушно.
Комнатка, в которую мы вошли, была маленькой. В углу стояло пианино, за которым, разложив ноты, ожидал седой человек. Отец Глеб извинился, сославшись на вызов к ректору, и сразу же встал к инструменту. Не выказывая ни тени неудовольствия, педагог опустил пальцы на клавиши. Муж вышел из комнаты, я, боясь помешать, села в угол. Дальнейшее превзошло мои ожидания.
«Ну что ж, начнем как обычно», – тихим и мягким голосом педагог дал ноту. Поправив наперсный крест, отец Глеб вступил. Неверным тенором он пел простую распевку, которой когда-то давно мы распевались в школе: «Лё-о-о-о, лё-о-о-о», – все выше и выше, словно поднимаясь по ступеням. То есть он должен был подниматься по нотному стану, но голос, не похожий на голос, не слушаясь нот, петлял, мучительно не попадая в звуки. Ступени шаткой лестницы, по которой он напряженно и сосредоточенно двигался вверх, скрипели под ногами, выскальзывали из-под ног. То выше, то ниже – он ступал и ступал невпопад. Сидя в своем углу, я никак не могла понять, что же смешного находит в этом муж. Черная фигура, украшенная тяжелым золотым крестом, со страдальческим упорством стремилась туда, куда легко, не напрягая голоса, я могла взлететь, встав на его место. Я сдерживала себя с трудом: мне хотелось прийти на помощь, встать рядом и вступить. Так, как я встала рядом с Лилькой, так, как он сам встал рядом со мною, обещая быстрого Ангела. Мое тело напряглось. Я уже вставала, но тут, помогая себе, он взмахнул руками: широкие рукава подрясника соскользнули с запястьев к локтям. Из-под гладкого черного сукна красноватым отсветом вспыхнула толстая фланелевая рубаха. Педагог снял руки с клавиш. Распевка закончилась. Безо всякого перехода они приступали к основному уроку.
Лицо пианиста стало собранным и точным. Устремляясь ввысь из маленькой комнаты, звуки уходили туда, где не было скверных голосов. Невольно я посочувствовала педагогу: после консерваторских учеников такие уроки были испытанием. Отец Глеб не слушал. Я смотрела, как, все сильнее кося глазом, он уходил в себя. Музыка прервалась, педагог увидел ученика и кивнул. Тихо и уважительно он сыграл вступление. Отец Глеб начал.
Сквозь двойную полосу звуков – пения и музыки – я услышала какое-то всхлипывание и, покосившись, увидела – сквозь проем полуоткрытой двери, – как муж, налегая грудью на стол, всхлипывает и вытирает глаза. Очки лежали рядом. Неуемный хохот сотрясал его. Поймав мой взгляд, он застонал коротко и махнул рукой. Отец Глеб подходил к припеву. Я видела, как педагог, взглядывая снизу, хочет помочь. Помимо воли его губы складывались и шевелились, как шевелятся губы взрослого, который кормит с ложечки малыша. Он очень хотел помочь, но музыка, льющаяся из-под его пальцев, не желала приходить на помощь: небрежно обходя голос, нежная мелодия уходила ввысь. Борясь с подступающим смехом, я смотрела на косящий глаз и вдруг вспомнила, как – ужасно похоже – скосился муж, представляя сиамского близнеца. Чтобы не рассмеяться в голос, я принялась думать о том, как сейчас, не выдержав, педагог жахнет кулаком по роялю. Он должен был сделать это, прекратить, высказать все, что полагалось, любому ученику. Его музыкальные уши не могли это выдержать. Стоны, несшиеся из-за двери, становились слышнее. Не видя и не слыша, отец Глеб начинал второй куплет. Откинув голову, словно окончательно войдя в роль юного гондольера, он балансировал на узкой лодочной скамье, отводя руки в стороны. Широкие раструбы подрясника дрожали мелкой рябью. На лице выступило вдохновение. Темное тяжелое пламя, вырвавшееся из-под спуда, занялось в его глазах. Теперь он пел так, словно перед ним – на широкой необозримой площади – замерла толпа людей, собравшихся со всего света. Он пел для них дивную песню. Помимо воли я вспомнила давнюю картину: однажды к нам в школу пришел гипнотизер. В нашем классе он проводил показательный сеанс. Вызвав одну из девочек, он ввел ее в транс, внушил, что она – великая певица, и приказал петь. Скверным голосом выводя рулады, она сияла пламенными глазами…
Наконец, глубоко вздохнув напоследок, отец Глеб остановился. Педагог кивнул головой и принялся складывать ноты: «Сегодня лучше», – он хвалил тихо и смиренно. Я слушала, не веря ушам. Кивая в ответ, отец Глеб то потирал руки, то касался тяжелого креста. Муж входил в двери. Если бы не краснота растертых ладонями век, едва заметная под очками, я бы не поверила, что минуту назад он хохотал. «Ну как?» – отец Глеб обращался к нему серьезно. «Ну, конечно… намного…» – муж мямлил, поглядывая на меня. «Может быть, теперь вы, “Разбойника”, – педагог обратился к мужу просительно. – Для нашего удовольствия».
Отец Глеб подошел ко мне и сел рядом. Я покосилась на раструбы подрясника. Фланелевая рубашка больше не лезла наружу. Муж подошел к роялю. По памяти, не сверяясь с нотами, педагог взял аккорд. Из самой глубины, как будто вступая с какой-то скрытой, самой нижней ступени, муж начал сильно и торжественно: Жи-или двенадцать разбойников, жи-ил Кудеяр-атаман. Мно-ого разбойники про-олили крови честных христиан… Я слушала медленно нарастающие звуки. Низкий красивый баритон выпевал историю разбойника, который умер для разбойной жизни – стал монахом. Эта история никак не объяснялась, по крайней мере, я, привыкшая к книжным объяснениям, ничего не могла уловить. Все случилось вдруг, чудесным и полным образом, обходящим всяческие детали, словно они были чем-то вроде правильных нот, которыми – в особых случаях – можно легко пренебречь. Прежде я никогда не слышала этой песни. Необъяснимое и неожиданное завершение разбойничьей жизни тронуло меня. А может быть, не сама история, а голос, спевший ее. Тогда я подумала – проникновенно. Теперь, когда прошло много лет, я нахожу другое слово.
Отойдя от рояля, муж снял очки и вытер глаза. Конечно, это были не слезы, может быть, дневная усталость, скопившаяся под веками, однако теперь, когда я вспоминаю его песню, я всегда вижу руку, снимающую большие роговые очки – чтобы вытереть глаза…
* * *
Она, правая рука, двадцать лет назад вытершая глаза, лежала, прикрывая собой левую, когда я, с трудом переставляя ноги, подошла и посмотрела. Открытый гроб выставили посреди храма. Он лежал, убранный белым, – ногами к алтарю. Смертные покровы сливались с белизной облачений, в которых они – бесконечными парами – выходили к гробу из алтаря. Душный запах ладана завивался нерастворимыми струями, не давая дышать. С трудом переводя дыхание, я молилась о том, чтобы только не упасть – при них. Их, отпевавших его тело, собралось баснословно много, потому что ко дню своей смерти он успел принять сан и сделать церковную карьеру. Отпевание совпало с днем Преображения, и белые ризы, плывшие перед моими глазами, означали цвет праздничного чуда. Высокие голоса невидимого хора стремились ввысь, не приближаясь к земле. Облаченный в смертное, он лежал в самом сердце Праздника – его средоточием. Лицо, открытое во гробе, означало теперь уже вечную промежуточность его сана – между мирянином и иереем, но невиданная торжественность обряда эту промежуточность посрамляла. Из всех, чьего прибытия на церемонию ожидали до последней минуты, не было одного лишь владыки Николая, которому неотложные дела нового – московского – поприща не позволили приехать в Санкт-Петербург.
Они известили меня, но все сделали сами, потому что протодиаконский сан покойного и их прочное место в новом мире, пришедшем на смену старому, открывали самые высокие двери. Резолюция губернатора почтительно и благосклонно чернела на белом поле прошения, которым Московская патриархия вежливо осведомлялась о согласии властей похоронить новопреставленного на Никольском кладбище – в стенах Александро-Невской лавры. В последние годы он трудился особенно успешно и занимал несколько значимых должностей, так что несомненные заслуги перед церковью, упоминаемые в бумаге, позволяли хлопотать об особом месте. За места на Никольском кладбище власти, время от времени желавшие захоронить здесь своих, выкладывали большие деньги. Деньги поступали в городскую казну, поскольку формально лаврская земля, как и прежде, принадлежала государству.
В последние годы он страдал от сердечной болезни, двигался тяжело и одышливо, однако, ни на день не оставляя трудов, отказывался от операции, оплату которой брали на себя американские церковные фонды. Синий след мгновенно ударившей смерти был закрашен профессионально и тщательно, так что лицо, напоследок явленное прихожанам, выглядело спокойно и молодо, словно жизнь не оставила на нем ничего, кроме памяти. Я стояла над свежевырытой ямой, а по другую сторону, вглядываясь в меня со страдальческим упорством, стоял отец Глеб. Он смотрел неотрывно, как будто силился, пронзив мое сердце, окончательно и наверное узнать, что именно я принесла в жертву. Я думаю, ему бы понравился ответ.
В бумаге, которую мне, за отсутствием родных, выдали на руки, стояла причина смерти. Любой человек, доведись ему оценивать, назвал бы ее счастливой. Над могилой – их заботливым радением – поставлен дубовый крест изумительной красоты. Теперь, глядя в темное перекрестье, я с болью в сердце вспоминаю «Разбойника» и всякий раз вижу маленькую комнату, в которой они пели по очереди: один скверно, другой – прекрасно.
* * *
Все засобирались. Уже на ходу, складывая ноты в портфель, педагог сделал мужу несколько коротких замечаний. Наверное, он думал, что это можно спеть еще лучше. Наскоро они договаривались о будущем уроке, а я, отойдя к окну, ловила ускользающую мысль, как-то связанную с их сегодняшним пением. Она мелькнула во время «Разбойника», но тогда, вслушиваясь в слова, я потеряла ее. Теперь, начав от голосов, я вдруг поймала: тенор и баритон, страшная фантазия на русские темы. Я вспомнила Митино лицо, в котором попеременно то ломался уродливый кривляка, то шевелил губами угрюмый ненавистник. Ничего похожего в сегодняшнем пении не было. Я вообще изумилась тому, что это пришло: вдохновение отца Глеба ни капли не походило на изломанное кривлянье, я уж не говорю о «Разбойнике» – в песне мужа не было и тени угрюмой ненависти. Ругнув себя за нелепые мысли, как, бывает, ругают за длинный язык, я отвернулась от окна и вежливо попрощалась с педагогом.
Мы остались втроем. Их лица стали собранными, словно теперь, после окончания урока, мы возвращались к главному. «Ну?» – муж спросил тихо. Отец Глеб стоял отвернувшись к окну. Быстрая судорога прошла по его спине. Я видела складки, сморщившие подрясник. Он поднял руку и взялся за шпингалет. Рука цеплялась сведенными пальцами. Широкий раструб соскользнул вниз, открывая красную рубаху. Он взмахнул рукавом, словно, обернувшись, должен был увидеть толпу, собравшуюся на площади. «Владыка благословил меня духовником Академии и Семинарии», – отец Глеб произнес глухо, в окно, не оборачиваясь. «Ё-ёшкин кот», – муж протянул, и я переморгнула.
Отец Глеб обернулся. Косящий глаз, поразивший меня, встал на место. Они смотрели друг на друга, не обращая на меня внимания. «Так это же… чудо…» – муж отвел глаза и заходил по комнате. Он ходил и ходил, не останавливаясь. Его походка стала странной – развалистой и неуверенной, как будто, услышав сказанное, он разучился ровно ходить. Идя вдоль, он постукивал по стене костяшками пальцев. Звук был глухим и тусклым, словно не здесь, в комнате, а там – снаружи росло живое дерево и стучало ветками по стене. Отец Глеб стоял как деревянный истукан. «Вы можете мне, наконец?..» – сказала я, разозлившись. «Это означает, что с этого дня все они – студенты Академии и Семинарии – обязаны исповедоваться ему», – выделяя голосом слова, муж бросил отрывисто через плечо. Теперь он наконец остановился. Дерево, выросшее за стеной, свело ветви. «Ну и что?» – я никак не могла взять в толк. Деревянный истукан ожил. Отец Глеб повернулся ко мне. Теперь он смотрел на меня сияющими глазами, искал разделить свою радость. Глаза, устремленные на меня, ждали ответного сияния. Толпа, которую он ожидал увидеть, сократилась до меня – одной. «Это значит, – не глядя на нас, муж говорил как будто сам с собою, словно не мой раздраженный вопрос, а его собственные мысли заставили его заговорить, – это значит… Отец Глеб, я поздравляю тебя!» Шагнув навстречу, он свел руки и нагнулся в поклоне. Прекрасный баритон поклонился скверному тенору, так я подумала, вздрогнув.
Подняв кисть, отец Глеб сложил пальцы и перекрестил склоненную голову. Благословляющий жест был неловким и скованным, словно не рука – слабый побег, выбившийся из древесины, пророс его пальцами из темного сухого ствола. В неверном свете единственной потолочной лампы его кисть действительно казалась зеленоватой.
Домой мы поехали на такси. Сидя в машине рядом с шофером, муж поминутно оглядывался на нас, сидевших сзади, и потирал руки. В ответ отец Глеб взглядывал коротко. Казалось, они ведут неслышный, но непрерывный разговор: время от времени на поверхность, как коряги из тихого омута, выныривали несвязные, но понятные им обоим восклицания: как в хорошей семье. Прислушиваясь, я поняла, что дело идет о каком-то противостоянии: университетские – с одной стороны, провинциальные – с другой, в котором, решая вопрос о назначении нового духовника, владыка принял сторону университетских. Сейчас они действительно походили на университетских. Сидя в машине, они перебрасывались короткими победительными фразами, и странная сцена благословения показалась мне придуманной, вымышленной, невозможной. Если бы я могла, я стерла бы ее из памяти, как стерла бы красную рубаху, напряженно косящий глаз и скверную итальянскую песню. Но самое главное, я стерла бы это страшное разделение, перешедшее в мое сердце из чужой фантазии, от которого теперь мне некуда было деться. Я думала о том, что, сделав первый правильный шаг – выбрав университетских, – владыка ошибся на втором: если бы он знал условия этого выбора, он ни за что не выбрал бы тенор. «Если бы он слышал их пение…» – судорожно я искала способ помочь. Нет, сегодняшний урок, окажись здесь владыка, ничего бы не изменил. Своими глазами он не увидел бы этого разделения, которое в его голове никак не соединялось с убитыми и убийцами. «Господи, – снова, опуская голову, я одергивала себя. – Что это я придумываю? Если и есть разделение на тенор и баритон, при чем здесь убитые и убийцы, зачем – в одну кучу, в той песне нет ни убийц, ни убитых, то есть убийцы есть, но они не поют, они приезжают на машине, а тенор с баритоном просто встречают их, это вообще один человек, раздвоение личности: народ-шизофреник. Он ищет для убийц иконы – рыскает по деревням… Это просто Митя, тогда он стал говорить, что никуда не деться, и песня попалась случайно – хотели-то “Рождество”». Я устала и откинулась на сиденье. Уже на излете я подумала о том, что, может быть, владыка прав, что не делит университетских на теноров и баритонов: наверное, в его деле этим разделением можно пренебречь.
«И все-таки, если бы пришлось мне, – уходя от сегодняшнего пения, я размышляла, успокаиваясь. – Если бы кто-то заставил выбрать меня, я выбрала бы баритон: в его памятливой ненависти больше…» Я не смогла подобрать слова. В моих ушах стоял низкий красивый голос, выпевавший «Разбойника», но разве я могла сказать, что в ненависти больше чуда и красоты? Сидя на заднем сиденье, я думала о красоте православного обряда, о том, что умей они прислушаться, редкие из разбойников смогли бы воспротивиться этой всеобъемлющей теплоте.
Мы уже подъезжали к Серебристому бульвару, когда неожиданно из темной широкой арки выскочил автомобиль – наперерез. Чудом наш водитель успел свернуть. Машину занесло и крутануло. Отвратительный скрежет тормозов резанул уши. Мотнув ушибленной головой, я открыла глаза и прямо у своих губ увидела глаза отца Глеба. Всей тяжестью тела, занесенного на повороте, он наваливался на меня. Медленно, словно время стало тяжестью, его рука раскрылась и цепко сжала мою. Он держал ее изо всех сил, не отводя от моих губ тяжелого лица. Замерев, я слушала всем телом. Впервые за два невинных года я почувствовала свое тело. Оно втягивало и отталкивало, словно я сама была крепким солевым раствором, а он входил в мои воды, как в Мертвое море. Боль, пронзившая голову, исчезла. В тишине, разлившейся над темной улицей, его рука дрогнула и разжалась. Под брань водителя, выруливающего от кромки, отец Глеб – тяжело и медленно – отодвинулся от меня.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.