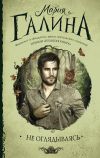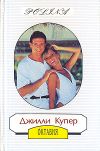Текст книги "Всё так (сборник)"

Автор книги: Елена Стяжкина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
За эти слова Люська хотела его убить. Но она не готовилась. Аффект же – плохой помощник в убийствах. Люська сломала Валерику нос. И он очень смеялся, рассказывая фельдшеру «скорой», что упал и ударился о тумбочку.
А в сентябре, который был ветреным, наполненным чаем с ромашкой, сушеной мятой на подоконнике снятой квартиры… В сентябре, который в один день стал желтым, а в другой – лысым… В сентябре, когда Катя уже называла меня мамой, а Валерик разворачивал систему кабельного телевидения…
В сентябре, когда мы оба поняли, что любим по-настоящему, не друг друга, а трагически разных людей, я сказала: «Давай разведемся…»
«Хорошо», – сказал Валерик. И ушел.
…Когда меня спросят: «Что вы делали в поздние восьмидесятые? Что вы чувствовали?» (интересно, кто меня спросит?), у меня не будет приличного ответа. Ни для поздних восьмидесятых, ни для ранних девяностых.
*
Для десятых и двадцатых тоже нет.
У меня нет приличного ответа по поводу того, что я делала все эти годы.
Или «варила мыло» подходит?
26 августа, раннее утро
Мы повезем бабушке Миле приглашение на свадьбу. А почему мы?
«Мы» – очень непостоянное занятие. Кто-то все время выпадает. Уходит, просеивается. В результате от «мы» остается только «я». И то очень сомнительного качества.
Но мы все-таки повезем бабушке Миле приглашение. Она накроет стол: оливье, «мимоза» с сайрой, сердце с корейской морковкой и грибами, худая утка, картошка-пюре.
Чтобы поместить Андрюшу, мы пересядем и на один стул будем ближе к бабушкиному креслу.
– Ужас! – кричу я.
– Что? Он ее бросил? – Сережа вскакивает с кровати, стремительно надевает джинсы и начинает метаться по комнате. – Говори! – кричит он. – Я смогу! Смогу это пережить! Убью его и смогу…
– Мы скоро допересаживаемся до дедушкиного места! – кричу я.
– Типун тебе на язык!
– Ну не скоро, ну когда-нибудь!
– Я не доживу, – обещает Сережа, снимает джинсы и возвращается в кровать.
Спать нам еще целых два часа.
27 августа
Приезжал Андрюша. Завтракал. По-семейному. Чтобы ему было комфортно, мне пришлось лить на голову воду, потом на нее же направлять горячий воздух из фена. Еще мне пришлось надеть «уличную футболку», испечь блины, пожарить котлеты, сварить овсянку, сделать салат из помидоров и огурцов.
Кроме головы, я еще помыла полы, плиту, Мишино лицо от шоколада.
Помыть лицо Сережи мне не удалось. Он решил остаться себе верным и грязным.
Андрюша пришел. Улыбался. Ел. Курил в вытяжку. Катя потягивалась и зевала. Пила молоко. Сережа и чайник кипели. Зря.
Андрюша сказал:
– В «Наташе» предлагают свое меню, свое спиртное и свою музыку. Где-то тридцать долларов на человека. И если в эту «Ларису» отвезти деньги прямо сейчас, то они сделают скидку. А еще в «Галине» бывают цирковые артисты. Нам надо?
На прощание он поцеловал Катю в губы, а меня – в руку.
– Какой бабник! Если по Фрейду! – прошипел Сережа в закрытую за Андрюшей дверь.
– Склеротик! Кафе называется «Ольга», – не согласилась я.
– Ой, ну не надо ссориться, – пропела Катя и обняла нас обоих. – Зато одно имя из девичьего списка мы можем вычеркнуть. Это же нехорошо, когда папа не может запомнить, как зовут дочь? И мы не будем напрягать папу. Так что Ольге – точно нет.
28 августа
Смотрели фильм «Отец невесты». Сережа сказал: «Ну точно про меня. Ненавижу этих Макензи».
Ходили на перекличку. Миша спросил: «Вы уверены, что школа – это обязательно?»
29 августа
Позвонила бабушке Маше. Зажмурилась и сказала:
– Это я, Наташа. Мама, – тут запнулась, – вашей внучки Кати. У Кати свадьба. Приезжайте.
– Деточка, – заплакала она в трубку. – Деточка… Мой Геннадий умер. Умер совсем. Его теперь вообще нет. Два месяца назад. И операция, знаешь, прошла успешно. Очень хорошие хирурги в Бакулевском центре. И дорого очень берут. За такие деньги можно было сделать и две, и три операции. Но сделали одну. Очень хорошую. Он хотел пить, курить и быть физически сильным. Сказал, что жить инвалидом-диетником не собирается. Только не вы́ходили мы его. Три месяца, деточка. Три месяца. И я сейчас уже в сорок втором размере. А ты, как обычно, в пятидесятом? Главное – это уход. Вся больница мне удивлялась. И кашки ему, и супчики, и все время рядом. А он, Гена мой, глаза откроет, посмотрит – и назад, в свой мир. Никогда меня в свой мир не пускал. И тут… То же самое. Взял и сбежал. Ему меня очень жалко было. Он ради меня только и жил. И умер ради меня. Чтобы я этими кашами не мучилась, через всю Москву не ездила. И Валера нам очень помог. За все заплатил. Ты помнишь Валеру? А теперь осталась собака. И эта собака, мы назвали ее Джерри, все время ждет Геночку. Но Геночка, как обычно, не приходит. А Джерри ждет. Мы ходим с ним гулять, и все прохожие смотрят на нас и очень сочувствуют, потому что мы выглядим красивыми, одинокими и неприкаянными. И как нам теперь жить, деточка?
*
«Ужас, – сказал мне когда-то давно папа Гена, – это если ты будешь надеяться на то, что он вернется. Или кто-нибудь. Вернуться можешь только ты сама».
Я позвонила маме:
– Знаешь, савельевский папа Гена на свадьбу не приедет. Потому что он умер…
– Зачем? – спросила мама.
Я пожала плечами.
Мы молчали друг другу в трубку. Мама тихонько плакала, стараясь, чтобы мне не было слышно.
– Ты помнишь?.. – спросила мама. – Ты помнишь?
– О маковом поле? – усмехнулась я.
– Угу, – всхлипнула мама.
Да, о поле. Теперь я видела его совершенно отчетливо. Много солнца, много красного, много нежного, много хрупкого и несуществующего. Много такого, к чему нельзя прикасаться, если ты не бежишь навстречу. Если там, с другой стороны, тебе не улыбается судьба. Женщина по имени Мирей Матье.
30 августа, утро
– Двадцать лет эти люди не интересовались ни Катькой, ни тобой. Двадцать лет их не было в твоей жизни. Я не понимаю, почему ты вздыхаешь уже шестой час подряд? – сказал Сережа.
– Мне хотелось их победить…
Мой биологический отец приезжал крепить узы родства не часто. Великий режиссер. Известность плюс занятость. Гениальные идеи, битвы за бюджет, поиски сценария, кинопробы… В общем, получалось примерно раз в год.
Мама и папа готовились неделю: закупали продукты, чистили хрусталь и кастрюли, стирали шторы и мыли окна, крахмалили скатерть. Мама делала прическу, папа стригся и немножко злился.
Великий режиссер приносил маме большой букет роз, папе – коньяк, мне – разные подарки. Часы, например, или серьги с бирюзой, которая в нашей семье считалась девичьим камнем.
После застолья родители, размягченные едой и тягучими непрозрачными разговорами, брались за меня.
Меня – предъявляли. Я примеряла шубу, купленную на вырост, итальянские сапоги на каблуке и чешские на «манке», показывала дневник и грамоты за участие в олимпиадах, фотографии с морских курортов – Ялта, Адлер, Сочи, Анапа.
Мои успехи были материальны. И мама торжествующе улыбалась. Ребенку, то есть мне, было очень хорошо в новом мамином замужестве. Ребенок рос гармонично развитым, сытым и отдохнувшим. У него были шубы, шапки и платья «на выход». У него даже джинсы были.
Моими достижениями мама побеждала всех своих врагов. Всех тех, кто ее бросил и не оценил. Всех, кто бросил и меня тоже.
Я никогда в жизни не носила часы. Не ношу и сейчас.
И никогда не прокалывала уши.
У меня много серег на все случаи жизни: от девичьих бирюзовых до солидных, коллекционных, с южноафриканскими бриллиантами.
И я – мамина дочь. Я хотела предъявить Катю – во всей ее красе, – чтобы победить.
– Понимаешь, Сережа?
31 августа
Сваты как одноклассники. Только одноклассников нам выбирают родители, а сватов – дети.
Мы заказываем меню. Сначала пробуем все, что есть. Есть и пить. Заказываем, пробуем и слушаем администратора. Он говорит, что свое спиртное покупать нам будет не выгодно. Де-юре бутылка своего выходит на тридцать процентов дешевле. Де-факто – на десять дороже.
Приличное заведение берет двадцать-тридцать долларов за обслуживание.
Обслужить бутылку в теплый осенний день нелегко. Во-первых, ее надо принять. По описи. По черной-черной-черной описи. Во-вторых, охладить. Она будет занимать койко-место в холодильнике. И этим нанесет ущерб всему пищеблоку ресторана.
В-третьих, ее надо вытащить, вытереть и открыть.
В-четвертых, в обслуживание бутылки входит «разнос» и «налив».
В-пятых, есть моральный ущерб. Местным бутылкам обидно. Кроме того, может набежать налоговая и поинтересоваться приходными документами и лицензиями. И от налоговой придется откупаться, потому что садиться за чужую водку в тюрьму никому не интересно.
– У свадьбы, – сказал наш будущий сват Эдик, – оказывается, есть тактико-технические характеристики.
– Не смешно, – сказал Сережа.
– Если бы я пытался вас насмешить, то рассказывал бы анекдоты. Я же призываю вас включиться в аналитическую дискуссию. Без женщин и детей.
Внутри Эдика на момент организации конференции было пятьсот миллилитров водки. Внутри Сережи – четыреста миллилитров коньяка.
– Уйдите, – сказали они хором и махнули на нас рукой.
На Катю, Андрюшу, Мишу и на нас с будущей сватьей.
– Тебе есть куда уйти? – сочувственно спросила сватья.
– О да! – гордо сказала я.
*
О да. Мне всегда есть куда уйти. Потому что самое полезное приобретение в жизни женщины – это трагическая любовь.
Не важно, как его звали и зовут. Всё – не важно.
Валерик первым обратил на него внимание. Сказал: «Смотри, он тебя любит…»
«Не может быть!» – отрезала я.
Сто школьных и институтских лет мы провели вместе. Иногда он приводил к нам с Валериком своих женщин. Часто ночевал, чтобы не ехать ночью через весь город. Он видел меня ненакрашенную, с непомытой головой и посудой, с веником и телефоном на длинном-длинном проводе. Однажды мы затопили соседей, потому что вечером отключили воду, а ночью Катины штаны забили водосток. Утром, когда воду дали, воде некуда было деться. Она переливалась через края ванны на пол, просачивалась сквозь бетонные перекрытия и весело бежала по стенам седьмого, шестого и даже пятого этажа.
«Совок! Тряпки! Фен! Быстро!» – закричал он в семь часов утра.
Валерик даже не проснулся.
Он собирал воду совком в ведра, потом полотенцами. А я сушила полы феном. Через полчаса в нашу дверь стучали (хотя звонок работал) соседи.
Валерик снова не проснулся.
Он открыл дверь и, потягиваясь, спросил: «В чем дело?»
«Вы нас залили! Вы ответите за это! Будете делать ремонт! Мы вас отсюда выселим как наркоманский притон!!!»
«Да? – удивился он. – Залили? А чем?»
«Немедленно пропустите нас к ванной!!!»
«Пожалуйста. Только у нас все сухо».
У нас действительно все было сухо.
31 августа, ночь
Наша любовь была такая же, как этот «залив». Когда ее дали, нам некуда было деться. Она проливалась, просачивалась и весело бежала, сбивая с ног. Падать было совсем не больно.
Он не кричал: «Тряпки! Фен! Совок!» И я тоже не кричала.
Я знала, что это Валерик, паршивец, «нацелил» его взгляд на меня. Чтобы мне было не скучно и не обидно терпеть его гульки. Это сводничество дурно пахло. Конечно. Еще как дурно.
Но в какой-то момент это уже не играло роли. И не играет.
Для этой истории у меня нет ни карандаша, ни акварели, ни масла. Только щелочь. У меня такая качественная ко всему этому щелочь, что мое мыло получило гран-при на выставке в Берлине.
Это с ним мы провожали Сережу домой и усаживали его в такси. Это с ним я хотела прожить всю свою жизнь, не размыкая объятий. Я не помню теперь ни его голоса, ни запаха. Ничего.
Но он – единственный человек среди всех моих больших и малых посторонних, которого я никогда не хотела победить. Он у меня сразу поселился по ту сторону баррикады, где были родители, Катька, куда потом, через связи в Сопротивлении, попал Сережа и пришел Миша…
«Мы родим сына, – сказал он однажды. – Мы родим сына и назовем его Бонч-Бруевич».
«Мы родим сына, – сказал он однажды. – А Катю придется оставить ее отцу…»
«Пожалуйста, – сказала я. – Только у нас все сухо».
Мне хочется наврать, чтобы выглядеть красиво. Ну, например, так: я сказала об этом своем «сухо» и гордо ушла. Куда-нибудь в ночь. Куда-нибудь в «навсегда».
Но я не ушла. Я зачем-то вступила в переговоры.
Переговоры – самый надежный способ все разрушить. В словах правды нет. И тепла в них как в зажигалке. И это, Катя, очень хорошо для развития человечества.
Если бы люди грелись словами, они бы не совершали поступки. Мы прячемся от холода в том, что делаем. Ну, как-то так…
В общем, сейчас у него нефть и дочь.
И никаких Бонч-Бруевичей.
*
Эдик принес Сережу и уложил его в коридоре. И сам тоже прилег. Они хрипели и стонали, как таежные ветры. Я укрыла их пледами, позвонила Раечке, чтобы узнать, чем кормить Эдика утром. Раечка сказала, что вообще-то лучше всего накормить его «пенделями под сраку». И через полчаса была уже у меня. С фотоаппаратом, фотографом и бригадой экстренного медицинского выведения пострадавших из запоя.
1 сентября, очень раннее, дорассветное утро
Написала Валере. Старалась быть милой и честной. Текст получился таким:
«Привет, Валера.
Я говорила с мамой Машей. Прими мои соболезнования. Мне правда очень жаль. Очень и очень. Мне бы хотелось, чтобы папа Гена приехал на Катину свадьбу. Я не знаю, в силах ли ты, входит ли ее свадьба в твои планы, но, наверное, было бы правильно, если бы вы с бабушкой Машей приехали.
Свадьба будет 17 сентября, в 16.00 роспись. Что будет дальше, мы пока не знаем. Если тебе не трудно, ответь так быстро, как сможешь».
И номера телефонов. Все, кроме Катиного.
1 сентября, утро
– Мне жмут туфли. Этого достаточно, чтобы мои детские права кто-то уже начал защищать? – спросил Миша, прокладывая дорогу к коридорному зеркалу между телами Сережи и Эдика.
– Пойдешь босиком, – сказал Сережа, переворачиваясь на другой бок.
– Ну хоть какие-нибудь шансы не пойти в эту школу у меня есть?
– Первый звонок – такой праздник… хороший, – сказала я «голосом для гостей».
– Ты привыкнешь, – сказала Раечка грустно. – К этому все привыкают…
– Вы имеете в виду пьянство вашего мужа или моего папы? – уточнил Миша.
– Улыбочки! – закричал фотограф. – Снимаю!!!
1 сентября, день
– Алё, привет, я на море с очень красивой женщиной. Отличный президентский номер. Много комнат. Приехали поздно ночью, так что я даже не успел по всем пройтись, представляешь?
Последний раз мы разговаривали с Валериком по телефону пять или шесть лет назад. Мне нужно было получить от него разрешение на вывоз Катиной тушки за границу. Пограничная служба не хотела, чтобы мы торговали детьми. Они спохватились как раз вовремя. К тому моменту мы («мы» – в широком смысле, а не мы с Сережей) продали почти все, что имели. И некоторые начали поглядывать на детей. Если вдуматься, дети довольно просты в производстве…
Мы не вдумывались! Ни боже мой. Даже наоборот.
Я сказала Валерику: «Мне нужно разрешение, заверенное у нотариуса. Иначе ее не выпустят».
«Я работаю на государство. Я не могу. Я очень засекречен, понимаешь?»
«Ты потерял паспорт?»
«Ну, можно и так сказать… Кстати, если уж ты хочешь вывезти ее за границу, то, может, нам познакомиться? А? Давай, значит, так. Это будет вилла в Испании. Вы заедете на нее как будто случайно. Разложите вещи, соберетесь на пляж. А я выйду из спальни. В шелковом халате от Бриони. В руках у меня будет бутылка «Хеннесси», на запястье – часы «Вашерон Константин», на ногах…»
«Педикюр?»
«Ну чего ты сразу хамишь? Не хочешь по-человечески – не надо. Просто мы так давно с ней не виделись, что мне надо поразить ее великолепием и роскошью. Всем тем, чего ты не могла ей дать. Понимаешь? Поразить!!!»
«Пришли мне, пожалуйста, бумагу, а?»
«А хочешь, я устрою ее спасательницей на пляж? В Австралии? У меня там друзья. Поработает сезон-другой, будем вам что есть… А бумагу жди. Мой личный курьер и мой нотариус в вашем регионе свяжутся с тобой по телефону. Пароль… Не знаю, какой будет пароль, я тебе напишу, потому что телефоны могут прослушиваться».
Многие думали, что Валерик – сумасшедший. Но не я. И не Сережа. Катя не думала о нем вовсе.
На самом деле Валерик был просто крепкий. Крепче нас всех. И не предатель. У нас у всех когда-то были иллюзии. Но ими не дорожили. И плевать хотели. На космос, на балет, на Нобелевскую премию хоть за что-нибудь, на «нашу родину СССР» тоже. Мы раздали наши иллюзии кому зря. Сменяли на талоны на сахар, турецкие джинсы, банковские кредиты. На мелочи. А Валерик все еще хотел быть разведчиком и космонавтом.
Хотел и был.
1 сентября, дальше
– Привет, – наконец сказала я.
– Как ты думаешь, что ей подарить? Ну, так, чтобы не обидеть жениха размахом и уровнем. Кстати, на какой машине он ездит?
– Приезжай сам. Этого будет достаточно.
Сама себе не верю, но почему-то сглатываю комок. Мне не больно и не хочется плакать. Просто откуда-то издалека на меня идет песчаная буря. Я знакома с ней. Это она когда-то накрыла нас всех с головой. Я знакома с ней, но в руках у меня снова совок и ведерко. Я уверена, что буду делать куличи. Или паски.
Или мыло…
– Полмиллиона долларов будет нормально? На твое имя? Чтобы этот герой-жених не претендовал на нашу собственность? А?
– Он хороший парень…
– Ой, ну вспомни меня. Я тоже был хорошим парнем. И что у тебя осталось, кроме Кати? Эти подонки все на одно лицо…
1 сентября, день
– Какие у меня шансы? – спрашивает Миша по дороге домой. – Я могу объявить голодовку? Или лучше заболеть, как думаешь?
– Тебе совсем не понравилось? – вздыхаю я.
– Совсем…
– Ну, может быть, появятся друзья, получится какая-нибудь банда, как-то устроится…
– Я буду, конечно, стараться много спать. И время пойдет быстрее. Как думаешь, почему «Спящая красавица» была, а «Спящий красавец» – нет? Потому что спящие красавцы не любят целоваться? Вот у бабушки Милы…
– Прабабушки.
– Да. Прабабушки. У нее очень мокрые губы. Я хотел заснуть у нее столетним сном, чтобы потренироваться перед школой, но она меня поцеловала. И мне пришлось вытираться. Я надеюсь, что у вас с папой ничего такого мокрого нет?
1 сентября, ночь
Нет. Ни мокрого, ни сухого, ни комковатого. Я не разговариваю с Сережей. Раечка не разговаривает с Эдиком. Возможно, это саботаж. Или заговор. Не исключено, что эти «пионеры-герои» решили развестись с нами, чтобы предотвратить свадьбу.
Наша Катя не нравится Эдику?
Значит, Сережа, пьющий на стороне врага, – коллаборационист?
*
Когда будущее рисовали в плакатной графике, оно всегда получалось прямоугольным, бетонным, металлическим, стеклянным, открытым и светлым. Светло-голубым или светло-серым. Когда будущее рисовали в графике, оно виделось солнечным, но холодным, окончательно и безнадежно разлинеенным.
Я не думала о будущем уже много-много лет. Оно подсылало связных: реже – президентские выборы, дефолты, войны и кризисы, чаще – суетливые новогодние ночи. Связные называли пароли, а я упрямо делала вид, что не знаю отзыва. Когда связные кончились, будущее обиделось и пришло само. Вместе с прошлым.
Они на меня давят. На нас, если вместе с настоящим. Мы сжимаемся до точки. Окопы в тылу и на фронте.
Везде, если разобраться, окопы. А дорог, как обычно, нет. Одни сплошные окольные пути.
Второй раз за месяц я думаю о будущем. Может быть, я созрела к тому, чтобы стать президентом?
2 сентября, утро
Когда мы отдали Мишу в детский сад, он почти не спал ночами. Каждый час вставал и спрашивал: «Скажите, пожалуйста, еще не утро?»
Потом он понял, что по-хорошему с нами нельзя, и объявил сидячую забастовку. Чтобы не расстраивать соседей, он спокойно входил в лифт, но возле подъезда его ноги подгибались в коленях. Он садился и обнимал себя руками.
«Ты кокон?» – спрашивала я.
Он кивал. Не мог разговаривать, но не хотел показывать мне свои слезы. Потому что слезы врагам показывать нельзя.
«У меня будет инфаркт!» – хвастался Сережа. И я ему завидовала. В нашей семье я всегда считалась самой психически устойчивой. Поэтому развитие Мишиных социальных навыков было поручено мне.
«В садике хорошо, – говорила я, – там люди, там ходят гулять… И вообще».
Иногда я тащила Мишу волоком за шиворот. Но он никогда не разжимал объятий. И не выпрямлял коленей.
Иногда я несла его на руках.
Сразу после завтрака Миша заходил в спальню и ложился на кровать, натягивая на голову одеяло. Два раза воспитательницы звонили нам на работу и сообщали, что мальчик потерялся на прогулке.
На самом деле наш мальчик на прогулку не выходил. Просто никому не подумалось о том, что он спит.
Сон – очень надежное укрытие.
Через месяц «еще не утра» я решила варить мыло дома. А Миша сказал: «Ладно. Я буду туда ходить».
Нет, никакой Клавы К. Никаких любовей. Слава богу. Миша сказал: «Я понял. Когда люди вырастают, то у них уже нет никакого выхода. Правильно?»
В школу мы идем гораздо лучше. Теперь колени его не гнутся, руки висят как плети, в спине стержень.
«Пока, мама. Не забудь меня забрать», – говорит он строго.
*
У меня вредное производство. Могут быть утечки, пожары и аллергии. На меня можно подать в суд за всё. Меня можно закрыть. Как предприятие и как опасного для общества человека.
Бизнес – это такая бесконечная экзистенциальная драма, в которой всякая смерть участника есть обязательное условие его развития.
– Вы где берете ромашку для мыла? – спрашивает санитарный инспектор. – Вы сами собираете? Покупаете? У вас есть экологический сертификат? Кто проводил пробы?
Мы давно знакомы. Игорь Иванович – хороший человек, умеренно жадный. Пишет стихи, голосует за коммунистов. И им же эти стихи читает. Он бы давно хотел уйти на пенсию. Но как тогда жить? Без меня, без людей, без денег?
Ему стыдно сказать о деньгах напрямую. Он не верит в инфляцию и не знает слов «форс-мажор». Тем более что в августе мы уже платили…
– А вот, к примеру, чабрец? Те же вопросы…
– И мята, – говорю я.
– У меня внук женится…
– Андрей? – настораживаюсь я, потому что еще не знаю всех родственников «с той стороны».
– Почему сразу Андрей? Виктор.
– Фух…
– Не понимаю я вашего выдоха, уважаемая Наталья Владимировна. Это даже обидно как-то. Витя – хороший мальчик. Модель… Не подумайте, никакого секса. Он модель для рекламы технического оборудования. Он в математике разбирается. И вообще – почему я должен оправдываться?
– Нет-нет, вы не должны. Просто у меня тоже.
– Внук? Модель?
Вот. Когда женщина долго не смотрится в зеркало, у нее вполне может завестись внук. И даже его улучшенная форма – внук-модель.
Мне бы обидеться. Кокетливо улыбнуться, едко спросить: «А что, я уже похожа на бабушку?» Но Игорь Иванович – человек почти честный. И если он мне скажет: «Очень даже, уважаемая Наталья Владимировна. Вот как увидел вас, так сразу и подумал…» – что мне тогда делать?
А ведь Инна давно говорила: «Пора спасать душу уколами в лицо».
– Нет, у меня тоже свадьба. Дочь.
– М-да, стало быть, расходы. – Игорь Иванович обиженно поджимает губы. У него со мной неожиданные трудности. Потому что по сути Игорь Иванович не вымогатель. Его все время заставляет жизнь. То жена хочет на курорт, то сыну надо помочь с кредитом, теперь вот – свадьба. К моему санинспектору, как к поэту, жизнь является в образах. – А хотите, я сам проведу пробы вашей ромашки?
– И мяты…
– Да-да, всего. И на год вы будете совершенно свободны.
Ничего-ничего. Это всего лишь деньги. Ничего-ничего. Это давным-давно, в далеком вчера я думала, что однажды напишу заявление и всех этих инспекторов посадят в тюрьму и отправят в Сибирь.
Потом добрые люди объяснили мне, что каждый следующий будет хуже предыдущего (и дороже), а некоторые захотят не только денег, но и со мной дружить. И вот это уже будет настоящая трагедия. У Люси-олигарха такая есть. Налоговая дамочка тягает мою Люсю по саунам, кинопремьерам и закрытым тусовкам, где на бис подпрыгивает Дима Билан.
У меня в кошельке сумма, не годная для взятки. Меньше сотни евро давать государеву человеку стыдно. Он же не крохобор какой-нибудь…
– А давайте завтра? Мне надо подготовить… материалы…
– Вы!.. – вдруг начинает задыхаться Игорь Иванович. – Вы!.. Вы что это себе удумали? Вы!.. Да как же так? Ну как же так?!
Он разводит руками. Нижняя губа искривляется в копытце. Щеки пылают. (Или у коммунистов они всегда алеют?) На лбу выступают капли пота. И я боюсь-боюсь столкнуться с ним взглядом.
– Мне не надо… Я просто зашел помочь. Мне ничего не надо! Виктор, знаете ли, не пригласил меня на свадьбу. Понимаете: не пригласил!!!
2 сентября, день
Грабители и воры – это очень одинокие люди. Им не с кем поговорить. И некому пожаловаться. Им ничего не остается, как вступать в отношения с жертвами. Это стокгольмский синдром наоборот. У нас так все время: людей берут в заложники, держат на мушке, грабят – вежливо и не очень. А потом выясняется, что только им, этим самым заложникам, можно рассказать о свадьбе, о боли в коленном суставе, о плеши, которую проел начальник, и о планах построения великого завтра в одной отдельно взятой стране.
Мы платим нашим грабителям еще и за то, что их слушаем.
Или так: мы хотим, чтобы нас любили те, кого мы сделали бедными и несчастными.
Это только кажется, что есть люди – прирожденные жертвы, а есть – прирожденные палачи. На самом деле мы усердно бегаем через линию фронта. И каждый хотя бы раз в жизни бывает Игорем Ивановичем. Хочет он этого или нет.
Я – Игорь Иванович для Славы.
Я – проверяльщица ее ромашек, ее личный грабитель. И да – человек, который хочет быть понятым. С ударением на первый слог.
Она терпит меня, лишь изредка взрываясь громкими ругательствами на неизвестных мне языках.
*
Мы с Мишей идем из школы. Молчим. Рассматриваем неочевидную осень. Еще нет желтых листьев. Нет луж. И в них нельзя постоять. И это плохо. Зато Катя все еще ночует дома.
– Как думаешь, моя папина бабушка, ну та, что умерла, она точно на небе?
– Конечно. Она точно на небе. И она любит тебя и оберегает тебя…
– Все время?
– Даже больше, чем все время.
– И там же Бог, да? На небе? Есть?
– Да…
– Значит, ей удалось познакомиться там хотя бы с одним очень хорошим человеком?
2 сентября, вечер
Сережа борется за право коньяка считаться благородным напитком. Я с ними не разговариваю. С коньяком давно, с Сережей третий день. Хотя мне очень хочется с кем-нибудь поругаться.
3 сентября, утро
Мама звонит в пять утра.
– Что случилось? – почти кричу я. И просто сразу начинаю мечтать о том, чтобы оглохнуть и никогда не слышать плохих вестей. Я и видеть их не хочу. Но приходится выбирать.
– Ничего-ничего. Не хотела тревожить вечером. У меня проблема.
– Угу…
– Ты не знаешь причин, по которым люди используют чашки? А расческу? Или вот туалетную бумагу?
– Это должна быть одна общая причина?
Жалко, что мы поссорились с Сережей. Он очень хорошо решает логические задачи, особенно если они совсем не связаны с жизнью.
– Ну какая может быть общая причина в использовании расчески и туалетной бумаги?! – сердится мама. – Мы получили телефонограмму!
Моя мама – работающая пенсионерка. Она преподает основы экономической теории. Но за экономическую практику принципиально не отвечает. По практике у нас папа. И теперь еще я. Мама говорит, что есть женщины, рожденные для любви, а есть – для работы. Она – для любви.
Но в университет пришел новый ректор. Никто точно не знает, чем он управлял раньше и в чем заключался смысл его другой жизни. Смысл новой был очевиден. Ректор хотел порядка и реформ. Больше всего его раздражали чашки, найденные в тумбочках профессорско-преподавательского состава. Никто не знает, зачем он заглядывал в тумбочки. Ректор, как и любой другой начальник, не должен объяснять подчиненным свои психозы. Он просто должен их иметь. Иначе с чем еще он может войти в историю?
В телефонограмме сообщалось, что «все преподаватели должны составить перечень личных вещей (мебель, оргтехника, вентиляторы, кондиционеры, чайники, чашки, ложки и т. д.), находящихся на рабочем месте. В перечне должны быть указаны не только личные вещи, но и причины их использования. Все не зарегистрированное в требуемом списке будет считаться излишками и изыматься».
Это цитата. Мама прочитала мне в трубку. В ее голосе было смятение. И наверное, даже испуг. Она почему-то не могла смеяться над словом «излишки». И верила в то, что кто-то всегда может прийти и изъять расческу. Особенно если владелец не может внятно написать докладную о причинах ее использования.
Похоже, что столетие Октября мы будем отмечать очень творчески и с большим размахом.
*
В девяностые Слава передавала мне деньги. Почти всегда с оказией. Оказии были нервными, торопливыми и брезгливыми людьми. «О боже, в этой стране до сих пор ссут в подъездах!», «Продавцы мяса работают без перчаток! Какое варварство…», «На улицах – темень, в лифтах – темень, вы что, жрете эти лампочки, что ли?», «Скоро здесь будет голод. И все границы снова закроют. И о чем вы только думаете?»
Я думала о том, что Славка молодец. Сначала я была очень ветрена с ее деньгами. Ветрена и свободна. Совесть по отношению к ним спала очень долго, а когда проснулась, я стала собирать, а не тратить. С тех пор моя совесть (очень гибкая и иногда невидимая) часто оказывается связанной с планами на завтра.
На Славкины деньги я купила квартиру. Пять тысяч долларов и тысяча марок. Такие были цены. Многие сегодня не могут в это поверить. Говорят, что надо было покупать две. Или три.
Я писала Славке письма. Оказии брали их неохотно. Письма – не деньги, смысла не имеют. Я грабила Славку и хотела быть понятой. С ударением на первом слоге. Иногда она отвечала мне на Главпочтамт. До востребования.
Сначала она работала. Конюхом, сиделкой, таксисткой, маникюршей, учительницей русского языка, помощником ветеринара, курьером, рабочей сцены, тамадой на свадьбах, чтицей, фотографом, мойщицей витрин. Иногда – гражданской женой. Она нигде не задерживалась надолго. Из Израиля перебралась в Испанию. Из Испании в Китай, потом в Индию. Из Индии в Ботсвану. В конце девяностых она полюбила острова. Корсику, Сицилию, Санта-Круз де Тенерифе, Британию…
Она перемещалась так быстро, что иногда казалась мне несуществующей. Мои подруги в один голос утверждали, что Славка врет.
А бабушка Шура, рассматривая Славкины фотографии, сказала: «Жизнь парует».
И я почему-то не спросила, кого она парует. Валерика и Славку или Славку и меня.
3 сентября, еще
– Что такое зубное золото?
Катя отвела Мишу в школу и приехала ко мне на фабрику. Почему-то нервная.
– Что такое зубное золото?
Ну, и в каком заповеднике рос этот ребенок?
– Это золото, из которого делают вставные зубы.
– Людям? А зачем? Это модно, что ли? А почему я это пропустила?
– Катя!!! Отстань, а? Это было модно давно. Золотые зубы были только у богатых людей. С одной стороны, зубы, а с другой – никто не украдет. Как сейф. Но вот фашисты…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.