Текст книги "Сатурналии"
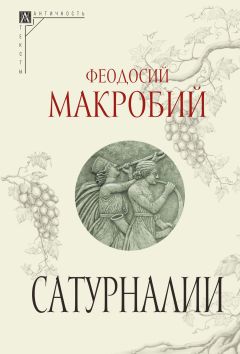
Автор книги: Феодосий Макробий
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
(1) [А] вы хотите, чтобы мы поведали о каких-нибудь остротах еще и его дочери Юлии? Впрочем, если меня не сочтут болтливым, я хочу прежде немного сказать о свойствах [этой] женщины, чтобы кто-нибудь из вас не посчитал серьезным и поучительным [то], что она говорила». И при общем одобрении, чтобы приступить к затеянному, он так начал [рассказ] о Юлии: (2) «Она достигла [уже] тридцати восьми лет – время зрелости, клонящейся к старости, в случае если бы сохранился здравый ум. Но она злоупотребляла снисходительностью и судьбы, и отца, хотя любовь к наукам и значительное образование, что в том доме было доступно, [и], кроме того, кроткое человеколюбие и совсем не жестокая душа все же снискали [этой] женщине огромное расположение к изумлению [тех], кто равно знал [ее] пороки81 и [их] столь большое разнообразие.
(3) Не раз отец предупреждал [ее], однако, придерживаясь в разговоре [середины] между снисходительностью и суровостью, [чтобы] она соблюдала меру в роскошных нарядах и [в числе] глазеющих [по сторонам] провожатых. Когда же он пригляделся к куче внуков и [их] сходству [с Агриппой], как [только] представил [себе] Агриппу, покраснел [от стыда], что сомневался в пристойности [своей] дочери. (4) Поэтому Август тешил себя [тем], что у [его] дочери веселый, с виду дерзкий нрав, но не отягощенный пороком, и хотел верить, что такой [же] в старшем [поколении] была Клавдия82. Поэтому он сказал друзьям, что у него две избалованные дочери, которых он вынужден переносить, – Республика и Юлия.
(5) Она пришла к нему в очень неподобающем одеянии и натолкнулась на хмурый взгляд отца. На следующий день она изменила покрой своего наряда и обняла повеселевшего отца, так как [ее одежда] обрела строгость. И он, который накануне сдерживал свою печаль, [теперь уже] не смог сдержать радость и сказал: “Насколько более достоин одобрения этот наряд на дочери Августа!” [И все же] Юлия не упустила [случая] сказать в свою защиту: “Сегодня-то я оделась для отца, а вчера одевалась для мужа”. (6) Известно [о ней] и другое. На представлениях гладиаторов Ливия и Юлия обратили на себя [внимание] народа [из-за] несходства [их] свиты: тогда как Ливию окружали основательные мужчины, ту обступила толпа юношей, и притом развязных. Отец указал [ей на это] в записке, чтобы она поняла, насколько [велика] разница [в свите] у двух первых женщин [государства]. [В ответ] она изящно написала: “Вместе со мной и они состарятся”.
(7) Соответственно, по достижении зрелого возраста у Юлии начали появляться седые [волосы], которые она убирала по обыкновению тайно. Как-то внезапный приход отца застал врасплох парикмахерш [Юлии]. Август не подал вида, что заметил на их одежде седые [волосы], и, потянув время в разных разговорах, перевел беседу на возраст и спросил дочь, какой бы она предпочла быть по прошествии нескольких лет: седой или лысой. И так как она ответила: “Я предпочитаю, отец, быть седой”, — он так упрекнул ее за обман: “Почему же [тогда] эти [твои парикмахерши] столь поспешно делают тебя лысой?” (8) Также, когда Юлия выслушала [одного] откровенного друга, убеждающего [ее], что она сделает очень хорошо, если возьмет себе за образец отцовскую бережливость, она сказала: “Он забывает, что он – Цезарь, [а] я помню, что я – дочь Цезаря”. (9) И, так как наперсники [ее] безобразий удивлялись, каким [это] образом она, сплошь и рядом допускавшая обладание собой, рожала детей, похожих на Агриппу, сказала: “Ведь я никогда не беру пассажира, если корабль не загружен”83. (10) Близкое [по теме] высказывание [принадлежит] Популии, дочери Марка. Кому-то удивляющемуся, почему иные звери-[самки] никогда не желают самца, кроме [как тогда], когда они хотели бы стать оплодотворенными, она ответила: “Потому что они – звери”.
Глава 6(1) Но я хотел бы возвратиться от женщин к мужчинам и от игривых шуток – к пристойным. [Так вот], знаток права Касцелий пользовался уважением за необыкновенно изысканное остроумие и благородство. Но особенно стала известной такая его шутка. Ватиний, забросанный народом камнями, когда он устраивал гладиаторские состязания, добился [того], чтобы эдилы объявили: пусть никто не позволяет себе бросать на арену [ничего], кроме фруктов. Случайно спрошенный в эти дни кем-то [о том], считается ли сосновая шишка фруктом, Касцелий ответил: “Если ты намерен бросить [ее] в Ватиния, [то] она, [без сомнения], фрукт”. (2) Затем, передают, он [так] ответил купцу, спрашивающему [его], каким образом ему разделить корабль с компаньоном: “Если ты разделишь корабль, [то его] не будет ни у тебя, ни у [твоего] компаньона”.
(3) О красноречивом Гальбе, которого портило телосложение, как я раньше сказал84, распространяли [такое] высказывание Марка Лоллия: “У дарования Гальбы неподходящее обиталище”. (4) Над тем же Гальбой очень едко посмеялся грамматик Орбилий85. Орбилий выступил свидетелем против [какого-то] обвиняемого. Гальба, умолчав о его занятии, спросил его, чтобы сбить с толку: “Чем из искусств ты занимаешься?” [На что] он ответил: “Я обыкновенно растираю горбы на солнце”86.
(5) Так как Гай Цезарь приказал выдать [всем] другим, кто забавлялся вместе с ним мячом, по сто сестерциев [и лишь] одному Луцию Цецилию – пятьдесят, тот сказал: “За что? [Разве] я играю одной рукой?”
(6) Рассказывали, что Публий Клодий был разгневан на Децима Лаберия, потому что он не подарил ему, просящему, мим87. [В ответ] [Лаберий] сказал, обыгрывая [кратковременное] изгнание Цицерона: “Что более обременительное ты можешь мне сделать, кроме [того], чтобы я сходил в Диррахий и вернулся?”
Глава 7(1) Но так как немного раньше и Аврелий Симмах, и теперь я, мы [оба], упомянули о Лаберии, [и] если мы [еще] как-либо сообщим о его и Публилия острословии, [то] и малопристойного приглашения мимов на пир избежим, и все же воспроизведем [ту] оживленность, которую они вызывают, когда присутствуют [на пиру].
(2) Лаберия, римского всадника, [человека] непоколебимого свободолюбия, Цезарь соблазнил пятьюстами тысячами [сестерциев], чтобы он вышел на сцену и сам исполнил мимы, которые пописывал88. Однако властелин, не только если бы он соблазнял, но и если бы [даже] просил, [всегда] принуждает, о чем принужденный Цезарем Лаберий и [сам] свидетельствует в Прологе [мима] в этих [вот] стихах89:
(3) Necessitas, cuius cursus transversi impetum
voluerunt multi effugere, pauci potuerunt,
quo me detrusit paene extremis sensibus?
quem nulla ambitio, nulla umquam largitio,
nullus timor, vis nulla, nulla auctoritas
movere potuit in iuventa de statu,
ecce in senecta ut facile labefecit loco
viri excellentis mente clemente edita
summissa placide blandiloquens oratio?
et enim ipsi di negare cui nihil potuerunt,
hominem me denegare quis posset pati?
ego bis tricenis annis actis sine nota
eques Romanus <e> Lare egressus meo
domum revertar mimus, nimirum hoc die
uno plus vixi mihi quam vivendum fuit.
fortuna immoderata in bono aeque atque in malo,
si tibi erat libitum litterarum laudibus
florens cacumen nostrae famae frangere,
cur cum vigebam membris praeviridantibus,
satis facere populo et tali cum poteram viro,
non me flexibilem concurvasti ut carperes?
nuncine me deicis? quo? quid ad scaenam adfero?
decorem formae an dignitatem corporis,
animi virtutem an vocis iucundae sonum?
ut hedera serpens vires arboreas necat,
ita me vetustas amplexu annorum enecat.
sepulchri similis nihil nisi nomen retineo.
(Необходимость, коей силы гнет крутой
Избегнуть много кто хотел, да не сумел,
Зачем почти до крайних мук меня гнетешь?
Меня, кого тщета и подкуп никогда,
Ни страх, ни сила вкупе или мнение
Подвигнуть в юности к лукавству не могли,
Вдруг в старости легко сколь речь принудила
С душой широкой мужа превосходного,
Без крика, вкрадчиво, спокойно сказанная?
Ведь сами боги отказать ему не могут,
Так снес бы он, чтоб отказал я, человек?
Хотя безгрешно шестьдесят лет пронеслись,
Я, римским всадником очаг оставив,
Домой вернусь уж мимом. В этот день, наверно,
Один прожил я больше, чем прожил до этого.
Фортуна, вместе в зле, в добре безмерная,
Желаешь если ты оценкой творчества
Вершину славы нашей видную разрушить,
Зачем, когда я члены крепкие имел,
Народу, мужу видному мог послужить,
Не гнула, чтобы, гибкого, меня проверить?
Теперь меня ты бьешь? Чего несу на сцену?
Пристойность вида или звание мое,
Отвагу духа или слово звучное?
Как силы дерева плющ губит вьющийся,
Меня так душит старость лет объятием.
Покойника лишь имя сохраняю я).
(4) Также и в самом действии [мима] он вслед за этим отомстил за себя, как мог, выведя образ [раба] Сира, который, как бы избитый плетьми и вырывающийся, взывал:
…porro Quirites libertatem perdimus…
(Вперед, квириты, волю мы теряем!).
И немного позже прибавлял:
…necesse est multos timeat quem multi timent…
(Боится многих пусть тот, кого боятся многие)90.
(5) При этих словах весь народ повернул головы к Цезарю, показывая, что этой колкостью заклеймено его властолюбие. (6) Из-за этого он обратил [свою] милость на Публилия.
Этот Публилий, родом сириец, когда [еще] мальчиком был отдан под покровительство [одного] господина, услуживал ему не менее остротами и умом, чем красотой [тела]. Когда тот случайно увидел своего раба, больного водянкой, лежащим на площадке, и вопрошал, что он делает на солнце, [Публилий] ответил: “Он нагревает воду”. Затем, когда за обедом ради шутки был поднят вопрос, какой же досуг был бы вынужденным91, [и] кто-то предположил нечто неподходящее, он сказал: “[Это] – подагрические ноги”.
(7) За это и другое он [был] отпущен на свободу и с очень большой заботой обучен. Так как он сочинял мимы и при огромном одобрении [зрителей] начал давать [их] в городах Италии, он [был] доставлен в Рим во время [устроенных] Цезарем игр. Он вызвал всех, кто тогда выступал на сцене с написанным, состязаться с ним, после чего [участники] были распределены согласно времени [выступления]. И без единого возражающего он превзошел всех, в том числе и Лаберия.
(8) Об этом посмеивающийся Цезарь оповестил таким образом:
…favente tibi me victus es, Laberi, a Syro…
(Хвалю тебя, Лаберий: побежден ты Сиром)92, —
и тотчас дал Публилию пальмовую ветвь, а Лаберию – золотое кольцо вместе с пятьюстами [тысячами] сестерциев. Тогда Публилий говорит уходящему Лаберию:
…quicum contendisti scriptor, hunc spectator subleva…
(Писатель, с кем тягался, поддержи того как зритель!).
(9) Но и Лаберий тут же в следующем послании новому миму поместил эти [вот] стихи:
Non possunt primi esse omnes omni in tempore.
summum ad gradum cum claritatis veneris,
consistes aegre et citius quam escendas cades:
cecidi ego, cadet qui sequitur: laus est publica…
(Не могут первыми быть все раз навсегда.
Когда к ступени высшей славы ты придешь,
Не устоишь: скорее рухнешь, чем всходил.
Упал я, упадет другой: обща ведь слава).
(10) Сообщают, что забавны и пригодны для общего применения также изречения Публилия. Из них я едва помню такие отдельные строчки93:
(11) Beneficium dando accepit qui digno dedit.
feras, non culpes quod mutari non potest.
cui plus licet quam par est, plus vult quam licet.
comes facundus in via pro vehiculo est.
frugalitas miseria est rumoris boni.
heredis fletus sub persona risus est.
furor fit laesa saepius patientia.
inprobe Neptunum accusat, qui iterum naufragium facit.
nimium altercando veritas amittitur.
pars beneficii est quod petitur si cito neges.
ita amicum habeas, posse ut fieri hunc inimicum putes.
veterem ferendo iniuriam invites novam.
numquam periclum sine periclo vincitur.
(Оказывая благодеяние достойному, получаешь его сам.
Переноси, а не обвиняй то, чего не можешь изменить.
Кому дозволено больше, чем то справедливо,
желает больше дозволенного.
Приятный спутник в дороге заменяет коляску.
Постыдна бедность, порожденная тщеславием.
Плач наследника – смех под маской.
Часто оскорбляемое терпение обращается в ярость.
Бесстыдно обвиняет Нептуна вторично потерпевший
кораблекрушение.
В чрезмерных спорах теряется истина.
Часть благодеяния – любезный отказ в просимом.
Так обращайся с другом, как если бы считал,
что он может стать врагом.
Перенося старые несправедливости, поощряешь новые.
Никогда нельзя победить опасность без опасности)94.
(12) Но, так как однажды я [сам] вышел на сцену для чтения [стихов], нам не следует обходить [вниманием] актера Пилада, который был знаменит в своем деле во времена Августа и благодаря [хорошему] обучению подвигнул [своего] ученика Хюла на притязание равенства [с наставником]. (13) Впоследствии народ разделился в [своем] предпочтении того или другого. И, когда Хюл сопровождал движениями песню, в конце которой были [слова] τὸν µέγαν Ἀγαµέµνονα ([о] великом Агамемноне), Хюл как бы обмерял [его], высокого и дородного. Пилад не вынес [этого] и прокричал с места: σὺ µακρὸν οὐ µέγαν ποιεῖς (“Ты делаешь [его] большим, [а] не великим”) (14) Тогда народ потребовал, чтобы он показал в движениях ту же [самую] песню, и, когда он дошел до [того] места, которое осудил [в исполнении Хюла], он изобразил думающего [человека], решив, что ничего более не соответствует великому вождю, чем думать за всех95. (15) Хюл исполнял [роль] Эдипа, и Пилад [вот] таким возгласом исправил небрежность в движениях исполняющего: σὺ βλέπεις (“Ты видишь”).
(16) Когда [Пилад] выступил в [роли] обезумевшего Геркулеса, и некоторым показалось, что он не сохраняет походку, подобающую актеру, он, сняв маску, упрекнул смеющихся: µωροὶ, µαινόµενον ὀρχοῦµαι (“Глупцы, я [ведь] изображаю движения помешанного”). (17) Согласно этому преданию, он и стрелы-[то] направил в народ. Этот же [самый] образ он исполнял в столовой комнате согласно повелению Августа, он [также] натянул лук и пустил стрелы [в присутствующих]. И Цезарь [Август] не рассердился, что он был у Пилада на том же самом положении, на каком [и] римский народ. (18) Передавали, что этот [Пилад] изменил обычай той грубой пляски, которая процветала у предков, и ввел [в нее] прелестное обновление. Спрошенный Августом, что [именно] он привнес в пляску, [Пилад] ответил [словами Гомера]:
…αὐλῶν συρίγγων τ᾽ ἑνοπὴν, ὁµαδόν τ᾽ ανθρώπων
(Звук свирелей, цевниц, шум народа)96.
(19) Когда он услышал бурное негодование Августа из-за расхождения мнения народа относительно состязания, состоявшегося между ним и Хюлом, то ответил: καὶ ἀχαριστεῖς βασιλεῦ· ἔασον αὐτοὺς περὶ ἡµᾶς ἀσχολεῖσθαι (“И ты, басилевс, бываешь неблагодарным! Предоставь им самим заниматься нами!”)».
Глава 8(1) Когда это было сказано и поднялось веселье, так как [все] хвалили прекрасную память и прелесть остроумия Авиена, слуга придвинул вторые блюда. (2) И [тут] Флавиан [говорит]: «Многие, как я считаю, расходятся в отношении их с Варроном, который в той великолепнейшей Менипповой сатуре, которая озаглавлена Что-нибудь да принесет тебе вечеря, удалил из вторых блюд пироги. Но я прошу [тебя], Цецина, приведи-ка ты сами слова Варрона, если они задержались у тебя по милости [твоей] крепкой памяти». (3) И [Цецина] Альбин сказал: «[То] место [из сатуры] Варрона, которое ты предлагаешь мне привести, содержит примерно такие слова: “Есть лакомства преимущественно медовые, есть не медовые: ведь у сладкого – ненадежное товарищество с πέψει (пищеварением)”97. [Слово] же “лакомство” означает все виды вторых блюд. Ибо то, о чем греки говорили πέµµατα (пирожки) или τραγήµατα (сладости), наши предки называли “лакомства”. Также вина послаще – [это] можно найти в очень старых комедиях – вообще назывались этим словом: “Эти лакомства Либера”98».
(4) И [сейчас же] Евангел [заметил]: «Давайте, прежде чем нам надлежит подняться, предадимся вину, что мы сделаем по примеру Платонова указания99, который считал, что [оно] – какой-то трут и огниво наклонностей и доблести (virtutisque), [в случае] если бы дух и тело человека горели от вина100». (5) Тогда Евстафий говорит: «К чему ты клонишь, Евангел? Или ты считаешь, что Платон советовал без разбора пить вина и скорее не одобрял, [чем одобрял], очень приятное и достойное угощенье среди маленьких чаш, которое совершалось бы при каких-либо воздержанных распорядителях и управителях пиров? И что именно это небесполезно для [настоящих] мужчин, он решает в первой и второй [книге] Законов101.
(6) Ведь он считал, что благодаря и упорядоченным, и приличествующим перерывам между питьем [вина] души оправляются и оздоравливаются, чтобы восстановить служение трезвости, и воспрянувшие, немного повеселевшие, они становятся способнее для нового осуществления намерений. И вместе с тем, если внутри у них находятся какие-нибудь заблуждения чувств и влечений, которые, впрочем, скрывает достойная уважения стыдливость, [то] все это открывается без тяжелого испытания благодаря свободе, обретенной с помощью вина, и становится более поддающимся исправлению и излечению102. (7) И это еще Платон там же говорит, что не следует отвергать опыт такого рода против устранения вредного действия вина и что достаточно достоверно не известно о каком-либо всегда вполне воздержанном и умеренном [человеке], который не был бы испытан самыми [настоящими] опасностями заблуждений и соблазнами наслаждений. (8) Ведь [и тот], кому были бы неизвестны все радости и прелести пиров, и [тот], кто в них был бы всецело опытен, если бы его к участию в наслаждениях этого рода однажды привело желание или случай, или подтолкнула бы необходимость, вскоре размягчается и увлекается, и его ум и дух не способны устоять. (9) Итак, нужно выступить и как в каком-то строю врукопашную сражаться с доставляющими наслаждения вещами и с этой [твоей] дозволенностью вина, чтобы обороняться против них не бегством и не отступлением, но защищать умеренность и воздержанность силой и постоянным присутствием духа и соразмерным употреблением [вина]. И вместе с тем, разгорячив и согрев дух [вином], мы помогли бы [ему], если бы в нем было что-нибудь от холодной печали или сковывающей застенчивости.
(10) Но, так как мы упомянули об удовольствиях, [надо заметить, что] Аристотель учит [о том], каких наслаждений следовало бы остерегаться. Итак, у людей есть пять чувств103 – греки называют их αἰσθήσεις (ощущениями): осязание, вкус, обоняние, зрение, слух, через которые удовольствие достигает души или тела. (11) Из всех них постыдным и негодным становится неумеренное удовольствие. Но при том самым мерзким из всего, как считали мудрые мужи, бывает удовольствие, наиболее похожее на чрезмерное [наслаждение] от вкуса и также от осязания. И тех, кто более всего отдавался этим двум наиболее страшным порочным наслаждениям, греки называли словами ἀκρατεῖς (несдержанные) или ἀκολάστους (распутные); мы104 называем таких [людей] беспутными или неумеренными. (12) Мы видим, что лишь эти два удовольствия от вкуса и осязания, то есть [наслаждение] от пищи и [дела] Венеры, являются общими у людей со зверями. Поэтому считается, что и среди [домашней] скотины и [диких] зверей есть какие-нибудь [особи], плененные этими удовольствиями. Другие [удовольствия], возникающие на основе трех остальных чувств, принадлежат исключительно людям.
(13) Слова философа Аристотеля105 насчет этого дела я выношу на обозрение, чтобы обнародовать то, что столь славный и значительный муж думает об этих непристойных удовольствиях: (14) Διὰ τί κατὰ τὴν τῆς ἁφῆς ἢ γεύσεως ἡδονὴν ἐγγινοµένην ἐὰν ὑπερβάλλωσιν, ἀκρατεῖς λέγονται; οἵ τε γὰρ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἀκόλαστοι τοιοῦτοι, οἵ τε περὶ τὰς τῆς τροφῆς ἀπολαύσεις, τῶν δὲ κατὰ τὴν τροφὴν ἀπ᾿ ἐνίων µὲν ἐν τῇ γλώττῃ τὸ ἡδὺ, ἀπ᾿ ἐνίων δὲ ἐν τῷ λάρυγγι, διὸ καὶ Φιλόξενος γεράνου λάρυγγα εὔχετο ἔχειν· ἢ διὰ τὸ τὰς ἀπὸ τούτων γιγνοµένας ἡδονὰς κοινὰς εἶναι ἡµῖν καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις, ἅτε δὲ οὐσῶν κοινῶν αἰσχρὰν εἶναι τὴν ὑποταγὴν, αὐτίκα τὸν ὑπὸ τούτων ἡττώµενον ψέγοµεν καὶ ἀκρατῆ καὶ ἀκόλαστον λέγοµεν διὰ τὸ ὑπὸ τῶν χειρίστων ἡδονῶν ἡττᾶσθαι; οὐσῶν δὲ τῶν αισθήσεων πέντε τὰ ἄλλα ζῷα ἀπὸ δύο µόνον ἥδεται, κατὰ δὲ τὰς ἄλλας ἢ ὅλως οὐχ ἥδεται ἢ κατὰ συµβεβηκὸς τοῦτο πάσχει (“Не потому ли они называются необузданными, что переходят [меру] во врожденном удовольствии от осязания или вкуса? Кто [переходит границу] в любовных утехах106, [тех называют] распутными. Кто же в пище – обжорами. Из этих [наслаждений] пищей у одних – удовольствие на языке, у других же – в горле. Поэтому-то Филоксен и хвастал, будто имеет журавлиное горло. И потому, что врожденные удовольствия от этих чувств являются общими у нас с другими животными, подчинение [им] является [самым] постыдным из всех существующих [подчинений]. Например, не потому ли плененного этими вот [наслаждениями] мы порицаем и называем необузданным и распутным, что его подчиняют [себе] эти наихудшие удовольствия? Впрочем, из существующих пяти ощущений другие животные наслаждаются только двумя [чувствами]. Остальными же [ощущениями] они либо совсем не наслаждаются, либо изведывают [от них удовольствие] каким-то случайным [образом]”)107.
(15) Итак, кто бы, имея хоть какой-нибудь человеческий стыд, [стал] радоваться этим двум наслаждениям соития и обжорства, которые являются общими у человека со свиньей и ослом? (16) Ведь Сократ говаривал, что многие люди потому хотят жить, чтобы есть и пить, он [же хочет] пить и есть, чтобы жить. А Гиппократ, муж божественной учености, думал по поводу любовного соития так, будто это какой-то вид ужаснейшей болезни, которую наши назвали комициальной108. Ведь передаются эти [вот его] собственные слова: τὴν συνουσίαν εἶναι µικρὰν ἐπιληψίαν (“Соитие – это маленькая падучая”109)»110.









































