Текст книги "Первородный грех"
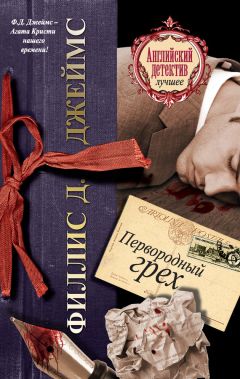
Автор книги: Филлис Джеймс
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)
Сестра Агнес взглянула на нее так, будто только что обнаружила ее присутствие. Затем она снова отвернулась, еще плотнее прижала руки к груди и сказала с едва заметным содроганием:
– Соня была его любовницей последние восемь лет его жизни. Она называла это любовью. Я называла это наваждением. Не знаю, как это называл он. Они никогда вместе не бывали на людях. По его настоянию их связь держалась в глубочайшем секрете. Комната, где они занимались любовью, – та самая, где она умерла. Я всегда знала, когда они бывали вместе. В те вечера, когда она задерживалась в издательстве. Когда она возвращалась домой, я чувствовала на ней его запах.
– Но зачем такая таинственность? – возразила Кейт. – Чего он боялся? Он не был женат, она – не замужем. Оба – взрослые люди. Кому какое дело до этого, кроме них самих?
– Когда я задала ей этот вопрос, у нее уже был готов свой собственный ответ. Скорее – его собственный. Она сказала, что он не собирается снова вступать в брак, что он хочет остаться верным памяти жены, что ему неприятна самая мысль о том, что его личные дела станут предметом издательских сплетен, что их отношения огорчат его дочь. Она принимала все его оправдания. Ей было довольно, что он вполне очевидно нуждается в том, что она может ему дать. Разумеется, все могло быть гораздо проще: она удовлетворяла его чисто физическую нужду в ней, но была недостаточно молода, недостаточно красива, недостаточно богата, чтобы вызвать у него желание на ней жениться. И я думаю, что для него таинственность добавляла остроты их отношениям. Может быть, ему нравилось унижать ее, проверять, где предел ее преданности, красться наверх, в эту убогую комнатенку, словно какой-нибудь викторианский хозяин, услаждающий горничную. Меня больше всего расстраивала не греховность этих отношений, а их вульгарность.
Дэлглиш не ожидал такой искренности, такой открытости. Но возможно, это было не так уж удивительно. Должно быть, она многие месяцы вынуждена была выдерживать взятый на себя обет молчания, но теперь, перед двумя незнакомыми людьми, с которыми ей скорее всего никогда больше не придется встречаться, дала волю накопившейся горечи.
– Я всего на полтора года старше Сони, мы всегда были очень близки. Он все разрушил. Она не могла сочетать и то и другое – свою веру и свою любовь к нему. Так что она предпочла его. Он разрушил наше доверие друг к другу. Какое могло быть между нами доверие, если я презирала ее бога, а она – моего?
– Так она не сочувствовала вашему призванию? – спросил Дэлглиш.
– Она не могла этого понять. Он тоже. Он смотрел на это, как на уход от мира и от ответственности, от сексуальных отношений, от участия, а она верила в то, во что верил он. Она, конечно, довольно давно знала, что я задумала. Подозреваю, она надеялась, что никакой монастырь меня не примет. Не очень многие общины приветствуют пожилых послушниц. Монастырь ведь не предназначен для разочарованных и неудачников. И Соня, конечно, знала, что я не могу предложить им никаких практических умений, никаких талантов. Я была – я и сейчас остаюсь – реставратором книг. Мать-настоятельница время от времени отпускает меня поработать в библиотеках Лондона, Оксфорда, Кембриджа, при условии, что там найдется подходящий дом, я хочу сказать – монастырь, где я могла бы пожить какое-то время. Но такая работа выпадает мне все реже и реже. Очень много времени требуется, чтобы отреставрировать и заново переплести ценную книгу или рукопись, гораздо больше, чем то, на которое меня могут отпустить.
Дэлглиш вспомнил, как три года назад ему довелось посетить библиотеку в Колледже Тела Христова, в Кембридже, где ему показали Иерусалимскую библию, которую под целым эскортом охраны возили в Вестминстерское аббатство то на одну, то на другую коронацию, вместе с одним из самых ранних иллюстрированных экземпляров Нового Завета. Только что заново переплетенное сокровище, любовно вынутое из особого ящика, было осторожно уложено на пюпитр в форме буквы «V», с мягкой обивкой, и страницы переворачивались специальной лопаточкой, чтобы избежать прикосновения рук. Он с восхищением смотрел – сквозь призму пяти веков – на тщательно проработанные рисунки, чьи краски были такими же яркими, как тогда, когда с такой удивительной точностью стекали с пера художника. Эти рисунки своей поразительной красотой и истинной человечностью чуть было не вызвали у него слезы.
– Ваши занятия здесь считаются более важными? – спросил он.
– О них судят по иным критериям. Кроме того, здесь отсутствие у меня более практических навыков и умений не считается недостатком. Ведь всякий, после недолгого обучения, может управлять стиральной машиной или отвозить пациента в инвалидном кресле в ванную, а то и подкладывать судно. Я не уверена, что даже этой работы хватит надолго. Священник, который служит у нас капелланом, переходит в католичество из-за решения англиканской церкви посвящать в духовный сан женщин. Половина сестер следуют его примеру. Будущее ордена Святой Анны как англиканского монастыря – под сомнением.
Они прошли уже все три дорожки и теперь тем же путем возвращались назад. Сестра Агнес продолжала говорить:
– Генри Певерелл не единственный, кто встал между нами в последние годы жизни моей сестры. Была еще Элайза Брейди. О, вам не придется разыскивать ее, коммандер. Она умерла в 1871 году. Я прочла о ней в отчете о коронерском расследовании, помещенном в газете викторианских времен, которая попалась мне в букинистической лавке на Черинг-Кросс-роуд и которую, к несчастью, я передала Соне. Элайзе Брейди было от роду тринадцать лет. Ее отец работал у торговца углем, а мать умерла при родах. Элайзе пришлось стать матерью четверым младшим братьям и сестрам и новорожденному младенцу. В своих свидетельских показаниях ее отец заявил, что девочка была матерью им всем. Она трудилась по четырнадцать часов в сутки. Она мыла, стирала, разжигала камин, готовила, делала покупки, заботилась обо всем семействе. Однажды утром, когда она сушила пеленки малыша на защитной сетке перед камином, она неудачно оперлась о сетку, и та свалилась в огонь. Девочка тяжко обгорела и через три дня умерла в страшных муках. Ее история сильно подействовала на мою сестру. Она сказала: «Вот какова справедливость твоего Бога, который, как ты утверждаешь, полон любви. Вот как он вознаграждает невинных и добрых. Ему недостаточно было убить ее. Надо было, чтобы она умирала долго и в страшных муках». Элайза Брейди стала для Сони прямо-таки наваждением. Она эту девочку просто в культ возвела. Если бы у сестры был ее портрет, она стала бы молиться перед ним, только я не знаю кому.
– Но если ей нужен был повод, чтобы разувериться в Боге, зачем было обращаться к девятнадцатому веку? – возразила Кейт. – Трагедий и в наше время хватает. Ей всего-то и нужно было, что телевизор посмотреть или газеты почитать. Или подумать о Югославии. Элайза Брейди уже больше ста лет как умерла.
– Я ей так и говорила, – сказала сестра Агнес. – Но Соня отвечала, что справедливость не зависит от времени. Мы не должны позволить времени подчинить нас себе. Если Бог вечен, то и Его справедливость вечна. И Его несправедливость – тоже.
– Скажите, до вашего с сестрой отчуждения вы часто приходили в Инносент-Хаус? – спросила Кейт.
– Не очень часто. Но время от времени я там бывала. По правде говоря, за много месяцев до того, как я решила принять обет, у меня была возможность поступить в издательство на работу, на полставки. Жан-Филипп Этьенн очень беспокоился об архивах. Он хотел, чтобы они были разобраны и каталогизированы, и, по-видимому, он считал, что я могла бы подойти для такой работы. У Этьеннов просто нюх на выгодные сделки, и он, вероятно, понимал, что я стану работать из интереса не меньше, чем за деньги. Но Генри Певерелл не согласился на это, и мне, разумеется, было ясно почему.
– Так вы знали Жана-Филиппа Этьенна? – спросил Дэлглиш.
– Я довольно хорошо знала всех компаньонов фирмы. Оба старика – Жан-Филипп и Генри – упрямо держались за власть, которую у них уже не было ни сил, ни воли осуществлять. Жерар Этьенн – этакий юный деспот, несомненно – наследный принц. Отношения с Клаудией Этьенн у меня так никогда и не сложились, но мне нравился Джеймс Де Уитт. Джеймс Де Уитт живет праведной жизнью, не нуждаясь для этого в помощи веры в Бога. Бывают такие люди – они рождаются без сознания первородного греха. Их праведность вряд ли может считаться заслугой.
– Но ведь вера в Бога вовсе не обязательное условие праведной жизни, – возразил Дэлглиш.
– Пожалуй, нет. Сама по себе вера в Бога не определяет поведение человека. К этому должна вести практика веры.
– Вы, конечно, не могли присутствовать на последнем приеме в Инносент-Хаусе, – сказала Кейт. – А на более ранних вечерах там вы бывали? Могли ли гости свободно ходить по зданию, куда им заблагорассудится?
– Я побывала всего на двух вечерах. Один они устраивали летом, другой – зимой. Совершенно определенно, ничто не мешало гостям бродить по всему дому. Однако не думаю, что многие пользовались этой возможностью. Не очень вежливо злоупотреблять приглашением на вечер и заходить в комнаты, куда в обычных условиях чужим входить не полагается. Конечно, Инносент-Хаус теперь занят в основном рабочими кабинетами, это все-таки разница. Но вечера в издательстве всегда были достаточно официальными мероприятиями. Список приглашенных всегда тщательно проверялся, а Генри Певерелл не любил, чтобы в доме находилось одновременно более восьмидесяти человек. В издательстве «Певерелл пресс» никогда не устраивали обычных литературных вечеров, когда приглашается слишком много народа, чтобы кто-то из писателей не обиделся, что его не включили в список, когда перегретые, душные помещения переполнены людьми, гости пытаются удержать на весу тарелки с холодной едой и пьют теплое, не очень высокого сорта белое вино, что-то крича друг другу. Приглашенные прибывали в Инносент-Хаус главным образом по реке, так что, я думаю, отваживать незваных гостей было не особенно трудно.
Мало что еще можно было бы от нее узнать. По общему согласию, у конца следующей дорожки они повернули и пошли назад. В молчании все трое подошли к входной двери, но Кейт и Дэлглиш попрощались с сестрой Агнес, не заходя в монастырское здание. Она смотрела на них пристально и напряженно, вглядываясь в глаза то одной, то другого, заставляя их на миг сосредоточить на ней все свое внимание, словно усилием воли могла побудить их с уважением отнестись к тому, что она им доверила.
Они едва успели выехать с подъездной дорожки и остановиться перед первым светофором, как долго сдерживаемое возмущение Кейт вырвалось наружу:
– Так вот почему в малом архивном кабинете стоял диван-кровать, вот почему на двери был не только замок, но и задвижка. Господи, что за подонок! Сестра Агнес права, он действительно крался наверх, в эту комнатенку, как какой-нибудь ничтожный викторианский деспот. Он ее унижал, он ее использовал. Могу себе представить, что у них там происходило. Он был просто садист.
– У вас нет доказательств этого, Кейт – спокойно возразил ей Дэлглиш.
– Какого черта она с этим мирилась? Она была опытным, всеми уважаемым редактором. Она могла бы уйти.
– Но она его любила.
– А ее сестра любит Бога. Она ищет душевного мира. А у меня не создалось впечатления, что она его обрела. Ведь даже будущее монастыря под угрозой.
– Основатель ее религии не обещал мира. «Я принес вам не мир, но меч». – Бросив на нее взгляд, он понял, что этот текст ничего ей не говорит. Он сказал: – Визит оказался полезным. Мы теперь знаем, почему умерла Соня Клементс, знаем, что ее смерть не имеет ничего или очень мало общего с тем, как поступил с ней Жерар Этьенн. Очевидно также, что ни у кого из ныне живущих нет мотива отомстить за ее смерть. Нам уже было известно, что гости издательства могли свободно ходить по Инносент-Хаусу, куда им заблагорассудится, но очень полезно, что мы получили подтверждение от сестры Агнес. Кроме того, интересна информация об архивах. По словам сестры Агнес, именно Генри Певерелл был решительно против того, чтобы она получила работу по разбору архивов. И только после его смерти Жан-Филипп Этьенн согласился, чтобы Габриел Донтси взялся за это дело.
– Было бы гораздо интереснее, – ответила Кейт, – если бы это Этьенны настаивали на том, чтобы не трогать архивы. Ясно ведь, почему Генри Певерелл не хотел, чтобы сестра Сони Клементс работала в издательстве. Это помешало бы осуществлению его небольшого соглашения с любовницей.
– Это объяснение напрашивается само собой и, как все такие объяснения, может быть верно, – сказал Дэлглиш. – Но в архивах могло быть что-то такое, чего Генри Певерелл не хотел трогать, зная или подозревая, что оно там находится. Даже если так, трудно понять, каким образом это может иметь отношение к смерти Жерара Этьенна. Однако, как вы говорите, было бы гораздо интереснее, если бы это Этьенны не желали трогать архивы. И все равно, я думаю, нам придется взглянуть на эти бумаги.
– На все, сэр?
– Если будет необходимо, Кейт, на все.
43
В воскресный вечер, в половине десятого, Дэниел и Роббинс все еще работали на верхнем этаже Инносент-Хауса, просматривая папки с бумагами. Метод, предложенный Дэниелом, заключался в том, что каждый из них шел вдоль стеллажей с документами, отбирая те папки, которые могли представлять интерес, а затем относил их в малый архивный для дальнейшего исследования. Задание не внушало особых надежд исполнителям, поскольку ни тот ни другой не знали, что ищут. Дэниел рассчитал, что, если работать будут только они двое, на выполнение задания уйдет много недель, однако дело двигалось быстрее, чем он ожидал. Если предположение А.Д. окажется верным и в архиве есть документы, проливающие свет на убийство Жерара Этьенна, кто-то, несомненно, должен был заглядывать в них не так уж давно. Это означало, что самые старые папки с делами девятнадцатого века, которых последние сто лет явно не касалась ничья рука, вполне могли быть исключены, хотя бы на данный момент. С освещением проблем не было – яркие лампы без абажуров свисали с потолка на небольшом расстоянии друг от друга. Но сама работа была пыльной, утомительной и скучной, и он выполнял ее, ни на что не надеясь.
Вскоре после половины десятого он сказал себе – хорошенького понемножку, они достаточно потрудились в этот вечер, и вдруг почувствовал, что ему совсем не хочется возвращаться домой, в квартиру на Бейзуотер-роуд. Нежелание ехать туда было таким острым, что любая альтернатива казалась ему более подходящей. Он старался проводить там как можно меньше времени с тех пор, как Фенелла уехала в Штаты. Они купили эту квартиру вместе всего полтора года назад, и уже через несколько недель совместной жизни Дэниел понял, что и решение жить вместе, и покупка квартиры пополам были ошибкой.
Она тогда сказала: «У нас будут отдельные комнаты, дорогой. Ведь каждый из нас нуждается в уединении».
Потом он часто задавал себе вопрос, действительно ли слышал от нее эти слова. Фенелла не только не нуждалась в уединении, она не имела ни малейшего намерения предоставить ему эту возможность, и не по злой воле, а, как он полагал, просто потому, что совершенно не понимала смысла этого слова. Он слишком поздно вспомнил эпизод из детства, который должен был бы послужить ему спасительным уроком: приятельница его матери уверенным тоном говорила: «В нашем доме с большим уважением относятся к знаниям и к книгам», – в то время как ее шестилетний сынишка с упоением рвал в клочки «Остров сокровищ» Дэниела. Это должно было бы навсегда научить его понимать, что представления людей о себе редко совпадают с тем, как они поступают в реальной жизни. Но и тут Фенелла побила все рекорды несовпадения представлений с действиями. Квартира вечно была переполнена людьми: забегали друзья, их кормили у него на кухне, они ссорились, а потом мирились у него на диване, звонили по всему миру с его телефона, принимали ванну, совершали набеги на его холодильник и пили его пиво. В квартире никогда не бывало тихо, они двое никогда не оставались вдвоем. Спальня Дэниела стала их общей спальней, главным образом потому, что в спальне Фенеллы обычно поселялся кто-то из временно бездомных друзей. Людей влекло к ней, как к освещенной открытой двери. Ее главной привлекательной чертой было неизменное добродушие. Она вполне могла бы завоевать расположение его матери, немедленно пообещав ей обратиться в иудаизм, если бы Дэниел когда-нибудь допустил, чтобы они встретились. Без такой услужливости Фенелла не была бы Фенеллой.
Ее непреодолимая общительность сочеталась с неряшливостью, которая не переставала вызывать его удивление все полтора года, что они прожили вместе, и которая вовсе не мешала ее стремлению украсить квартиру всякими мелочами. Ему запомнилось, как она стояла в гостиной у стены, подняв в руке три небольших гравюры, вертикально прикрепленных к ленте и увенчанных бантом. «Вот здесь, дорогой, или на два дюйма левее? Как ты думаешь?»
Казалось, это вряд ли может иметь значение, когда раковина на кухне полна немытой посуды, дверь в ванную приходится открывать с усилием, потому что за ней валяется куча грязных, дурно пахнущих полотенец, постели не застелены и по всей спальне разбросана одежда. При такой неопрятности во всем, что касалось домашнего быта, она была одержима стремлением часто принимать душ и стирать свое белье. В квартире вечно раздавались шум стиральной машины и шипение водяных струй.
Тот разговор, когда она объявила ему о конце их отношений, четко всплыл в памяти…
– Дорогой, Терри хочет, чтобы я приехала к нему в Нью-Йорк. Прямо в следующий четверг. Он послал мне билет в салон первого класса. Я подумала, ты не станешь возражать. В последнее время нам не очень хорошо было вместе, правда ведь? Тебе не кажется, что что-то очень важное ушло из наших отношений? Что-то очень для нас драгоценное оказалось утрачено. Ты не чувствуешь, что что-то просто как-то утекло?
– Что-то еще, кроме моих сбережений?
– О, дорогой, не надо быть таким мелочным! Это на тебя не похоже.
– А как будет с твоей работой? Как ты сможешь работать в Соединенных Штатах? Грин-карту не очень легко получить, – сказал он.
– О, работа меня не беспокоит. Во всяком случае, пока. У Терри денег навалом. Он говорит, я смогу занять себя, развлекаясь украшением его квартиры.
Их расставание прошло без взаимных обвинений. Он обнаружил, что поссориться с Фенеллой практически невозможно. Его не очень огорчило, даже как-то, с примесью печальной иронии, позабавило то, что ее дружелюбие шло рука об руку с гораздо более четким пониманием коммерческой выгоды, чем он мог ожидать. «Дорогой, я думаю, лучше тебе выкупить мою половину квартиры за половину той цены, что мы за нее платили, а не той, что она стоит сейчас. Цены на квартиры безобразно упали, да и на все вообще. И если ты мне заплатишь половину тогдашней цены за мебель, я всю ее оставлю тебе. Ведь надо же тебе на чем-то сидеть, милый».
Вряд ли стоило напоминать ей, что почти всю мебель оплатил он сам, хотя выбирала ее Фенелла, и выбор ее не пришелся ему по вкусу. Он заметил также, что наиболее ценные из купленных ими мелочей исчезли и, по-видимому, теперь обретались в Нью-Йорке. Осталось какое-то барахло, но у него не было ни времени, ни охоты куда-то его девать. Она оставила ему долги по ипотеке, квартиру, заполненную мебелью, которая ему активно не нравилась, баснословный счет за международные переговоры, главным образом с Нью-Йорком, и счет от адвоката, который, как он надеялся, можно будет оплачивать в рассрочку. И тем более раздражало его то, что он вдруг обнаружил, как сильно ему порой ее недостает.
За помещением архива, рядом с лестничной площадкой, находились небольшая умывальная и туалет. Пока Роббинс смывал там пыль десятилетий, Дэниел, поддавшись порыву, позвонил в полицейский участок Уоппинга. Кейт там не было. Тогда, меньше секунды поразмыслив, он набрал номер ее новой квартиры.
Она взяла трубку, и он спросил:
– Чем вы заняты?
– Привожу в порядок бумаги. А вы?
– Привожу в беспорядок бумаги. Я все еще в Инносент-Хаусе. Хотите выпить?
Чуть поколебавшись, она ответила:
– Почему бы и нет? Что вы предлагаете?
– «Город Рамсгейт». Удобно и вам, и мне. Встречу вас там через двадцать минут.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































