Текст книги "Саламбо (сборник)"
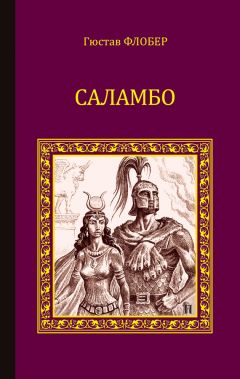
Автор книги: Гюстав Флобер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Карфагеняне больше не пытались делать вылазки. Но они не думали сдаваться, – они знали, что если сдадутся, то погибнут в муках.
Между тем, несмотря на меры, принятые Гамилькаром, припасы убывали со страшной быстротой. Оставалось на каждого не более чем по десяти хомеров хлеба, по три гина пшена и по двенадцати бетц сушеных плодов. Не было ни мяса, ни оливкового масла, ни солений, ни овса для коней. Опустив худые шеи, лошади искали втоптанные в землю соломинки. Часовые, стоя на насыпи, часто примечали при лунном свете собаку варваров, бродившую возле укрепленной площадки, среди кучи отбросов. Собаку убивали камнем, при помощи ремней от щитов спускались за ограду, а затем молча съедали ее. Иногда поднимался громкий лай, и часовой не возвращался. В четвертой дилохии двенадцатой синтагмы три фалангита, подравшись из-за крысы, зарезали друг друга ножами.
Все тосковали о своих семьях, о домах: бедняки вспоминали свои похожие на ульи хижины, раковины у порога, развешанные сети; патриции – свои большие залы, погруженные в голубоватый сумрак; там они отдыхали в самое жаркое время дня, внимая смутному гулу улиц и трепету листьев в садах. Чтобы глубже погрузиться в воспоминания и полнее ими насладиться, они прикрывали веки; боль от ран выводила их из забытья. Постоянно происходили схватки или поднималась какая-нибудь новая тревога: горели башни, пожиратели нечистой пищи вскакивали на частокол; им отрубали руки топорами; следом за ними прибегали другие; железный дождь падал на палатки. Карфагеняне построили галереи из камыша для защиты от метательных снарядов, заперлись в них и не двигались с места.
Каждый день солнце, взойдя, обходило гору, а затем покидало ущелье и оставляло карфагенян в тени. Спереди и сзади поднимались серые скаты, усеянные камнями, обросшими мхом, а вверху раскинулось небо, всегда чистое, холодное и глаже металлического купола. Гамилькар был так возмущен поведением Карфагена, что ему хотелось перейти к варварам и повести их на Карфаген. Возроптали носильщики, маркитанты и рабы, а ни народ, ни Великий совет не подавали ни малейшей надежды! Положение становилось невыносимым; особенно тяжела была мысль, что оно должно ухудшиться.
Узнав о поражении, Карфаген вскипел гневом; может быть, суффета не так возненавидели бы, если бы он дал разбить себя с самого начала.
Теперь не было ни времени, ни денег, чтобы взять других наемников. Если же произвести новый набор в городе, то чем снарядить воинов? Гамилькар забрал все оружие! И кому поручить командование? Лучшие начальники были там, у Гамилькара! Гонцы, отправленные суффетом, появлялись на улицах и оглашали их криками. Великий совет обеспокоился и постарался их убрать.
Это была излишняя предосторожность; горожане были против Барки и обвиняли его в чрезмерной мягкости. Следовало после победы истребить наемников. И к чему было разорять союзные племена? Ведь, казалось бы, принесены достаточно тяжелые жертвы! Патриции жалели о внесенных ими четырнадцати шекелях, Сисситы – о своих двухстах двадцати трех тысячах киккаров золота. Те, которые ничего не дали, роптали не меньше других. Народ был возмущен тем, что новым карфагенянам Республика обещала все права гражданства; доблестно сражавшихся лигуров проклинали, смешивая их с варварами; принадлежность к их племени становилась преступлением – это было равносильно сообщничеству с врагами. Купцы на порогах своих лавок, рабочие, проходившие со свинцовыми линейками в руках, торговцы рассолом, полоскавшие свои кувшины, банщики в банях, продавцы горячих напитков – все обсуждали военные действия. Рисовали пальцами на песке планы сражений; даже самые ничтожные люди исправляли на словах ошибки Гамилькара.
Жрецы говорили, что это ему наказание за безбожие. Гамилькар не принес жертв, не подверг очищению свои войска и даже отказался взять с собою авгуров. Обвинение в святотатстве усиливало затаенную злобу против него и ярость, вызванную разбитыми надеждами. Вспоминали поражения в Сицилии и гордыню морского суффета, которую приходилось так долго сносить. Жрецы не могли простить ему захват их казны и требовали, чтобы Великий совет торжественно обещал распять его, если он когда-либо вернется.
Другим бедствием была страшная жара, наступившая в тот год в месяце Элуле. С берегов озера поднималось зловоние; оно носилось в воздухе вместе с дымом курений, который клубился на углах улиц. Все время слышалось пение гимнов. Толпы народа теснились на ступенях храмов; их стены были покрыты черными завесами; восковые свечи озаряли богов Патэков; кровь верблюдов, зарезанных для жертвоприношения, текла по лестницам, образуя красные водопады. Мрачное неистовство охватило Карфаген. Из самых узких переулков, из самых мрачных притонов выходили бледные фигуры, люди со змеиным профилем, и скрежетали зубами. Жители, занятые разговорами на площадях, оборачивались на пронзительный вопль женщин, наполнявший дома и вырывавшийся за ограды. Ходили слухи, что варвары уже близко; их видели за горой Горячих источников, будто бы они расположились лагерем в Тунисе. Шум голосов усиливался, нарастал и сливался в общий гул. Затем наступала тишина; одни застывали на фронтонах зданий, куда они вскарабкались, чтобы обозреть окрестности, другие, лежа на животе у подножия укреплений, прислушивались. Страх сменялся гневом. Но сознание своей беспомощности снова погружало людей в уныние.
Особенно тоскливо становилось горожанам вечерами, когда они выходили на террасы и приветствовали громким криком Солнце, склоняясь перед ним по девять раз. Оно медленно опускалось за лагуной, потом исчезало в горах, в той стороне, где находились варвары.
Приближался трижды священный праздник, когда с высоты костра взлетал к небу орел, символ воскресшего года, знаменуя послание народа верховному Ваалу и как бы его союз с силой Солнца. Однако, охваченные чувством ненависти, люди наивно поклонялись теперь Молоху – губителю и отвернулись от Танит. Лишенная покрывала Раббет как бы утратила часть своего могущества. Исчезла благотворная сила ее вод, она покинула Карфаген, сделалась перебежчицей, врагом. Некоторые бросали в богиню камнями, чтобы оскорбить ее. Но, понося Танит, многие ее жалели и, быть может, любили даже глубже, чем прежде.
Значит, причиной всех несчастий была утрата заимфа. Саламбо косвенно участвовала в похищении покрывала, и общий гнев распространился на нее – она должна понести кару. Вскоре в народе возникла смутная мысль об искупительной жертве. Чтобы умилостивить Ваалов, следовало без колебаний принести в жертву нечто бесконечно драгоценное: прекрасную юную девственницу старинного рода, происходящую от богов, звезду мира человеческого. Ежедневно какие-то неизвестные вторгались в сады Мегары – рабы, дрожавшие за собственную жизнь, не решались оказать им сопротивление. Люди эти, однако, не шли дальше лестницы, украшенной галерами. Они стояли внизу, вперив взгляд в верхнюю террасу: они ждали Саламбо и кричали целыми часами, изливая свой гнев против нее, как собаки, воющие на луну.
X. Змея
Крики черни не пугали дочь Гамилькара.
Она была поглощена более важной заботой: занемогла ее большая змея, черный пифон, который был для Карфагена общенародным и вместе с тем его личным фетишем. Змею считали порождением земного ила, так как она выходит из недр земли и ей не нужно ног, чтобы перемещаться; движения ее подобны струистому течению рек, холод ее тела напоминает вязкий плодородный мрак глубокой древности, а круг, который она описывает, кусая свой хвост, подобен кругу планет, разуму Эшмуна.
Пифон Саламбо несколько раз отказался съесть четырех живых воробьев, которых ему преподносили каждое полнолуние и каждое новолуние. Его великолепная кожа, покрытая, подобно небесному своду, золотыми пятнами на черном фоне, пожелтела, сделалась дряблой, сморщенной и чересчур просторной; мохнатая плесень распространялась вокруг головы, а в углах век показались маленькие красные точки – они как будто двигались. Время от времени Саламбо подходила к корзинке, сплетенной из серебряной проволоки. Она отдергивала пурпуровую занавеску, раздвигала листья лотоса, птичий пух; змея лежала свернувшись, неподвижная, как увядшая лиана. Саламбо так долго смотрела на пифона, что ей начинало казаться, будто в сердце ее вонзается, подступает к горлу неведомая спираль и какая-то другая змея душит ее.
Саламбо была в отчаянии оттого, что видела заимф; вместе с тем она испытывала как бы радость и затаенную гордость. Сверкавшие складки таили неведомое: то было облако, окутывавшее богов, то была тайна мировой жизни, и Саламбо, приходя в ужас от самой себя, жалела, что не коснулась покрывала.
Она почти все время сидела с остановившимся взглядом на корточках в глубине своей комнаты, обхватив руками левое колено, полуоткрыв рот и опустив голову. Она со страхом вспоминала лицо своего отца; ей хотелось уйти в финикийские горы, совершить паломничество в храм Афаки, куда Танит спустилась в виде звезды. Ее воображению рисовались манящие и вместе с тем пугающие образы, чувство одиночества с каждым днем все сильнее охватывало ее. Она даже не знала ничего о Гамилькаре.
Утомленная своими мыслями, она поднималась, с трудом передвигая ноги в маленьких сандалиях с постукивавшими на каждом шагу каблучками, и бродила по большой тихой комнате. Сверкающие пятна аметистов и топазов дрожали на потолке, и Саламбо, продолжая ходить, слегка поворачивала голову, чтобы их видеть. Она пила прямо из горлышка висевших амфор, обмахивала грудь большими опахалами или развлекалась тем, что сжигала киннамон в выдолбленных жемчужинах. В час заката Таанах вынимала ромбовидные куски черного войлока, закрывавшие отверстия в стене; тогда в комнату влетали голуби, натертые мускусом, подобно голубям Танит; их розовые лапки скользили по стеклянным плитам пола среди зерен ячменя, которые Саламбо бросала им полными пригоршнями, как сеятель в поле. Порой она разражалась рыданиями и недвижно лежала на широком ложе из кожаных ремней, неустанно повторяя одно и то же слово, мертвенно-бледная, с широко раскрытыми глазами, бесчувственная, холодная. Все же она слышала крики обезьян на верхушках пальм и непрерывный скрип большого колеса, накачивавшего воду в порфировый бассейн.
Иной раз Саламбо отказывалась от пищи. Ей снилось, что потускневшие звезды падают к ее ногам. Она призывала Шагабарима, но, когда он приходил, ей нечего было ему сказать.
Присутствие верховного жреца было для нее облегчением, Саламбо не могла без него обойтись. Но она внутренне восставала против его власти над нею. В ее чувстве к жрецу был страх, смешанный с ревностью и ненавистью. Но вместе с тем Саламбо по-своему любила своего наставника из благодарности за странное наслаждение, какое она испытывала в его присутствии.
Он сразу увидел в страданиях Саламбо влияние Раббет, ибо умел искусно распознавать, какие боги посылают болезни. Чтобы исцелить Саламбо, он приказывал кропить ее покои водою, настоянной на вербене и руте; она ела по утрам мандрагору; на ночь ей клали под голову мешочек со смесью из ароматных трав, приготовленной жрецами. Он примешивал к ним баарас – огненного цвета корень, который гонит на север злых духов. Наконец, повернувшись к Полярной звезде, он трижды произносил шепотом таинственное имя Танит, но Саламбо все не выздоравливала, и тревога его возрастала.
В Карфагене не было никого ученее Шагабарима. В молодости он учился в школе могбедов в Борзиппе, близ Вавилона, потом побывал в Самофракии, в Пессинунте, Эфесе, Фессалии и Иудее, посетил храмы набатейцев, затерянные в песках, и пешком прошел по берегу Нила – от порогов до моря. Закрыв лицо покрывалом и потрясая факелами, он бросал черного петуха в костер из сандарака перед грудью Сфинкса, отца ужасов. Он спускался в пещеры Прозерпины, он видел пятьсот вращающихся колонн лемносского лабиринта, сияющий тарентский светильник, на стержне которого столько огней, сколько дней в году; по ночам он иногда принимал у себя греков и расспрашивал их. Строение мира занимало его не менее, чем природа богов; при помощи астрономических сооружений, установленных в Александрийском портике, он наблюдал равноденствия и сопровождал до Кирены бематистов Эвергета, которые измеряют небо, считая число своих шагов. И в мыслях его возникла своеобразная религия, без определенных догматов, и именно вследствие этого головокружительная и пламенная. Он перестал верить, что земля имеет вид сосновой шишки; он считал ее круглой и вечно несущейся в пространстве с такой непостижимой быстротой, что ее движение незаметно.
Из того, что солнце расположено над луной, он приходил к выводу о превосходстве Ваала, считая, что солнце – лишь отражение и облик божества. И все наблюдения над жизнью земли приводили его к признанию верховной власти истребляющего мужского начала. Втайне он обвинял Раббет в несчастье своей жизни. Не ради ли нее верховный жрец, шествуя среди бряцания кимвалов, лишил его некогда мужественности? И он следил печальным взглядом за мужчинами, которые уходили с жрицами в гущу фисташковых деревьев.
Дни его проходили в осмотре кадильниц, золотых сосудов, щипцов и лопаток для алтарного пепла и всех одеяний, приготовленных для статуй, вплоть до бронзовой иглы, которой завивали волосы на старой статуе Танит в третьей храмовой пристройке, вблизи виноградника с гроздьями из изумруда. В одни и те же часы он приподнимал большие ковры на тех же дверях и вновь опускал их; в одной и той же позе он воздевал руки; на одних и тех же плитах пола, распростершись, молился, в то время как вокруг него множество жрецов ходило босиком по коридорам, окутанным вечным мраком.
В бесплодной его жизни Саламбо была как бы цветком в расщелине гробницы. Он все же был суров с воспитанницей, не щадил ее, назначал покаяния и говорил ей горькие слова. Жреческий сан Шагабарима устанавливал между ними как бы равенство пола; он сетовал на девушку не столько за то, что не мог обладать ею, сколько за то, что она так прекрасна, в особенности же – так чиста. Он часто замечал, что она устает следить за ходом его мыслей. Тогда он уходил опечаленный, чувствуя себя еще более покинутым и одиноким, и жизнь его становилась еще более пустой.
Иногда у него вырывались странные слова, которые мелькали перед Саламбо, как молнии, озаряющие пропасти. Это бывало ночью, на террасе, когда, оставшись вдвоем, они созерцали звезды. Карфаген расстилался внизу, у их ног, а залив и море сливались с окружающим мраком.
Он излагал ей свое учение о душах, спускающихся на землю тем же путем, каким проходит солнце среди знаков зодиака. Простирая руку, он указывал ей в созвездии Овна врата рождения человеческого, а в созвездии Козерога – врата возвращения к богам. Саламбо напрягала взор, чтобы увидеть их, так как принимала эти отвлеченные представления за действительность; ей казались истинными в своей сущности все символы и даже форма, в которой он выражал свои мысли, да и для самого жреца различие между символом и действительностью не было вполне ясным.
– Души мертвых, – говорил он, – растворяются на луне, как трупы в земле. Их слезы образуют влагу луны. Там обиталище, полное мрака, обломков и бурь.
Она спросила, что ждет ее там.
– Сначала ты будешь томиться, легкая, как туман, который колышется над водами, а после испытаний и длительных мук ты уйдешь к очагу Солнца, к самому источнику разума!
Однако он не говорил о Раббет. Саламбо думала, что он умалчивает о ней из чувства стыда за побежденную богиню; называя ее общим именем, обозначавшим луну, она славила нежное, покровительствующее плодородию светило. Наконец он воскликнул:
– Нет, нет! Свое плодородие земля получает от дневного светила! Разве ты не видишь, что луна бродит вокруг него, как влюбленная женщина, которая гонится по полю за мужчиной?
И он долго славил благость солнечного света. Шагабарим не только не убивал в ней мистические порывы, напротив – он вызывал их с каким-то торжеством, терзая ее своим безжалостным учением. Саламбо, несмотря на страдания любви, страстно внимала этим откровениям.
Но чем больше Шагабарим сомневался в Танит, тем больше он жаждал верить в нее. Его томили угрызения совести. Он нуждался в доказательствах, в проявлениях воли богов и, надеясь увидеть их, придумал нечто такое, что должно было одновременно спасти и его родину и его веру.
Он стал сокрушаться при Саламбо о совершенном святотатстве и о несчастиях, которые оно вызывает даже в небесах. Потом неожиданно сообщил ей о том, в какой опасности находится суффет, осажденный тремя войсками под предводительством Мато. В глазах карфагенян Мато, после того как он похитил покрывало, сделался как бы царем варваров. Шагабарим прибавил, что спасение Республики и отца зависит от нее одной.
– От меня? – воскликнула Саламбо. – Что же я могу?
Но жрец презрительно усмехнулся:
– Ты никогда не согласишься!
Она стала умолять Шагабарима, и он наконец сказал:
– Ты должна пойти к варварам и взять у них заимф!
Саламбо опустилась на табурет из черного дерева и сидела, бессильно положив руки на колени, трепещущая, как жертва у подножия алтаря в ожидании смертоносного удара. У нее стучало в висках, в глазах пошли огненные круги, и в своем оцепенении дочь Гамилькара понимала только одно – она обречена на близкую смерть.
«Если Раббет восторжествует, если заимф будет возвращен и Карфаген избавится от врагов, за это стоит заплатить жизнью одной женщины, – думал Шагабарим. – К тому же, быть может, ей отдадут заимф, и она вернется невредимой».
Он не приходил к ней три дня. Вечером четвертого дня она послала за ним.
Чтобы еще больше воспламенить сердце Саламбо, он рассказал ей, какой бранью осыпали Гамилькара в Совете; он утверждал, что Саламбо виновата и должна искупить свое преступление и что Раббет требует от нее этой жертвы.
Часто громкий гул голосов, проносясь над Маппалами, доходил до Мегары. Шагабарим и Саламбо поспешно выходили из покоев и, стоя на лестнице, украшенной галерами, смотрели вниз.
На Камонской площади народ кричал, требовал оружия.
Старейшины отказывались выполнить это требование, считая всякое усилие бесполезным. Отряды, ушедшие на войну без начальников, были разбиты и уничтожены. Наконец людям разрешили идти, и, как бы отдавая дань Молоху или просто испытывая смутную жажду разрушения, они с корнем вырвали в рощах храмов большие кипарисы, зажгли их от факелов Кабиров и с песнями стали носить по улицам. Чудовищные огни двигались, медленно раскачиваясь и освещая ярким светом стеклянные шары на верхушках храмов, украшения колоссов, тараны судов; они возвышались над террасами и казались солнцами, катящимися по городу. Они спустились с акрополя. Раскрылись ворота Малки.
– Ты готова? – спросил Шагабарим. – Или, быть может, поручишь им сказать отцу, что ты отрекаешься от него?
Она спрятала лицо в складки покрывала. Огни удалились, постепенно спускаясь к воде.
Ее удерживал смутный страх; она боялась Молоха, боялась Мато. Этот человек исполинского роста, завладевший заимфом, властвовал теперь над Раббет, как Ваал, и представлялся ей окруженным таким же сверканием. Ведь души богов вселялись иногда в тела людей. Разве Шагабарим, говоря о нем, не сказал ей, что она должна побороть Молоха? Мато слился с Молохом, и она соединила их в одном образе; они оба преследовали ее.
Она хотела узнать, что ее ожидает, и подошла к змее, ибо будущее можно определить по ее движениям. Корзина была пуста, и это встревожило Саламбо.
Хвост пифона обвился вокруг колонки серебряных перил, у подвесной постели, и терся о нее, чтобы высвободиться из старой, пожелтевшей кожи; светлое, сверкающее тело змеи обнажилось, как меч, наполовину вынутый из ножен.
В следующие дни, по мере того как Саламбо склонялась на уговоры, соглашаясь прийти на помощь Танит, пифон выздоравливал, толстел и, видимо, оживал.
Она убедилась, что Шагабарим выражает волю богов. Однажды утром она проснулась, полная решимости, и спросила, что нужно сделать, чтобы Мато вернул покрывало.
– Потребовать его, – сказал Шагабарим.
– А если он откажет?
Жрец пристально взглянул на нее с улыбкой, какой она никогда еще не видела у него.
– Как быть тогда? – повторила Саламбо.
Он вертел в пальцах концы повязок, спускавшихся с его тиары, и, недвижимый, молчал, опустив глаза. Наконец, видя, что она не понимает, сказал:
– Ты останешься с ним наедине.
– И что же? – сказала она.
– Наедине в его палатке.
– А затем?
Шагабарим закусил губу. Он придумывал, что ей ответить.
– Если тебе и суждено умереть, то потом, – сказал он. – Потом! Не бойся! И, что бы ни случилось, не зови на помощь, не пугайся! Ты должна быть покорной, понимаешь? Должна подчиниться его желаниям, в которых выражается воля неба!
– А покрывало?
– Об этом позаботятся боги, – ответил Шагабарим.
Она спросила:
– Может быть, ты пойдешь со мной, отец?
– Нет.
Шагабарим велел ей стать на колени; подняв левую руку и вытянув правую, он поклялся за нее, что она принесет обратно в Карфаген покрывало Танит. Со страшными заклинаниями Саламбо посвящала себя богам и повторяла, обессиленная, каждое слово, которое произносил Шагабарим.
Он назначил ей очищение, сказал, какие она должна соблюдать посты, а затем объяснил, как пробраться к Мато, прибавив, что с ней пойдет человек, который знает дорогу.
Она почувствовала себя освобожденной, радовалась, что вновь увидит заимф, и благословляла Шагабарима за его увещания.
То была пора, когда карфагенские голуби улетали в Сицилию, на гору Эрике, к храму Венеры. Перед отлетом они в течение нескольких дней искали и звали друг друга, чтобы собраться вместе; однажды вечером они улетели. Их гнал ветер, и, как большое белое облако, они плыли по небу высоко над морем.
Горизонт был залит кровавым светом. Казалось, что голуби спускаются к волнам, затем они исчезли, точно добровольно ввергли себя в пасть солнца. Саламбо, следившая за их полетом, опустила голову, и Таанах, думая, что угадывает причину ее печали, тихо сказала:
– Они вернутся, госпожа.
– Я знаю.
– И ты снова увидишь их.
– Может быть, – сказала она со вздохом.
Саламбо никому не поведала своего решения. Из осторожности она послала Таанах купить в предместье Кинидзо (вместо того, чтобы обратиться к дворцовым управителям) все, что ей было нужно: киноварь, благовония, льняной пояс и новые одежды. Старую рабыню удивляли эти приготовления, но она не осмеливалась предлагать вопросы госпоже. Наконец наступил назначенный Шагабаримом день, когда Саламбо должна была отправиться за покрывалом.
В двенадцатом часу она увидела в глубине аллеи смоковниц слепого старца – старец приближался, опираясь рукой на плечо шедшего перед ним мальчика; другой рукой он прижимал к бедру род кифары из черного дерева. Евнухи, рабы и женщины были заранее удалены, и никто не знал о том, что готовилось.
По углам покоя Таанах зажгла на четырех треножниках огонь из стробуса и кардамона; потом развернула большие вавилонские ковры и натянула их на веревки вокруг комнаты; Саламбо не хотела, чтобы даже стены видели ее. У входа в покой сидел старик музыкант, а мальчик, стоя, прижимал к губам камышовую флейту. Вдали утихал уличный шум, фиолетовые тени у колоннад храмов удлинялись; с другой стороны залива подножие гор, оливковые кущи и желтые невозделанные земли, уходившие волнами в бесконечную даль, терялись в голубоватой дымке. Не слышно было ни звука; несказанное уныние нависло в воздухе.
Саламбо присела на ониксовую ступеньку возле бассейна; она подняла широкие рукава, завязала их на спине и стала медленно совершать омовения по священному ритуалу.
Затем Таанах принесла ей в алебастровом сосуде свернувшуюся жидкость; то была кровь черной собаки, зарезанной бесплодными женщинами в зимнюю ночь на развалинах гробницы. Саламбо натерла себе ею уши, пятки, большой палец правой руки; даже на ногте остался красноватый след, точно она раздавила гранат.
Поднялась луна, и одновременно зазвучали кифара и флейта.
Саламбо сняла серьги, ожерелья, браслеты и длинную белую симарру. Она распустила волосы и некоторое время тихонько встряхивала ими, чтобы освежиться. Музыка у входа продолжалась; она состояла из трех нот, быстрых и яростных; струны бряцали, заливалась флейта; Таанах мерно ударяла в ладоши. Саламбо, покачиваясь всем телом, шептала молитвы, и одежды падали одна за другой к ее ногам.
Тяжелая завеса дрогнула, и над шнуром, поддерживавшим ее, показалась голова пифона. Он медленно спустился, подобно капле воды, стекающей по стене, прополз между разостланными тканями, потом, упираясь хвостом в пол, выпрямился; глаза его, сверкавшие ярче карбункулов, уставились на Саламбо.
Боязнь холодного прикосновения или, быть может, чувство стыдливости остановило ее на мгновение. Но она вспомнила повеления Шагабарима и сделала шаг вперед. Пифон припал к Саламбо и, прижавшись телом к ее затылку, опустил голову и хвост, точно разорванное ожерелье, концы которого ниспадают до земли. Саламбо обернула змею вокруг бедер, под мышками и между колен; потом, взяв ее за челюсти, приблизила маленькую треугольную пасть к своим зубам и, полузакрыв глаза, откинула голову под лучами луны. Белый свет обволакивал ее серебристым туманом, следы влажных ног сверкали на плитах пола, звезды дрожали в воде; пифон сжимал ее своими черными кольцами в золотых пятнах. Саламбо задыхалась от тяжести, ноги у нее подкашивались; ей казалось, что она умирает. А пифон мягко ударял ее кончиком хвоста по бедрам; потом, когда музыка смолкла, он свалился на пол.
Таанах опять вошла к Саламбо; она принесла два светильника, пламя которых проходило сквозь стеклянные шары, наполненные водой, и выкрасила лавзонией ладони Саламбо, нарумянила ей щеки, насурмила брови и удлинила их составом из камеди, мускуса, эбенового дерева и толченых мушиных лапок.
Саламбо, сидя на кресле из слоновой кости, отдалась заботам рабыни. Строгий пост изнурил ее – легкие движения руки Таанах и запах благовоний совсем ее обессилили. Она так побледнела, что Таанах остановилась.
– Продолжай! – приказала Саламбо.
Преодолев слабость, она оживилась. Ею овладело нетерпение; она стала торопить Таанах, и старая рабыня проворчала:
– Сейчас, сейчас, госпожа!.. Тебя ведь никто не ждет!
– Нет, – возразила Саламбо, – меня ждут.
Таанах отшатнулась, пораженная ее словами, и проговорила, стараясь что-нибудь выведать:
– Что же ты прикажешь мне, госпожа? Ведь если ты уйдешь…
Саламбо зарыдала. Рабыня воскликнула:
– Ты страдаешь? Что с тобой? Не уходи или возьми меня с собой! Когда ты была совсем маленькая и плакала, я прижимала тебя к сердцу и забавляла своими сосцами. Ты иссушила их, госпожа!
Она ударила себя в высохшую грудь.
– Теперь я стара! Я не могу утешить тебя! Ты меня больше не любишь! Ты скрываешь от меня свою печаль, пренебрегаешь старой кормилицей!
От нежности и обиды слезы текли у нее по щекам, по шрамам татуировки.
– Нет, – сказала Саламбо, – нет, я люблю тебя! Успокойся!
Таанах снова принялась за дело с улыбкой, похожей на гримасу старой обезьяны. Следуя советам Шагабарима, Саламбо приказала одеть себя с большой пышностью, и Таанах нарядила ее во вкусе варваров – изысканно и в то же время наивно.
На тонкую тунику винного цвета Саламбо накинула вторую, расшитую перьями. Золотой чешуйчатый пояс обхватывал ее бедра, и из-под него спускались пышные голубые шаровары с серебряными звездами. Поверх этого Таанах надела на нее парадное полотняное платье, изготовленное в стране серийцев, белое с зелеными узорами. К плечу она прикрепила пурпуровый четырехугольник, отягощенный снизу камешками сандастра, и на все эти одежды набросила черный плащ с длинным шлейфом. Она оглядела Саламбо и, гордясь своим искусством, не удержалась и сказала:
– Ты не будешь прекраснее и в день твоей свадьбы!
– Моей свадьбы! – повторила задумчиво Саламбо, опираясь локтем на ручку кресла из слоновой кости.
Таанах поставила перед нею медное зеркало, такое широкое и высокое, что Саламбо увидела себя всю. Она встала и легким движением приподняла низко спустившийся локон.
Волосы ее, осыпанные золотым порошком, взбитые на лбу, падали на спину длинными волнами и были убраны внизу жемчугом. Пламя светильников оживляло румяна на ее щеках, золото одежд и белизну кожи; на поясе, на руках и пальцах ног сверкало столько драгоценностей, что зеркало, подобно солнцу, бросало на нее отсветы лучей. Стоя рядом с Таанах, наклонявшейся, чтобы поглядеть на нее, Саламбо улыбалась среди этого ослепительного сверкания.
Потом она стала ходить по комнате, не зная, куда девать время.
Пропел петух; Саламбо набросила на голову длинное желтое покрывало, на шею надела шарф, сунула ноги в сапожки из синей кожи и сказала Таанах:
– Пойди посмотри, не стоит ли в миртовой роще человек с двумя лошадьми.
Когда Таанах вернулась, Саламбо уже спускалась по лестнице, украшенной галерами.
– Госпожа! – крикнула кормилица.
Саламбо обернулась и приложила палец к губам в знак безмолвия и неподвижности.
Таанах тихо соскользнула мимо галер до низа террасы; издали при свете луны она увидела в аллее кипарисов огромную тень, двигавшуюся вкось, слева от Саламбо; это предвещало смерть.
Таанах вернулась в комнату своей госпожи. Она бросилась на пол, царапая лицо ногтями; она рвала на себе волосы и испускала пронзительные крики.
Подумав, что ее могут услышать, она перестала кричать. И продолжала рыдать совсем тихо, опустив голову на руки и прижимаясь лицом к плитам пола.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































