Текст книги "Саламбо (сборник)"
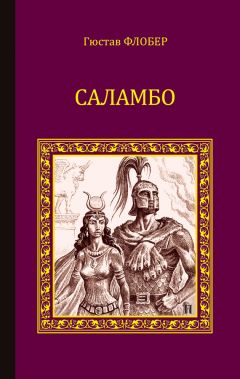
Автор книги: Гюстав Флобер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Человек лежал там на земле. Его длинные волосы перепутались с шерстью звериной шкуры, облекавшей его члены. Он поднялся. Его лоб коснулся поперечной железной решетки, крепко вделанной в стены ямы… От времени до времени он отходил прочь и исчезал во тьме подземелья.
Острые верхушки тиар, рукоятки мечей сверкали на солнце; тяжелый зной раскалил плиты мостовой – и голуби, слетая с карнизов, кружили над двором. То был обычный час, когда Маннаи кормил их зерном. Он присел на корточки перед тетрархом, который стоял недвижно возле Вителлия. Галилеяне, священники, солдаты составляли сзади широкий круг – все молчали в немотствующем ожидании.
Сперва послышался глубокий вздох, похожий на хриплое, протяжное рычание.
Иродиада услышала этот вздох на другом конце дворца. Охваченная неотразимым влечением, она прошла сквозь всю толпу, и, положив руку на плечо Маннаи, наклонив вперед все тело, она принялась слушать.
Голос заговорил:
«Горе вам, фарисеи и саддукеи, исчадье змей, мехи надутые, кимвалы звенящие!»
Все узнали Иоаканама… все повторяли его имя.
Много еще подбежало народу.
«Горе тебе, народ, горе вам, иудейские изменники, пьяницы эфраимские, горе вам, живущим в тучных долинах, вам, чьи путаются ноги, отягченные винищем!..»
«Да расточатся они, как вода иссякающая, как истлевающий червь, как недоносок женщины, которому не суждено увидеть солнца!..»
«О Моав, тебе придется скрываться в ветвях кипариса, подобно воробью, в тьме пещер, подобно тушканчику! Как ореховая шелуха, раздробятся ворота крепостей, и рухнут стены, и воспылают города! Бич всевышнего разить не перестанет! В твоей же крови вываляет он твои члены, словно шерсть в чану красильщика! Он истолчет тебя, как зерно в ступе; как новая борона терзает грудь земли – так он тебя истерзает; по горам и долам разбросает он клочья твоего мяса!..»
– О каком завоевателе говорит он? – спрашивали себя слушатели. – Не о Вителлии ли? Одни римляне могли совершить такие истребления!
И жалобы возникали кругом, раздавались стенания:
– Довольно! довольно! вели ему замолчать!
Но Иоаканам продолжал еще громче:
«Хватаясь за трупы своих матерей, малые дети будут ползти по горячему пеплу! Ночью, под страхом и на авось меча, люди пойдут искать посреди развалин огрызки хлеба! На площадях городских, там, где некогда беседовали старцы, чекалки станут оспаривать друг у друга мертвые кости! Глотая слезы, юные девы будут играть на лютнях перед пирующими иноземцами, и самые храбрые сыны твои, о Моав! – преклонят хребты под непосильными ношами!»
Столпившийся народ безмолвно слушал эти заклинания – и перед его духовными очами возникали дни изгнания, бедствия и напасти прошедших времен. Точно такие речи гремели в устах древних пророков. Иоаканам посылал свои возгласы один за другим, с расстановкой – словно наносил удары.
И вдруг его голос стал тихим, сладкозвучным, певучим. Он предвещал скорое освобождение, царство справедливости, милости, благополучия. Небеса засияют непреходным сиянием, в пещере дракона родится младенец, золото заступит место глины, пустыня расцветет пышнее розы! То, что теперь стоит шестьдесят гиккасов, не будет стоить больше обола. Молочные источники заструятся из недра скал – все люди, довольные, пресыщенные, будут опочивать в тени виноградных лоз!..
«Когда же придешь ты, кого я ожидаю! Уже теперь все народы преклоняют колени – и царствию твоему не будет конца, о сын Давида!»
Тетрарх откинулся назад. Существование Давидова сына оскорбляло его как угроза.
Иоаканам начал поносить его за его владычество (нет другого владыки, кроме предвечного!) – за его сады, его статуи, его театры, за его утварь из слоновой кости… Он поносил его как безбожного Ахава!
Антипа схватился за грудь, и, перервав шнурок, на котором висела его печать, швырнул ее в яму – и приказал ему молчать.
Но голос отвечал:
«Я буду кричать, как рычит медведь, как онагр кричит, как женщина в муках родов! За кровосмешение твое тебя уже постигло наказание! Бог покарал тебя бесплодием мула!»
Быстрый смех промчался в толпе, подобный плесканию волн.
Вителлий упорствовал, не хотел уйти. Толмач, с бесстрастным видом, передавал на языке римлян все оскорбления, которые Иоаканам изрекал на своем языке, – и таким образом тетрарх и Иродиада принуждены были выслушивать их два раза сряду.
Тетрарх задыхался от бешенства; она глядела на дно ямы, вся помертвелая, с раскрытыми губами.
Ужасный человек закинул назад голову – и, ухватившись за железные прутья решетки, прижал к ней свое волосатое лицо, походившее с виду на спутанный куст, в котором сверкали два угля.
«А, это ты, Иезавель! Скрып твоих сандалий завладел его сердцем! Ты ржала от похоти, как кобылица! Ты поставила ложе свое на вершине горы и там совершала свои жертвы!.. Но Господь сорвет с тебя твои серьги, твои пурпуровые одежды, твои льняные покровы! Он сорвет запястья с рук твоих и кольца с ног твоих, и те подвески, те золотые серпы, которые дрожат и блещут на челе твоем, и серебряные твои зеркала и вееры из страусовых перьев, и те перламутровые высокие подошвы, на которые ты ставишь свои ноги, и краску ногтей твоих, и все ухищрения неги твоей! Все он отнимет насильно, жестоко – и не хватит каменьев, чтобы побить тебя всю, кровосмесительница!»
Иродиада оглянулась кругом, как бы ища защиты. Фарисеи с притворным сожалением опускали взоры, саддукеи отворачивали головы, боясь оскорбить проконсула. Антипа казался мертвым человеком.
А голос все рос, все возвышался. Он перекатывался отрывисто, как внезапно разразившийся гром, – и эхо гор повторяло молниеносные звуки, которыми он так и поражал Махэрус!
«Пресмыкайся в пыли, дщерь Вавилона! Мели муку! Сбрось твой пояс, сними твою обувь, засучи край твоей одежды, перейди через реки… Ничто не спасет тебя! Стыд твой будет открыт, позор твой увидят все люди! Твои же рыдания сокрушат твои зубы! Всевышнему мерзит вонь твоих преступлений! Проклятая! Проклятая! Околевай, как псица!»
Но тут трап закрылся, крышка захлопнулась… Маннаи готов был задушить Иоаканама.
Иродиада исчезла; фарисеи были возмущены. Стоя посреди их, Антипа старался оправдаться.
– Конечно, – заметил Элеазар, – следует заключать брак с овдовевшей женой своего брата; но Иродиада не была вдовою – и, сверх того, у ней жив ребенок; а в этом-то и состоит вся мерзость греха.
– Неправда! Заблуждение! – возражал саддукей Ионафан. – Закон осуждает подобные браки, но не отвергает их вовсе.
– Как вы ни толкуйте, вы все несправедливы ко мне, – твердил Антипа. – Разве Авессалом не сочетался с женами своего отца, Иуда со своей невесткой, Аммон с своей сестрою, Лот с дочерьми своими?
В это мгновение появился Авл, который уже успел выспаться. Узнав, о чем шла речь, он одобрил тетрарха. «Стоило стесняться из-за подобных пустяков!» И он много смеялся – и укоризнам священников и ярости Иоаканама.
Иродиада, с высоты крыльца, обратилась к нему:
– Ты напрасно так говоришь, о господин! Он приказывает народу не платить даней.
– Правда это? – тотчас спросил мытарь. Все отвечали утвердительно. Тетрарх с своей стороны подкреплял их слова доказательствами.
Виталлию пришло в голову, что узник мог убежать, и так как поведение Антипы ему казалось сомнительным, то он повелел поставить стражу у всех дверей, вдоль стен, на дворе.
Затем – он отправился в свои покои. Выборные от священников пошли за ним. Не касаясь вопроса о жертвоприношении, они излагали свои жалобы. Они наскучили ему… он велел им удалиться.
Уходя от проконсула, Ионафан увидел возле одной из бойниц Антипу. Он разговаривал с человеком длинноволосым, одетым в белый хитон, с ессеем… Ионафан в душе пожалел о том, что поддержал тетрарха.
Одна мысль утешала Антипу, – Иоаканам уже не зависел от него более: римляне взялись его караулить… Какое облегчение! Фануил расхаживал в это время по брустверу. Он позвал его – и, указав на солдат:
– Они сильнее меня, – сказал тетрарх. – Я не могу теперь его освободить… Это не моя вина!
Меж тем двор опустел. Рабы отдыхали. На красном поле неба, зажженного вечерней зарей, малейшие отвесные предметы выделялись черными чертами. Антипа мог различить соляные копи по ту сторону Мертвого моря; аравийских палаток не было видно более. «Вероятно, они откочевали?» Луна всплывала – и в сердце его спустилось успокоение.
Фануил, как человек, подавленный горем, пребывал недвижим, уронив на грудь подбородок. Он высказал наконец то, что хранил на душе.
С самого начала месяца он наблюдал и изучал небо. Созвездие Персея находилось в зените, Агала едва показывался, Альголь блестел слабым блеском, Мира-Коэти совсем исчез; и Фануил заключал из всего этого, что нынешней же ночью, в Махэрусе, должен покончить жизнь важный человек.
Но кто? Вителлия окружала его стража; Иоаканам не будет казнен…
«Уж не я ли тот человек? – думалось тетрарху. – Быть может, аравитяне возвратятся? А не то – проконсул откроет мои сношения с парфянами? Иерусалимские клевреты сопровождали священников – под одеждами они скрывали кинжалы…» Тетрарх не сомневался в мудрости и познаниях Фануила.
Не прибегнуть ли к Иродиаде? Спору нет – он ее ненавидит… но она придаст ему мужества. К тому же не были еще порваны все нити чар, которыми она некогда его опутала.
Когда он вошел в ее комнату, в порфировой вазе курился киннамон; и всюду были разбросаны склянки с духами, благовонные порошки, ткани, подобные облакам, вышитые кисеи легче перьев.
Тетрарх слова не проронил – ни о предсказании Фануила, ни о страхе, который внушали ему аравитяне и евреи. Он упомянул только о римлянах. Вителлий не сообщил ему ни одного из своих военных планов. Он подозревал, что Вителлий друг Кая, которого посещает Агриппа. Он боялся, что его, тетрарха, сошлют в ссылку – а может быть, и зарежут.
Иродиада, с презрительною снисходительностью, старалась его успокоить. Видя, что слова ее мало действуют, она вынула из небольшого ящичка медаль странной формы, украшенную головою Тиверия в профиль. Ликторы должны были побледнеть при виде этой медали; все обличители – умолкнуть.
Благодарный, растроганный Антипа спросил, каким образом она достала эту медаль?
– Мне ее дали, – отвечала она.
Вдруг из-под занавеса двери выдвинулась обнаженная до плеча рука, рука молодая, прекрасная, словно выточенная Поликлетом из слоновой кости. Несколько неловко, но красиво, двигалась эта рука по воздуху, вправо и влево, ища, стараясь захватить тунику, оставленную на небольшой скамье, возле стены.
Старуха прислужница тихонько подала эту тунику за дверь, приподняв занавес.
Тетрарху что-то внезапно вспомнилось… но что именно – он не мог сказать.
– Эта рабыня тебе принадлежит? – спросил он наконец.
– Какое тебе дело! – отвечала Иродиада.
III
Гости наполняли залу, где совершалось пиршество. Она, распадалась на три придела, подобно базилике; их разделяли колонны из алгуминного дерева с бронзовыми капителями, с изваянными украшениями. Две галереи с прорезным полом опирались на эти колонны – а третья, вся из золотой филиграни, округлялась на конце залы, прямо напротив громадной арки входа.
Пылавшие канделябры на столах, поставленных во всю длину залы, возвышались огненными кустами между чашами из крашеной глины, медными блюдами, тиснеными грудами снега, кучами винограда. Эти красные пятна света постепенно сливались в отдалении, подавленные вышиною потолка; лучистые точки сверкали в трибунах, между древесными ветвями, подобно ночным звездочкам.
Сквозь отверстие входа виднелись факелы, зажженные на террасах домов. Антипа задавал пир друзьям своим, народу, всякому, кто желал быть гостем.
Рабы, обутые в войлочные сандалии, кружили быстрее псов, с подносами на руках. На золотой трибуне третьей галереи на особо устроенном помосте из жимолостных досок стоял проконсульский стол. Вавилонские ковры, подвешенные к потолку, образовали кругом нечто вроде павильона.
Три ложа из слоновой кости, одно на почетном месте, два по бокам, окружали стол. На них возлежали: проконсул налево, возле двери, Авл направо, тетрарх посередине.
На нем был тяжелый черный плащ, весь расшитый разноцветными накладками; румяна покрывали его щеки, борода раскинулась веером, венец из драгоценных камней сжимал волосы, посыпанные пудрой лазоревого цвета. Вителлий сохранил свою пурпуровую перевязь; косвенно пересекала она его льняную тогу. Авл велел повязать себе за спину рукава своей лиловой шелковой ризы, исполосованной серебряными галунами; в три ряда поднимались его завитые кудри – и сапфирное ожерелье блистало на его груди, белой и тучной, как грудь женщины. Подле него, на циновке, скрестив ноги, сидел чрезвычайно красивый ребенок, который постоянно улыбался. Авл увидел его в кухне – и не мог уже с ним расстаться. Не будучи в состоянии запомнить его халдейское имя, он назвал его просто Азиатом (Asiaticus). От времени до времени Авл опускался навзничь на свое ложе – и тогда его голые ноги, высоко поднятые, царили надо всем собранием.
С той же стороны находились священники и офицеры Антипы, иерусалимские жителя, главные лица греческих городов; а со стороны проконсула и пониже его – Маркелл с мытарями, собирателями податей, друзья тетрарха, важные особы из Каны, Птолемаиды, Иерихона; дальше сидели, уже без чинов, горцы с Ливанова, старые воины Ирода Великого, двенадцать фракийцев, идумейские пастухи, султан Пальмиры, эзиугаверские моряки. Перед каждым гостем лежала лепешка из мягкого теста, о которую он утирал пальцы, – и жадные руки беспрестанно протягивались, как пигарговы шеи, за оливками, фисташками, миндалинами. Все лица, увенчанные цветами, сияли веселием.
Фарисеи отказались от этих венков, как от римского нечестья. Они содрогнулись, когда их окропили смесью галбана и ладана; жидкость эта употреблялась только для священных обрядов храма.
Авл натер ею свои мышки – и Антипа обещал прислать ему целый корабль, нагруженный этим составом, вместе с тремя корзинами той настоящей мастики, которая возбуждала в Клеопатре желание присвоить себе Палестину.
Один из начальников Тивериадского гарнизона, только что прибывший в Махэрус, поместился позади тетрарха и, казалось, сообщал ему вести о событиях необыкновенных. Но все его внимание было поглощено проконсулом, а также и тем, что говорилось на соседних столах. Там толковали об Иоаканаме и о подобных ему людях. Приводились разные факты.
– Симеон из Гиттоя, например, омывал грехи огнем. Некий Иисус…
– Этот хуже всех, – заметил Элеазар. – Презренный обманщик!
Позади тетрарха вдруг поднялся человек, бледный, белый, как кайма его собственной хламиды. Он сошел с помоста – и, обратившись к фарисеям:
– Вы лжете! – воскликнул он. – Иисус творит чудеса!
Антипа пожелал увидеть этого Иисуса.
– Зачем ты не привел его? Сообщи о нем, что знаешь.
Тогда тот рассказал, как он, Яков, имея дочь больную, отправился в Капернаум для того, чтобы умолить учителя излечить ее. И учитель отвечал ему: «Ступай домой; твоя дочь здорова». И он, Яков, возвратясь, нашел дочь свою на пороге дома… Она покинула свое ложе, когда «гномон» дворца показывал третий час, самый тот час, когда он приступил к Иисусу.
Но фарисеи представили возражения.
– Конечно, – говорили они, – существуют известные действия, травы, одаренные чародейною силою. В самом Махэрусе иногда можно было найти траву «Баарас», которая делает человека неуязвимым. Но вылечить больного, не видев и не коснувшись его… какая нелепость! Одно разве: Иисус призывает в помощь демонов?
И друзья Антипы, начальствующие люди между галилеянами, повторяли, качая головами:
– Да, демонов… это несомненно.
Яков, стоя между их столом и столом священников, Сохранял тот же вид, надменный – и кроткий.
– Говори же, говори! – приставали они к нему, – доказывай его могущество!
Он нагнулся, приподнял плечи – и чуть слышным голосом, медленно, как испуганный человек:
– Вы разве не знаете, что он мессия? – сказал он.
Все священники переглянулись, а Вителлий потребовал объяснения этого слова. Толмач, прежде чем ответить, помолчал с минуту.
– Евреи называют этим именем, – объяснил он наконец, – освободителя, который наградит их обладанием всех благ земных и владычеством над остальными народами. Иные утверждают даже, что следует ожидать двух мессий. Один будет побежден Гогом и Магогом, северными демонами; но другой истребит князя зла; и вот уже несколько столетий, как они ежечасно его ожидают.
Между тем священники поговорили между собою – и Элеазар попросил слова.
– Во-первых, – так начал он, – мессия будет сын Давида, а не плотника. Во-вторых: он утвердит закон, а этот назареянин его разрушает. – Главное же возражение Элеазара состояло в том, что мессии должен предшествовать Илия-пророк.
– Но он уже пришел, Илия! – вскричал Яков.
– Илия! Илия! – повторила толпа до самого конца залы.
И воображению всех немедленно представилась целая картина: старец под тучею вранов, небесный огнь, падающий на алтарь, идолопоклоннические жрецы, низвергнутые в бурный поток… Женщины в трибунах вспоминали о сарептской вдовице.
Но Яков продолжал настойчиво утверждать, что он его видел! Он его видел! И весь народ его видел!
– Его имя! имя!
Тогда он закричал изо всех сил:
– Иоаканам!
Антипа опрокинулся назад, словно что ударило его прямо в грудь. Саддукеи ринулись на Якова. Среди шума и гама Элеазар разглагольствовал, возвышая голос, силясь привлечь к себе внимание.
Когда наконец тишина восстановилась, он закутался в свой плащ и, как судья, стал ставить вопросы:
– Ведь пророк Илия умер?
Смятенный ропот прервал его. Многие были убеждены, что Илия только исчез, а не умер. Элеазар вспылил… однако продолжал свой допрос:
– Ты полагаешь, что он воскрес?
– А почему же нет? – отвечал Яков.
Саддукеи пожимали плечами, а Ионафан, вытараща глаза, усиленно старался смеяться, словно шут какой. Что могло, дескать, быть глупее притязания бренного тела на вечную жизнь? И он продекламировал, ради проконсула, стих современного поэта:
Nec crescit, nec post mortem durare videtur[4]4
Ни расти, ни существовать после смерти не может (лат.).
[Закрыть].
Но в эту минуту увидали Авла, склонившегося на край триклиниума: с испариной на лбу, с лицом позеленевшим, он прижимал оба кулака к желудку.
Саддукеи притворились перепуганными. (На другой же день право жертвоприношения было им даровано.) Антипа являл все признаки отчаяния; один Вителлий пребывал безучастным, хоть он и ощущал в душе жестокую тревогу: вместе с сыном он терял всю свою карьеру.
Авла стошнило… Но как только его рвота кончилась, он опять захотел есть.
– Подайте мне скобленого мрамора, наксосского сланцу, морской воды, чего-нибудь, скорей! Или вот что: не взять ли мне ванну?
Он принялся грызть снежные комья. Затем, после недолгого колебанья – за что ему приняться: за коммагенский ли паштет, за розовых ли дроздов, он решился взять тыквы на меду. «Азиат» с благоговением созерцал Авла: этот дар неустанного пожирания изобличал, по его понятию, существо необычайное, принадлежащее высшей породе!
Авлу подали бычачьих почек, жареную белку, соловьев, рубленого мяса, завернутого в виноградные листья. А между тем священники продолжали спорить о воскресении мертвых. Аммониас, ученик платоника Филона, находил подобные толки нелепыми и высказывал свое мнение тут же сидевшим грекам, которые смеялись над оракулами. Маркелл и Яков подошли друг к другу. Маркелл рассказывал о блаженстве, которое он испытал, приняв веру персидского бога Митры, а Яков убеждал его последовать Христу. Пальмовые и тамарисовые, сафетские и библосские вина текли ручьями из амфор в кувшины, из кувшинов в чаши, из чаш в гортани. Поднялся говор болтовни, начались сердечные излияния. Ясим, хоть и еврей, не скрывал более своего обожания планет; купец из Афаки изумлял кочевников подробным описанием чудес гиерополисского храма – и те спрашивали у него, что стоило путешествие туда? Зато другие крепко держались за свои прирожденные поверья. Полуслепой германец пел гимн во славу того скандинавского мыса, где боги являют в лучах свои лики; а люди из Сихема отказывались от жареных голубей – из уважения к священной горлице Азима.
Многие беседовали, стоя посреди залы, и от пара дыханья и дыма светильников в воздухе образовалось нечто вроде тумана. Фануил проскользнул вдоль стены. Он только что снова произвел наблюдения над небесными созвездиями: но не подвигался в направлении тетрарха, страшась выпачкаться в масло, что для ессеев было великим осквернением.
Вдруг послышались удары в ворота замка. Народ узнал о заключении Иоаканама. Люди с факелами в руках карабкались вдоль тропинок; темные массы кишели в оврагах – и от времени до времени поднимались протяжные вопли:
– Иоаканам! Иоаканам!
– Он всему помехой, – сказал Ионафая.
– Не будет доходов, деньги переведутся, если ему позволят продолжать, – толковали фарисеи.
И отовсюду неслись упреки, жалобы.
– Защити нас, тетрарх! Пора покончить с этим человеком! Ты отступаешься от веры! Ты безбожник, как все Иродово племя!
– Меньше, чем вы! – возразил тетрарх… – Мой отец соорудил ваш храм.
Тогда фарисеи, сыновья изгнанников, сторонники Маттафии, начали упрекать тетрарха в преступлениях его семейства.
У иных из этих людей черепа были заостренные, взъерошенные бороды, слабые и как бы злые руки; у других – курносые рожи, круглые, выпученные глаза: они смотрели бульдогами. Человек двенадцать писцов и иерейских слуг, кормившихся остатками жертвоприношений, подбежало к самому помосту, обнажив ножи, – они грозили Антипе, который продолжал держать им речь, между тем как саддукеи неохотно и слабо заступались за него. Он увидел Маннаи и знаком повелел ему удалиться; Вителлий являл вид равнодушный, как бы давая знать, что все это до него не касается.
Оставшиеся на триклиниуме фарисеи пришли вдруг в неистовую ярость: они разбили вдребезги стоявшие перед ними блюда. Им подали любимое кушанье Мецената – жареного дикого осла под соусом, а они гнушались этим мясом, как нечистым.
Авл глумился над ними, напоминая им ту ослиную голову, которую, по слухам, они считали святыней. Много других обидных слов высказал он по поводу их отвращения к свинине. Вероятно, они потому так ненавидели это животное, что оно убило их Вакха; и они, всеконечно, были пьяницы, так как в их храме была найдена виноградная лоза, вычеканенная из золота.
Священники не понимали его слов. Финеас, родом галилеянин, отказался перевести их. Тогда Авл разгневался безмерно, тем более что «Азиат», перепугавшись, исчез. Обед не нравился Авлу: кушанья были грубые, недостаточно приправленные. Он, однако, успокоился при виде блюда из хвостов сирийских баранов, настоящих комков жирного сала.
Все эти иудеи, их поступки и нравы казались Вителлию гнусными. Их бог уж не тот ли Молох, думалось ему, алтари которого ему попадались по дорогам? Принесенные в жертву малые дети пришли ему на память, вместе с тем сказанием о неведомом некоем человеке, которого будто бы тайно откармливали эти иудеи. Его латинское сердце с негодованием отвращалось от их нетерпимости, от их иконоборной ярости, от их звериного упорства. Проконсул собирался уже удалиться… Но Авл не хотел встать с места.
Спустив свою хламиду до самых бедр, он лежал, распростертый перед целой грудой мяс и яств. Он до того был пресыщен, что уже ничего есть не мог, – но не в силах был оторваться от всей этой благодати.
Возбуждение толпы все росло. Возникали мечты о независимости, вспоминалась древняя слава Израиля! Не подверглись ли все завоеватели небесной каре? Антигон, Красе, Вар…
– Негодяи! – воскликнул вдруг проконсул.
Он понимал по-сирийски – и держал при себе толмача только для того, чтобы дать себе время приготовить ответы.
Антипа поспешно достал медаль императора – и сам, с трепетом на нее взирая, показывал ее толпе со стороны лицевого изображения.
Но тут внезапно раскрылись створчатые двери золотой трибуны – и при ярком блеске свечей, окруженная рабами, гирляндами из анемон, появилась Иродиада. Ассирийская митра, прикрепленная подбородником, спускалась ей на лоб. Перекрученные кудри рассыпались вдоль пурпурного пеплума, прорезанного во всю длину рукавов. Каменные чудовища, подобные тем, что находились в Аргосе, над сокровищницей Атридов, вздымались по обеим сторонам дверей, и, стоя между ними, – она уподоблялась Цибеле, сопровождаемой ее двумя львами. С вышины балюстрады, которая царила над тем местом, где находился Антипа, она, держа в руке плоский кубок, громко закричала:
– Да здравствует цезарь!
Вителлий, Антипа и священники тотчас подхватили этот крик. Но в это мгновение с конца залы пробежал гулкий говор изумления, удивления… Молодая девушка вошла в залу.
Под голубоватым вуалем, который закрывал ей голову и грудь, можно было различить полукруглые линии ее бровей, ее халкедоновые серьги, белизну ее кожи. Схваченный на талье золотым поясом, четырехугольный кусок шелковой ткани переливчатого цвета лежал на ее плечах; черные шальвары были усеяны изображениями мандрагор, и, небрежно и лениво постукивая своими маленькими туфлями из пуха райской птицы, она тихо подвигалась вперед.
На самом верху помоста она сняла свой вуаль. Она походила на Иродиаду в молодости. Потом она стала танцевать.
Она переставляла ноги одну перед другою, под лад флейты и пары кротал. Ее округленные руки призывали кого-то, который все убегал от нее. Легче бабочки преследовала она его, словно Психея, в которой зажглось любопытство, словно тень души, осужденной скитаться… и, казалось, то и дело готовилась улететь.
Похоронные звуки «гингры» заменили кроталы. Безнадежное уныние заступило место резвой надежды. Каждое движение девушки выражало тоску – и вся она замирала в таком томлении, что невозможно было сказать, плачет ли она о покинувшем ее боге или изнывает под его лаской. Полузакрыв ресницы, она крутила свой стан, волнообразно колыхала свои бедра, вздрагивала грудями – а лицо оставалось неподвижным. Зато ноги не останавливались.
Вителлий сравнивал ее с пантомимом Мнестером. Авла рвало по-прежнему. Тетрарх – словно во сне – терялся в мечтаниях. Он уже не думал об Иродиаде. Ему показалось, что она подошла к саддукеям. Но то видение удалилось.
Это не было видение. Иродиада – вдали от Махэруса – отдала в науку Саломею, свою дочь, в той надежде, что она понравится тетрарху. Ее расчет оказывался верным. Теперь она уже не сомневалась в этом.
Но вот пляска снова изменилась. То был неистовый порыв любви, жаждущей удовлетворения. Саломея плясала, как пляшут индийские жрицы, как нубиянки, живущие близ катаракт Нила, как лидийские вакханки. Она круто склонялась во все стороны, подобно цветку, поражаемому ударами сильного ветра. Блестящие подвески прыгали в ее ушах, ткань на ее плечах играла переливами; от ее рук, ног, от ее одежд отделялись невидимые искры, которые зажигали сердца людей. Арфа запела где-то – и толпа отозвалась рукоплесканиями на ее томительные звуки. Не сгибая колен и раздвигая ноги, Саломея нагнулась так низко, что подбородок ее касался пола, – и кочевники, привыкшие к воздержанию, римские воины, искушенные в забавах разврата, скупые мытари, старые, зачерствелые в диспутах жрецы – все, расширив ноздри, трепетали под наитием неги.
Затем она принялась кружить около стола Антипы с бешеной быстротою… и он, голосом, прерывавшимся от сладострастных рыданий, говорил ей: «Ко мне! Приди!..» Но она все кружилась, тимпаны звенели буйно, с дребезгом – так и казалось, что вот-вот разлетятся они. Народ ревел – а тетрарх кричал все громче и громче: «Ко мне! Приди ко мне! Я дам тебе Капернаум, долину Тивериады, все мои крепости, половину моего царства!»
Она вдруг упала на обе руки, пятками кверху, прошлась таким образом вдоль помоста, подобно большому жуку, – и внезапно остановилась.
Ее затылок и хребет составляли прямой угол. Темные шальвары, покрывавшие ее ноги, спустились через ее плеча – и окружили дугообразно ее лицо, на локоть от полу. Губы у ней были крашеные, брови чернее чернил, глаза грозные, страшные… Крохотные капельки на ее лбу казались матовым испарением на белом мраморе.
Она ничего не говорила. Она глядела на тетрарха – и он глядел на нее.
Кто-то щелкнул пальцами на трибуне. Саломея быстро взбежала туда, появилась снова – и, немного картавя, детским голоском произнесла:
– Я хочу, чтобы ты дал мне на блюде голову… голову… – Она позабыла имя – но тотчас же прибавила с улыбкой: – голову Иоаканама.
Тетрарх, словно раздавленный, опустился на ложе.
Данное слово связывало его… Народ ждал…
«Но, быть может, – подумал Антипа, – это и есть та предсказанная смерть… и она, обрушившись на другого, пощадит меня! Если Иоаканам точно Илия – он сумеет ее избегнуть; если же нет – убийство не представляет важности».
Маннаи стоял возле него… и понял его мысль. Он уже удалялся; но Вителлий позвал его обратно и сообщил ему пароль. Римские солдаты стерегли ту яму.
Всем точно полегчило. Через минуту все будет кончено. Но Маннаи, верно, замешкался…
Он возвратился… На нем лица не было. Сорок лет он исполнял должность палача. Он утопил Аристовула, задушил Александра, заживо сжег Маттафию, обезглавил Зосиму, Паппаса, Иосифа и Антипатера… И он не дерзал убить Иоаканама! Зубы его стучали… все тело тряслось.
Он увидел перед самой ямой – великого ангела самаритян; покрытый по всему телу глазами, ангел потрясал огромным мечом, красным и зубчатым, как пламя молнии. Маннаи привел с собою двух солдат, свидетелей чуда.
Но солдаты объявили, что не видели ничего, кроме еврейского воина, который бросился было на них – и которого они тут же уничтожили.
Обуянная несказанным гневом, Иродиада изрыгнула целый поток площадной, кровожадной брани. Она переломала себе ногти о решетку трибуны – и два изваянных льва, казалось, кусали ее плечи и рычали так же, как она. Антипа закричал не хуже ее. Священники, солдаты, фарисеи – все требовали отмщения; а прочие негодовали на замедление, причиненное их удовольствию.
Маннаи вышел, закрыв лицо руками.
Гостям время показалось еще продолжительнее… Становилось скучно.
Вдруг шум шагов раздался по переходам… Тоска ожидания стала невыносимой.
И вот – вошла голова. Маннаи держал ее за волосы напряженной рукой, гордясь рукоплесканиями толпы.
Он положил ее на блюдо – и подал Саломее. Она проворно взобралась на трибуну – и, несколько мгновений спустя, голова была снова принесена той самой старухой, которую тетрарх заметил сперва на платформе одного дома, а потом в комнате Иродиады.
Он отклонился в сторону, чтобы не видеть этой головы. Вителлий бросил на нее равнодушный взгляд.
Маннаи спустился с помоста – показал ее римским начальникам, а затем всем гостям, сидевшим с той стороны.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































