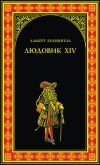Текст книги "Сигареты"
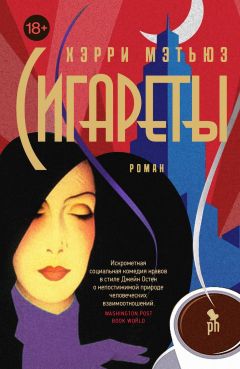
Автор книги: Хэрри Мэтью
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
Постепенно она присмотрелась к ним пристальнее. Роящиеся жаворонки начали отделяться от осознания. Меж птиц и собою она распознала существ покрупнее. На фоне безмятежных теней у себя в комнате она заметила и такие тени, что двигались: люди. Элизабет приноровилась к тому, чтобы определить их. В слабом свете это было трудно. Шторы раздвинули, воздух затопило солнечным светом, и вблизи проявилось тело, растянувшееся под окаменевшей простыней, на чьей белой почве был оттиснут чуть ли не с пьяной одержимостью, как ее это поразило, – словно бы для того, чтобы она не проморгала его смысл, – узор из синих завитушек, представлявших собой сплетенные полевые цветы: гвозди́ки, догадалась она, сосчитавши фигуры вдоль своих ног и далее, за поджатые торчавшие пальцы. Узор не отвлек ее от того, как сама она нелепо и неуклюже раскинулась посреди него.
Вокруг нее хлопотливо порхало несколько полевых жаворонков. Люди – или человек – подступили ближе.
Некоторое время спустя, которое Элизабет оценила лишь в несколько минут, она ощутила, что в людях или человеке поблизости она вызывает опаску. Затем она ясно увидела, что не поблизости, а совсем рядом с нею сидит ее любимая Мод, держит ее за одну руку и стискивает ей плечо. На лице ее читался бесспорный страх. Элизабет устремлялась к тому, чтобы успокоить Мод. Она могла понять страх того, кто видит, как кого-то другого населяет столько птиц.
Уже успокоившись, те поднялись теперь к верхним пределам комнаты, расселись по лепнине, мирно скользили вокруг латунных канделябров. Элизабет была благодарна за их благоразумие, равно как и за их присутствие, которое вернуло ее к действительности за пределами ее собственных чувств. Ослабевшее биенье крыльев позволило ей различать теперь и другие звуки. Она уловила, что Мод разговаривает с нею. Теперь она могла понять и слова – в них столько любви, столько неистовства:
– Элизабет? Элизабет, скажите мне, пожалуйста, что происходит. С вами все в порядке? Скажите мне, что у вас все в порядке?
Произносить что-то показалось Элизабет неуместным, улыбаться – и того пуще, сколь ни хотелось бы ей порадовать Мод улыбкой. Она отыскала иное решение. Если глаза ее могли видеть Мод, та могла видеть их (не только пристально глядеть сквозь них, как она это делала сейчас). Глаза Элизабет могли передавать сообщения. Они широко раскрыла их, тем самым обозначая, что, разумеется, с нею все в порядке.
Мод прижалась к щеке Элизабет своей щекой, после чего вышла из комнаты.
Прошагала по коридору в состоянии яростной апатии. Села за письменный стол и щелкала костяшками пальцев, пока плакала. Она знала, что делать, и не хотела делать ничего. Ее обуяло неистовое желание обсудить все это с Элизабет. Мод трудно было допустить, что ей очень хотелось обнять Элизабет за голову и придушить ее.
Та не смотрела на нее, как обреченный зверек. Мод нашла свой список экстренных номеров, вызвала «скорую», позвонила в Медицинский центр.
В «скорой» она сидела рядом с Элизабет. Та заснула еще у себя в постели, спала, пока ее поднимали и укладывали на носилки, пока полчаса везли по жаре в Олбэни. В Медицинском центре ее сдали ожидавшим санитарам. Около полудня, в яркой палате с кондиционированным воздухом, с капельницей в вене левого предплечья она вновь открыла глаза.
Чтобы не подпускать слезливости, Мод заговорила тут же. Вскоре она заметила, что движения глаз Элизабет следуют некоему шаблону. Она учила Мод маленькому, достаточному словарю: моргнуть означало да, посмотреть влево-вправо – нет, вниз – не знаю (сообразить это у Мод заняло дольше всего). Взгляд вверх сохранил свое первоначальное значение что они там еще придумают? Мод забыла о своем позыве удушить эту вялую, хорошенькую голову. Придерживая ее одной рукой, она расчесывала ей густые рыже-золотые волосы, пока те не заблестели.
Невролог сообщил Мод, что инсульт свидетельствует о субдуральной гематоме, вызванной, быть может, падением с лошади, вероятнее – сотрясением, произошедшим раньше. Среди доступных вариантов – диагностическая операция, чтобы установить масштабы ущерба. Лечение также может потребовать операции. В любом случае никаких результатов гарантировать нельзя. Кроме этого он мало что мог предложить.
– А если ничего не делать?
– Говоря откровенно, это мысль неплохая. – Специалист непроизвольно понизил голос. – Такие случаи обычно заканчиваются лишь гемипарезом. Довольно скоро она сможет действовать левой стороной. Операция может поспособствовать…
Когда Мод упомянула о возможности операции, глаза Элизабет взметнулись вверх. Мод сказала:
– Согласна с вами целиком и полностью. Поедете со мною домой? – Элизабет поколебалась, после чего решительно моргнула.
Теперь уже Мод видела, что сожаление и уныние лишь усугубят их трудности. Она не могла отрицать того, что произошло ужасное событие. Она не могла отрицать того, что Элизабет его пережила. Для Мод делать вид, что не пережила, – обрекать ее на безнадежную и успокаивающую изоляцию больного в терминальной стадии – означало бы, что существование Элизабет больше не берется в расчет. Это бы делало недействительным то, что так немного и так много дней наполняло жизнь самой Мод. Она дала себе слово не позволять беде, закончившей ее время со здоровой Элизабет, ставить это время под сомнение. Свое обещание она подтвердит тем, что не отречется от полноты грядущих времен. Она объявила себе, что ее жизнь с Элизабет только началась.
После двух дней собеседований Мод наняла постоянную дневную сиделку. Домоправительницу свою убедила так пересмотреть свое расписание, чтобы приходить пораньше, а уходить попозже. Купила электрическое кресло-каталку, которым Элизабет потом сможет управлять действующей рукой.
Через два дня после возвращения домой Элизабет подняли с кровати, усадили в кресло и выкатили на веранду, где следующие две недели ей было суждено проводить все свои дневные часы. Часто она спала. Когда просыпалась – неизменно рядом обнаруживала Мод. Вскоре Элизабет отчетливо дала понять, что неизменное присутствие Мод ей не нравится. Это она инвалид. Величайшее утешение, какое ей могла бы предоставить Мод, – это жить насыщенной жизнью ради них обеих.
И потому Мод ездила кататься верхом; навещала мистера Прюэлла, ходила в «их» бары. Во все эти вылазки она отправлялась, опасаясь напоминаний об Элизабет, с какими неизменно столкнулась бы по пути, и об утраченных возможностях, потому что Элизабет теперь с нею рядом не было. Вот так, держа в уме подругу, Мод все переживала сильнее и делалась наблюдательнее. Теперь имели смысл самые банальные происшествия, и Мод замечала их беспрестанно: случайные скопления облаков, дорожные пробки, дурацкие замечания, малейшие ее чувства. Когда возвращалась она, ей было с избытком чего рассказать, и она это рассказывала, чтобы глаза на поверженной голове сияли, трепетали ресницами, а иногда и плакали. Мод выучила, что слезы означали не только горе, но и смех.
Мод принялась вывозить Элизабет. Под присмотром сиделки Джон – теперь не только садовник, но и шофер – поднимал пациентку и усаживал на переднее сиденье, после чего ездил по окрестностям: на запад через Адирондак, на восток до Северного Беннингтона, на север до озера Джордж. Мод купила второе кресло, складное, чтобы помещалось в багажник. Элизабет сидела в лесистом тенечке, озирала мир с горок, ездила разглядывать витрины. Мод предложила брать ее с собой на собственные вылазки; Элизабет отказалась. Ей хотелось, чтобы ее видели только там, где ее никто не знал. Исключение она сделала лишь для конюшен, где чистокровные лошади не обращали внимания на ее немощь. Мод оставляла ее у стойл или на краю поля, где те паслись, а сама легким галопом объезжала круг, надеясь, что Элизабет видит, как она прыгает.
Мод начала понимать, что если сама станет жить полной жизнью, Элизабет ни в чем не будет знать нужды, но еще не заставила себя назначить себе еще одно свидание в городе.
В последнюю неделю августа приехал Уолтер Трейл – привез портрет Элизабет. Та сумятица, которую он устроил с копией кисти Фиби, излечила его от навязчивой привязанности к оригиналу. Он решил, что Мод его заслуживает – она за него заплатила добросовестно, и из нее выйдет достойный его смотритель, – и вот теперь он вверял этот портрет в ее руки.
Уолтер намеревался уехать, как только повесит портрет. Увидеть Элизабет он боялся – воображение преобразовало ее в уродца. На то, чтобы передумать, ему потребовалось лишь несколько минут. После того как Мод обучила его глазному коду, он побеседовал с Элизабет впервые, а вскоре по приглашению Мод согласился и задержаться.
Вечером после его приезда, когда Мод выспрашивала у него о Присцилле, он отказался обсуждать их разрыв отношений.
– С этим покончено. Угадайте, чем она сейчас занимается.
– Мне правда нужно гадать?
– Работает на Айрин.
– Мне казалось, Айрин замешана…
– Вы так правы. Это Айрин к ней пристрелялась. Присцилле нужно «Эмми» дать за хуцпу. Она отправилась к Айрин и сказала: я себя вела как маленькая мерзавка, приношу свои извинения, объясните мне, пожалуйста, как все устроено на рынке искусства.
– И та ее наняла?
– Сочинять Присцилла умеет. Айрин она рассказала о своей основной подготовке у Морриса – это ничто по сравнению с тем, чему она бы могла научиться у нее самой, ведь Айрин лучшая в своем деле и так далее. Присцилла пообещала работать за так, лизать марки, мыть полы, только дайте шанс. Насчет этого Айрин позвонила мне, я ей сказал, что мне наплевать, только пускай не оставляет ее одну в галерее. Простите, Мод. Айрин повелась. Сказала Присцилле, что станет ей платить столько, сколько та стоит, и пообещала гонять ее в хвост и в гриву.
– Уолтер, я ужасно тревожусь. Вам не кажется, что у нее могут быть задатки профессионального преступника? – Мод думала, что в венах у нее течет кровь Аллана.
На веранде Элизабет Уолтер поставил себе рабочий стол. У него началась жизнь рисования, письма и чтения, которая порой прерывалась на то, чтобы выехать на натуру сделать наброски или навестить старых знакомых. Однажды он доехал аж до Питерборо, чтобы поработать там над комплектом литографий. Ему нравилось ее общество, как вскоре осознала Элизабет. Она позволяла ему разговаривать с собой, читать себе вслух («Воспоминания карлицы»; книги Корнелла Вулрича[154]154
Memoirs of a Midget (1921) – сюрреалистический роман британского поэта, прозаика и антрополога Уолтера Джона де ла Меэра (1873–1956). Корнелл Джордж Хопли Вулрич (1903–1968) – американский писатель, знаменитый своими «романами джазового века» и «крутыми детективами».
[Закрыть]) или просто тихонько сидеть рядом. По вечерам они вместе смотрели бейсбол. Однажды, разглядывая ее, пока она спала, он задумался: несмотря на бледность, на невыразительность черт, на струйку слюны из уголка ее рта, Элизабет сохранила в себе нежданную красоту.
Уолтер перевесил портрет на стену веранды вблизи от места, где обычно сидела Элизабет. Яркий солнечный свет сообщал его краскам забытую яркость.
Мод снова повезла Элизабет в Олбэни на осмотр. Три специалиста отозвались о ее состоянии с оптимизмом.
Вернулась Полин. Мод вышла встретить ее на газон перед домом и сразу же повела здороваться с Элизабет. Но когда Полин с нею заговорила, Элизабет плотно зажмурила глаза, тем самым введя в их язык новую идиому: Никакого светского трепа! Элизабет увидела, что Полин прямо-таки разрывает от известий, и ей следует позволить все их изложить. Она похлопала глазами, изображая воодушевление. Полин поняла, рассмеялась и объявила свои вести: уже несколько месяцев у Оливера «очень серьезный роман».
– …С кем-то не первой молодости. Вчера он решился на исповедь. Можно было подумать, что мне он этим оказывает услугу. Для него это так и есть – он уже едва соображает, принимая меня как должное. Но он допустил одну крупную ошибку. В своей лучшей манере даже-не-знаю-как-ты-тут-без-меня-справишься сказал, что надеется, я не думаю о разводе. Я тут же сообщила ему, что на меньшее не соглашусь, и вышвырнула этого придурка вон. Можно я тут спрячусь, пока мой адвокат не накинет на него петлю?
Если никуда не ходила, Полин часто сидела с Уолтером и Элизабет на веранде, читала журналы или решала кроссворды. Элизабет была довольна тем, что оказалась средоточием всех домочадцев.
Полин мало внимания обращала на Уолтера, с кем была едва знакома. Элизабет замечала, как Уолтер частенько поглядывает искоса на Полин. После своего инсульта она исполнилась решимости не обращать внимания на свои немощи, но теперь они ее наполняли нетерпением. В домашнем хозяйстве заводится привлекательная пара, мужчину тянет к женщине, та не в курсе… Прежде Элизабет понадобилось бы всего несколько минут, чтобы свести их. Ей хотелось объединить их сейчас, в одну семью – ее собственную. Семья эта стала ее страстью. Простые посетители, даже старые знакомые, усылались прочь.
Она смирилась с тем, что на это уйдет столько времени, сколько необходимо. Наконец ее лукавые глаза поймали взгляд Полин и показали на Уолтера, невинно склонившегося над тем, что делал. Если б только она могла подмигнуть! Но Полин и так все поняла. От понимания она залилась румянцем. Элизабет наблюдала, как она осознает, что впервые за двадцать пять лет она не подотчетна никому, кроме самой себя. Можно брать любого мужчину, какого пожелает, на столько, на сколько захочет. И Уолтер, этот любезный опасный гений, предложил себя в ее распоряжение под крышей дома ее сестры.
Произошедшее дальше ошеломило Уолтера. Полин его не просто соблазнила, но соблазнила вдвойне: свою доступность она нечаянно сдобрила презрением к мужчинам, которому ее научил ее собственный брак. Для Уолтера эта смесь оказалась неотразимой.
В начале сентября Мод позвонила Луиза Льюисон и сообщила, что последние три недели Фиби провела в Медицинском центре и состояние у нее по-прежнему критическое. На следующий день Мод выехала в Олбэни. Уолтеру трудно было принять это известие. Он знал, до чего тяжело болела Фиби, – в июне он сам отвозил ее в больницу. Он предполагал, что с тех пор за нею смотрят как полагается.
Он поговорил о Фиби с Элизабет, забыв, что они встречались. Описал, с какой гениальностью она воссоздала портрет.
– Под конец она о нем знала больше, чем я. Вы б ей очень понравились.
Через два дня он поехал в Олбэни, сразу после полудня. Оставшись одна на веранде, Элизабет размышляла о Фиби. Прежде она слышала, как все остальные сетуют на болезнь у человека настолько молодого. Для смертельной болезни разве один возраст чем-то лучше другого? Живые умирают во всех возрастах; смертный приговор вручается нам при рождении.
В мае, когда они познакомились, Фиби была так слаба, что Элизабет рассчитывала – она сейчас вся обмякнет, как Тряпичная Энн[155]155
Имеется в виду тряпичная кукла Raggedy Ann, деревенская девочка с косичками, у которой был брат Энди, тоже тряпичная кукла; обе игрушки были запатентованы американским художником Джонни Груэллом в 1915 г., а в 1918—1920-м вышли популярные детские книжки об этих персонажах.
[Закрыть]. Тем не менее прежде ей досталось все время, какое было ей нужно на то, чтоб быть «Фиби». В пугающей худобе своей она по-прежнему была прекрасна, словно одинокая водоплавающая птица – ржанка, быть может (почему нет?), чопорный рогатый жаворонок, пусть даже Элизабет таких не видела.
Ей захотелось оказаться сейчас с Фиби. Элизабет считала, что и сама она запросто может быть обречена. Как ни верти, на ручках у Мод вечно сидеть она не станет; а что же касается дома, то надо бы сперва устроить дыхательную забастовку. Почему не привезти Фиби сюда – или самой не отправиться в Олбэни? Две умирающие женщины безумно пялятся друг на дружку… «Вот вам святое причастие!»
Уж лучше она поправится. Столько всего нужно сделать снова. Ездить верхом ей не светит, это она знает. А вот еще один мужчина? Элизабет с необъяснимой приязнью вспоминает дальние силуэты. Думая о Мод и Джордже, смеется. Смеяться она не в силах. Ворчанье задавлено у нее в груди, на глазах выступают слезы, стекают ей в горло, отчего она давится, или кашляет, или ей как-то иначе становится неприятно. Она думает: у меня трахея забита обертками от мыла!
По глазам ее и вверх по макушке скользит волна. Вновь к ней в спальню заструились жаворонки. Она слышит, как они возвращаются. На сей раз, быть может, и споют ей. Птицы начинают исторгать свои долгие жидкие фиоритуры, присаживаясь на верхний ярус веранды, где ей их не видно, хотя слышит она их достаточно ясно. Поздравляет себя с тем, что вновь созвала диаспору жаворонков.
Так, а что тут с этим последним мужчиной? Вот бы жаворонки разлетелись. Они же поют как ни в чем не бывало, садясь у нее над головой. Она вновь смеется. Из живота ее доносится недвусмысленное урчание. У нее внутри происходит что-то новое. Она ощущает, как ее гложет похоть.
Господи, как же она вертела хвостом! А теперь? Она удовольствуется, если Мод того пожелает, еще одним перепихоном с Алланом. Но маловероятно. Не могла б она хотя бы потрогать себя – еще разок? Урчание вскипает уже у нее в горле, пока она отрекается от клятвы не бороться с недугом. Свои энергии сосредоточивает на рывок, который плюхнет ее правую руку ей на промежность. Она содрогается. Заткнитесь вы! – увещевает она несмолкающих птиц. Отпускает. Жаворонки стихают.
Она слышит, как взбалтывает ее кишки. Видит сквозь потолок веранды так, будто тот стал стеклянным. Накрап птиц рассеивается в безоблачном небе, раннее утро или конец дня, определить она не может; небо наконец подернуто лавандовым, цвет спокойно отплывает (что за дурацкое место, куда запереть ее жизнь!) так, что остается лишь яркость, белизна едва подсиненная, от синевы становится белее, посередине ее Мод, говорит с распознаваемого и измеримого расстояния, голос ее – приглушенный возглас ликования Элизабет.
Лицо Мод почти касалось лица Элизабет, когда она звала ее. Сиделка говорила:
– Она испачкалась.
– Знаю, – ответила Мод. – Помогите мне ее обмыть. Помогите мне обмыть мою дорогую.
Полин вышла на веранду вслед за Мод.
– Позвоню врачу.
Сиделка покачала головой. Мод произнесла:
– Лучше перенести ее к ней в комнату. Позови, пожалуйста, Джона. – Мод держала Элизабет в объятиях, щека к щеке. Глаза Элизабет пристально смотрели мимо нее.
Полин сказала:
– Мод, бедная моя Мод! Может, лучше…
– Не лучше, – заявила та. Кто-то сдержанно постучал в сетчатую дверь. – Джон? Вы не могли бы мне помочь?
Аллан все еще вглядывался сквозь сетку в смазанные фигуры за ней.
* * *
В нью-йоркском кинотеатре Оливер посмотрел «Доктора Нет»[156]156
Dr. No (1962) – британский шпионский триллер ирландского режиссера Теренса Янга по одноименному роману Иэна Флеминга (1958), первый фильм о Джеймсе Бонде, агенте 007.
[Закрыть] со своей подругой Джолли; Полин, уйдя от него, ужалась в его соображениях. Оставив Присциллу за старшую в галерее, Айрин навещала молодого художника у него в мастерской. Фиби одна лежала на больничной кровати, а родители ее ждали в комнате для посетителей: Луиза – в кресле, Оуэн – стоя у окна.
Наутро Баррингтон Прюэлл и его компания снялись с якоря в Харуичпорте на Пустынную гору, затем в благоприятных условиях обогнули мыс Мономой. Когда поворачивали на норд, паруса им раздувал крепкий попутный ветер – жаркий, гнавший в пункт назначения с неприятной скоростью. В насупленной праздности команда горбилась на своих постах, рулевой едва касался штурвала, ни они, ни пассажиры не потели и не дрожали в теплом свежем воздухе.
Пешком до станции было все ближе. Хотя лежала та в нескольких милях от центра Саратога-Спрингз, никакого багажа у меня с собой не было, поскольку из Олбэни я здесь всего на день и свободное время у меня имелось. Мимо домов и газонов все меньших размеров, покуда город не остался за спиной, а по обоим моим флангам не оказался неухоженный лес: заросли дуба, клена и березы, обнесенные жесткой порослью виргинского сумаха. Понизу и передо мной распростерлись сенокосные угодья с густой отавой – тянулись до линии холмов потемнее, влажность земли подымалась от них постоянной дрожью. На ходу мне не давал покоя вопрос, практически единственный интересный и до сих пор оставшийся без ответа: как письмо Аллана к Элизабет попало в чужие руки? Уже с билетом, взятым на вокзале, мне захотелось присесть на скамейку из тех, что смотрели на рельсы. На дальнем перроне стоял высокий господин. В этот второй понедельник сентября больше никто на глаза не попадался.
Мужчина был одет как бы к дневному приему в саду – в костюм общепринятого совершенства. Блейзер не вполне темно-синего цвета стекал по его покатым плечам и вяло уроненной правой руке с ничем не прерываемой плавностью. Над разглаженным воротником пиджака виднелось аккуратное кольцо белесой крепдешиновой сорочки, кончики его притянуты друг к другу блеском золота под репсовым галстуком в сливово-оловянную полоску, чей мягкий выступ пресекался золотым зажимом позаметнее над расстегнутой средней пуговицей блейзера. От бережно схваченной талии опадали брюки из горлично-серой фланели с защипами – мои мысленные пальчики щупали их воображаемую мягкость, подтверждаемую той изысканностью, с какой они сламывались в дюйме над манжетами у подъемов буро-янтарных туфель с союзками. В довершение ансамбля мужчина в левой руке держал бледно-желтую панаму с высокой тульей, каковой и обмахивал – так величаво, что поневоле задумаешься, перемешивается ли воздух, – свою невспотевшую голову.
Чуть подаваясь вперед, немного склонившись набок, голова эта выглядела крепкой и гладкой, хотя в подробностях своих – менее чем пригожей: орлиный нос был слишком толст в кончике, расстояние между глазами чересчур мало, губы слишком узки. Едва ли эти недостатки имели значение. Говорят же, что идеально одеваться – такое удовлетворение, какого не способна дать ни одна религия; и от этого человека даже в наших невыразительных окрестностях такое удовлетворение излучалось, как свет от нити накаливания. То, как он нес на себе свою элегантность, подразумевало властную учтивость по отношению к миру вокруг. Казалось, он измышляет само свое присутствие здесь, воображая себя в некоем высочайшем фарсе, поставленном для развлечения знающих друзей и самого себя.
Впечатление это, как выяснилось, содержало в себе толику истины. Несколько дней спустя на обратном пути с похорон мне стало известно, что мужчина, виденный мною на станции, – профессиональный актер, не особенно известный или преуспевающий, если не считать его вторичной карьеры: он появлялся на модных вечеринках как оплаченный статист. Мог обеспечить стильное присутствие, хорошо говорил (или же не очень хорошо), взимал разумную плату. Мне повезло увидеть его за работой – быть может, он ожидал даму, приезжавшую на север поездом, а его наняли ее сопровождать на вечер.
Мне стало легче, когда призрак этот объяснился. Меня он беспокоил больше, чем хотелось это признавать. Тогда мне было двадцатью годами меньше, и, несомненно, моя собственная неуверенность преувеличила воздействие актера. В то время у меня еще имелась надежда, что жизнь естественным путем порождает жизнь, что смерть, как бы опустошительны ни были все эти утраты, живым можно превозмочь или обойти, если только сами они остаются живы. Пусть было мне известно, что Морриса никогда не удастся заменить, расчет был на то, что память о нем раньше или позже сплющится, выживет лишь как напоминание о том времени, какое безопасно можно назвать прошлым.
Думалось, иными словами, что я всегда сумею оправиться. Для меня лишь началось постижение того, что мертвые остаются вековечно присутствовать средь нас, принимая облик ощутимых пробелов, которые исчезают, лишь когда мы, как нам и полагается, принимаем их в себя. Мы принимаем в себя мертвых; заполняем их пустоты нашим собственным веществом; сами становимся ими. Живые мертвые не принадлежат фантазийной расе, из них состоят насельники нашей земли. Чем дольше мы живем, тем многочисленней те манящие дыры, какие смерть открывает в наших жизнях, и тем больше мы добавляем к смерти внутри нас, пока наконец не начнем воплощать собою нечто иное. И когда мы в свой черед умрем, те, кто нас переживет, воплотят в себе нас, нас целиком, наши индивидуальные «я» и ту толпу мертвых мужчин и женщин, которую мы в себе носили.
Умирает ваш отец: вы слышите, как в легких у вас эхом раскатывает его хохот. Умирает ваша мать: в витрине ловите свою нахохленную походку, как у нее. Умирает друг: вы принимаете его позу перед ждущей камерой. За этими внешними знаками мы подхватываем слабости, дары, неосуществленные неудачи и успехи тех, за чьею смертью мы наблюдали и наблюдали.
Конечно же, мы делаем все, что в наших силах, чтобы это отрицать. Я стану отрицать это перед вами и перед собою, пока говорю, все еще делая вид, что вы – всего лишь вы, а я – я. Так вот могу я достичь полной слепоты и дальше пробираться на ощупь по солнечному свету и тьме, и лишь мои недоуменные жалобы поименуют то, обо что я спотыкаюсь, и другие незрячие тела, с которыми сталкиваюсь. В таких обстоятельствах я порой думаю, что лишь остаточная крепость мертвых у меня внутри вообще дает мне силу выжить. Под этим я имею в виду накопленный вес поколений, сменяющихся одно за другим, а также – с первейшего из времен, когда имена крепко удерживали свои предметы и свет сиял средь нас чудесами открытия, – бессмертное присутствие того первоначального и героического актера, кто видел, что ему дарован мир, в котором можно играть без раскаяния или страха.
Нью-Йорк, 27 января 1987 г.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.