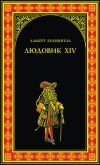Текст книги "Сигареты"
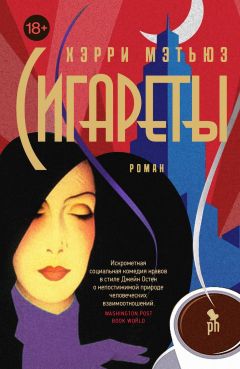
Автор книги: Хэрри Мэтью
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
…О мой психиатр! Человек, превратившийся в сельскохозяйственное животное. Руки, трогающие ее, берут все, что находят, и ничего не отдают тому, что должно быть источником жизни. Вы сами платите налоги животноводческой ферме – вы знаете, что все мы в итоге оказываемся в сотейнике. Людям нравится из него есть, и молодым отданы приказы размножаться, а потом высасывать друг у дружки соки до самого мозга костей. Сперва мы свиньи и ослы, потом животные сосуны…
Письмо это наконец подвигло Оуэна на звонок:
– Так нельзя с собой. Ты и без того в скверной форме, а теперь что тебя удержит от того, чтобы совсем не расклеиться?
Ее верещалка ей уже об этом говорила – теми же самыми словами. Фиби в ужасе задавалась вопросом, не расклеилась ли она уже. Нет – у нее еще оставались чувства. Они в ней бесчинствовали каждый час дня. Чем бы ни было то, что претерпевало их, оно могло притязать на действительное существование. Подводило Фиби лишь тело, сам грунт этого существования. Каждый день она пыталась усилием воли сделать его цельным, если не исцеленным:
– Две ноги, как у всех. Левый большой палец на ноге, правый большой палец на ноге, левая лодыжка, правая лодыжка… Живот с присоединенной диафрагмой, ребра охватывают меня, как две руки. Легкие… – Легкие ее оставались промокшими; когда она ела, в желудке у нее жгло; из зеркала на нее смотрела голова освежеванного кролика.
Спрашивать у головы в зеркале, безумна ли она, утешало ее, потому что коль скоро признавала она безумие возможностью – знала, что в ней оставался хоть какой-то рассудок. «Как можно излечить возможность безумия? – писала она. – Пищей, работой и верой».
Она силой втягивала суп сквозь зубы. Как бы измождена ни была – держалась ежедневного расписания: рисовать, писать и читать. С верой оказалось сложнее. Неотступное осознание утраты набивало ей тощую грудь устарелыми фильмами о возлюбленных, родителях и друзьях.
Утешенье началось в книге. Она стала таким читателем, о каком мечтают авторы: для такого читателя каждая фраза переписывает Вселенную. Она б могла поклясться, что о беде ее знал сэр Томас Браун, когда писал:
Душа твоя затмилась на время, признаю́, как солнце затеняется тучею; сомнений нет, что благодатные лучи Господней милости осияют тебя вновь… Мы жить должны по вере, не по чувству; сие как желать милости – уже начало милости; должны мы ожидать и медлить[51]51
На самом деле цитируется книга Роберта Бёртона «Анатомия меланхолии» (1621–1651), часть 3, раздел 4, глава 2.
[Закрыть].
Мимолетное облачко наплыло на нее. Это не означало, что солнце умерло.
Жизнь есть чистое пламя, и жить мы должны по незримому нашему солнцу внутри нас[52]52
Томас Браун, «Гидриотафия, или Погребение в урнах» (1658), гл. 5. Сэр Томас Браун (1605–1682) – британский медик, один из крупнейших мастеров английской прозы эпохи барокко, автор литературных «опытов» на оккультно-религиозные и естественно-научные темы.
[Закрыть].
Она вспомнила свои осенние восторги – «свет и божественную любовь». Прочие смотрели на нее странно. В обществе сэра Томаса Брауна ей было не так странно, не так одиноко: не знаю, что это, но знаю, это – что-то, а больше у меня и нет ничего.
Внезапная весна укрепила ее уверенность. После пяти месяцев она перестала кашлять. Она воображала, что вскоре руки у нее уже перестанут дрожать. Льюис и его друг Моррис взяли ее с собой в долину реки Хадсон на выходные среди озер и холмистых садов. Вечером в воскресенье она записала:
Лозы уже в почках. Мне по-прежнему всего лишь двадцать. Вчера яблони раскрыли лепестки первородных кремового и розового оттенков. Через несколько месяцев – Рубенсовы венки плодов: лозы зреют, яблоки на ветвях. Сегодня вечером свет сочится тенью, восходит полная луна, солнце отступает, лес трепещет в дыханье грядущего лета. Кто-то велел боярышнику: Цвети! – Ф. раскрылась. Кто-то велел козодою: Пой! – Ф. запела. Брат и друг произносили гимны прощанья этому естественному дню. Возлюбленная женщина должна говорить с дыханьем венчиков, овеваемых порхающею птахой.
В любовном неистовстве она вернулась к работе. Вновь начала звонить друзьям и ходила с ними встречаться. Ей хотелось обернуть их всех своим вздымающимся покрывалом любви. Те же были заняты, тревожились, им пора было бежать. Работа ее вершилась провидческими всплесками. Ее навестил Уолтер. Сказал ей:
– Ты гадишь по всему холсту. Уж тебе-то могло ума хватить.
Хотя познакомились они лишь десятью минутами раньше, Фиби умолила Элизабет, слышавшую это суждение, задержаться у нее в студии после того, как Уолтер ушел. На глазах у Элизабет Фиби уничтожила свою новую работу.
Затем она собиралась написать еще один автопортрет в манере старых мастеров. Но на такое у нее не хватало терпения. Рука ее жаждала каракулей и клубков, «грязных комбинаций», тускло-оранжевого, замазанного тускло-зеленым. Кисть упархивала от нее.
В середине мая она сдалась. Перестала видеться с друзьями. Перестала писать маслом, хотя в дневнике все еще что-то отмечала. Все больше дни свои и преимущественно бессонные ночи проводила в попытках угадать причину своего распада. Что же такого она или кто-то еще сделал, за что следует так мучительно каяться? Что-то – нечто очевидное и глупо спрятанное от нее: «тайный урок, какой может повторить любая старая окарина». Она была обречена постигать этот урок на своей шкуре.
В конце мая ее брат Льюис вновь стал предметом публичного скандала. Луиза, месяцами присматривавшая за своим сыном, слегла, и ее отправили в больницу. Фиби поехала ее навестить. В палате у Луизы мать и дочь разбили друг дружке сердца.
По пути домой Фиби зашла в бар. Из знойного дня она вступила в кондиционированную прохладу. Чихнула в «кислый виски». У нее потекло из носу. К вечеру она уже свирепо кашляла, а еще до утра вся горела в лихорадке. Позвонила Уолтеру, который отвез ее прямо в Сент-Винсент, куда ее и положили с двусторонним воспалением легких.
Два врача, взявшие Фиби под свою опеку, пришли в ужас от ее состояния. От ее психосоматической трактовки они отмахнулись и вскоре докопались до истины. Фиби изо всех сил старалась им противиться. Относилась к ним как к смертельным врагам. Стоило им только подойти к ней, как глаза у нее начинали поблескивать опасливым отвращением, а верещалка в неприятном режиме принималась выступать от ее имени и забрасывала врачей презрительными эпитетами.
Насколько Фиби это видела, два посторонних человека решили вмешаться в ее тайную жизнь. Под видом заботы о ней они травили ту мечущуюся крохотную личность, к которой ныне она свелась. Ее предубежденность к ним пережила их успешное лечение ее пневмонии и те чудеса такта, которые врачи проявляли, обсуждая ее хроническое расстройство. Их догадка, что расстройство это, возможно, имеет психологические корни, приводила ее в бешенство. Экстатическая боль, выросшая в ней за последний год, теперь уже стала самой сердцевиной ее действительности. Фиби не могла допустить, чтобы ее сделали медицински предсказуемой. Она отказывалась принимать помощь. Лишь когда приехала Луиза – через четыре дня после того, как Фиби положили, – ее удалось выманить из этого угла.
Луиза пообещала Фиби, что больше никогда не оставит ее; дала слово, что нипочем не позволит ни Оуэну, ни кому другому вмешиваться в ее дела. Фиби позволила ей убедить себя, вытянув из матери еще одно обещание: ни в коем случае не оставлять Фиби наедине с ее врачами. После этого она согласилась сделать то, о чем ее просили, уступив ответственность за свой кошмарный недуг с таким облегчением, какое удивило ее саму. Впервые с декабря у нее началась менструация.
У Фиби вторично проверили основной обмен веществ, на сей раз – корректно. Выявилось, что скорость обмена веществ у нее аномальна: +35. Ей прописали метилтиоурацил – сто миллиграммов каждый день. Луизе сообщили, что Фиби позволят выписаться из больницы, как только она оправится от своей пневмонии, вероятно – дня через три-четыре. Ей понадобится несколько недель, чтобы вновь стать здоровой. Все это время она должна вести спокойную жизнь, побольше отдыхать, за нею должны ухаживать – иными словами, ей следует отправиться домой.
После первого буйного неприятия Фиби претерпевала больничный режим с капризным смирением. Жар у нее спал, легкие очистились; более же ничего не изменилось. Сердце колотилось по-прежнему, она вся дрожала и потела, а пилюли, даже лучшие, даровали ей лишь краткий ночной сон. Когда Луиза сказала, что забирает ее домой на север штата, Фиби не противилась. Тем не менее решение это она приняла как провал: те два года, что она прожила самостоятельно, списались со счетов. Ее верещалка, сплетенная было на какое-то время с ее собственным страстным голосом, вновь заявила о себе, осуждая капитуляцию Фиби. Верещалка предположила, что происходящее спровоцировал Оуэн. Луиза делала всю грязную работу, а он за кулисами потирал руки.
Собственный голос Фиби стих до шепота. Да и то шептал он больше звук, нежели смысл, как будто верещалка реквизировала все атрибуты здравого смысла. Однажды она принялась твердить вновь и вновь без видимой причины:
– Ищу, взыщу, завещу… – (Теперь уже собственный голос повиновался Фиби не больше, чем верещалкин.) В другой раз он повторял ей прямо в кроткие уши необъяснимую цепочку букв: з. т. в. ч. б. щ. р. д., з. т. в. ч. б. щ. р. д… Фиби не могла ее расшифровать. После того как цепочка выдала «Звери требуют вопрос чтобы бесы щитом рассекли доверие» и «Зато теперь выискивают благо щупая расплывчатых доброхотов», она отмела возможность, что эти буквы – начальные чего бы то ни было. Еще труднее из них оказалось складывать слова – особенно с учетом щ и одной гласной. Что б ни делала она, буквы отказывались разлагаться. Что бы ни делала. Без всякого значения, ничем не угрожая, просто настойчивые, буквы эти у нее в голове превратились в постоянный рефрен. Фиби приходилось вклинивать свой голос между ними:
– Я з. т. в. ч. б. щ. ищу р. д. Я з. т. в. ч. б. взыщу щ. р. д., я з. т. в. ч. завещу б. щ. р. д…
Вскоре Фиби утратила всякий интерес к новому диагнозу ее состояния, что могло бы порадовать кого угодно – кого угодно другого.
Перед уходом Луиза вновь и вновь повторила ей, что будет о ней заботиться, покуда Фиби не исцелится. Полностью. Ее не ушлют в «клинику». Ее будут защищать от Оуэна столько, сколько она этого захочет. В восемнадцатый раз Фиби согласилась ехать домой. Однако поставила условие: поедет она одна и поездом – так, как они всегда возвращались из большого города, когда она поначалу ездила туда с родителями в детстве. Врачи Фиби посоветовали Луизе уступить ей.
В поездке Фиби узнала о череде букв и еще кое-что. З. т. в. ч. б. щ. р. д. означало старый поезд, несущийся по старым рельсам. На скоростях поменьше поезд говорил:
Сигарет-сс, ч-ч.
Сигарет-сс, ч-ч.
За все четыре часа она не нашла себе ни что съесть, ни что попить. Вагон трясло так, что читать не удавалось. Перед Покипси сломался под трехчасовым солнцем кондиционер. Люди, сидевшие с нею рядом, все время отодвигались. Увидев Луизу, Фиби заорала от болезненной радости. После, в ее не переделанной комнате, она содрала с себя всю одежду и забралась под простыни к себе на кровать из светлой сосны. Заснула.
Оуэн приехал в следующую пятницу. Когда она его увидела, боль вернулась – незнакомая боль, с которой Фиби пожила несколько дней, прежде чем смогла ее поименовать.
В два часа ночи, бодрствуя у себя в комнате, Фиби сидела у окна, пристально глазея сквозь жаркий лунный свет на деревья, лужайку и дома, осаждавшие ее. Слушала голоса у себя внутри. С невнятной настойчивостью верещалка все время напоминала ей о фотографии в комнате у отца. Благодаря ей самой та комната сейчас оставалась незанятой. Фиби встала и отыскала фотографию – портрет ее бабушки по отцу, сепия в рамке из гравированного серебра; бабушка та скончалась от удара, когда Фиби исполнилось два годика. Одета она была в черное, на затылке приколота широкополая шляпа, жакет с непомерными лацканами, сужающаяся книзу юбка до лодыжек, в руках некрепко зажаты длинные шелковые перчатки. Черты ее лица выражали суровость и бдительность. Глядя мимо камеры, взгляд свой она, казалось, устремила на некое бедствие, лишь подтверждавшее то, что она когда-либо подозревала. Фиби поставила снимок себе на тумбочку у кровати.
Новизна ее боли меньше проявлялась в симптомах – знакомых симптомах ее болезни, – нежели в источнике этой болезни, который Фиби воображала где-то вне себя. Сперва она не умела определить этот источник, и удалось ей это лишь после того, как Луиза открыла ей условия дарственной, которую Оуэн организовал по случаю ее двадцатиоднолетия.
То, что она затем обнаружила, не удивило б никого, кто наблюдал ее при Оуэне. Каждый жест ее и слово выражали презрение и отвращение. Стоило ему появиться, как она поджимала колени и скрипела зубами, напоминала себе о тех требованиях, какие нужно выставить, присматривалась к возможностям для нападения. Неспособная сама себя видеть, Фиби и не осознавала, до чего неотвязны ее чувства. Она чуть было не постигла «истину», когда Оуэн читал ей как-то раз под вечер:
Мистер Копперфилд хмыкнул.
– Ты такая сумасшедшая, – снисходительно сказал ей он. Он был в восторге от того, что оказался наконец в тропиках, и более чем доволен, что ему удалось разубедить жену останавливаться в до нелепого дорогом отеле, где их будут окружать одни туристы. Он сознавал, что эта гостиница зловеща, но именно это ему в ней и нравилось[53]53
Джейн Боулз, «Две серьезные дамы», часть 2. Пер. М. Немцова.
[Закрыть].
Фиби крикнула бы: «Совсем как ты!» – если бы как раз в тот миг отец ее не задремал. Ярость ее отвлеклась, и она лишь заворчала, от чего он проснулся.
Незадолго до дня рождения Фиби Оуэн разместил несколько сотен акций дорогостоящих ценных бумаг на счете доверительного хранения, открытом на ее имя, и распорядился, чтобы каждый месяц с его текущего чекового счета на ее счет переводили пятьсот долларов. Известие об этих распоряжениях привело эмоции Фиби в идеальный порядок.
– Он тебя ненавидит, – сказала женщина. В изумлении Фиби глянула на фотографию у своей кровати. С летнего поля взлетели два ворона и медленно замахали крыльями прочь с глаз над домом. – Он на что угодно пойдет, лишь бы тебя остановить.
– Ах ты пятидесятипинтовая пьянчужка, – ответила Фиби.
– Я его лучше всех знаю, – прокаркала женщина. – Помнишь первый раз, когда он всучил тебе деньги? Он никогда не изменится.
Оуэн сгустился для Фиби в отталкивающий образ себялюбия. Она разглядела, что он притворялся, будто поощряет ее свободу, лишь для того, чтобы половчее на нее нападать. Он даже больше не напускал на себя интерес к ее живописи. Конечно же, он наверняка ее ненавидит. Возможно, ненавидел ее всегда, а окружал своей чрезмерной заботой в детстве лишь для того, чтобы держать ее в своей власти, чтобы она наверняка покорялась его желаниям. Подумать только, она так его любила!
– Не рассчитывай, что я стану тебя благодарить, – сказала ему Фиби, узнав о его необычайном подарке.
– Я и не рассчитываю, – ответил Оуэн с такой кротостью, от которой ей захотелось пустить ему кровь.
– Я соглашаюсь лишь для того, чтобы заставить тебя что-нибудь заплатить.
Бабушка подучивала ее:
– Скажи ему, что он лис и свинья!
Горло у Фиби перехватывало от всхлипов ярости.
Иногда она шпионила за родителями, пряталась за дверью на террасу, где они выпивали перед ужином. Однажды вечером она услышала, как Оуэн предлагает Луизе убедить Фиби сделать тиреоидэктомию. Так она совершила второе открытие. Ее отец не желал удовлетворяться своим господством над ее жизнью; он желал самой этой жизни. Она мысленно перебрала способы, какими он вмешивался в нее с прошлого сентября: выбрал ей специалиста по щитовидке, выбрал ей психотерапевта, упорствовал в том, что все неприятности у нее – психологические, принижал ее вопиющие симптомы. Он подталкивал ее к самому пределу ее недуга, а теперь хотел ее вообще прикончить.
Вокруг нее хлопотливо трепетали черные шелка миссис Льюисон-старшей:
– Может, и думает он, будто не знает, что́ делает, но уж точно делает это.
Фиби, обмочившая себе штанишки на первом этаже, сидела у себя в ванной на унитазе. Ее переполняла яростная решимость. Она выживет и победит. Отец ее умрет первым. Или она его научит боли. Так было б еще лучше.
Луиза же не подводила ее никогда. Приходила, когда Фиби звала. А звала ее Фиби все чаще. Луиза превратилась в общество, а еще – в детскую любовь, запоздалую и не опоздавшую. Фиби жалела, что так жадно липнет к матери. Для Луизы, очевидно – неистощимой, эта зависимость сама по себе была достаточной наградой. То, что Луиза об операции даже не заикалась, Фиби не беспокоило: это значило, что ее мать отвергла предложение Оуэна. В конце концов, и сама она кое о чем не заговаривала – например, о жутком голосе своей бабушки.
А голос тот настойчиво раздался, когда первого августа Фиби узнала, что Оуэн приобрел «Портрет Элизабет»:
– Опять он за свое взялся. Да ему же всегда плевать было на живопись. И сама знаешь, как он относится к Уолтеру. – (Льюис рассказывал ей, что Оуэн отозвался об Уолтере как о «человеке, погубившем мою дочь».) – Но, опять же, возможно, он спекулирует. Для таких, как он, знаешь, искусство – всего лишь товар. Нет, дело не в этом. Он же знает, как ты относишься к этой картине, правда? Уж поверь мне, купил он ее из-за тебя. Он не хочет оставлять тебе ничегошеньки. Желает, чтоб ты видела, что всем теперь заправляет он…
Фиби проскрежетала:
– Заткнись, сука ты старая! – Ее уели. Пусть и хотела она видеть мстительность во всем, что делал Оуэн, больше всего ранило ее одно то, что теперь он владел портретом. Когда же он успел его купить? Полная подозрений, она позвонила в галерею Уолтера. Картину продали… Мод Ладлэм. В этом они уверены – работу отправили ей в конце июня.
– Что я тебе говорила? – вздохнула старуха. – Темная он лошадка – темная, как кроличий сыч из детства.
То, что узнала, Фиби предъявила Оуэну. Поскольку теперь он приближался к ней, как грешник идет к исповеди, она не сумела определить, по-настоящему ли ее слова его расстроили.
– Конечно, – ответил он. – Я купил ее у Ладлэмов.
– Мод от нее избавилась всего лишь через месяц?
– Почему нет? Да какая вообще разница?
– На черта тебе вообще эта картина?
– Если хочешь знать правду, я купил ее тебе.
Фиби ощутила, что он лжет. Она припрет его к стенке.
– Тогда почему ты мне ее не отдал?
– Ее доставят со дня на день.
– Так она моя или нет?
Оуэн замялся. Он и впрямь думал перепродать картину.
– Тебя это порадует?
– Ничего, что ты делаешь, меня не порадует. Меня тошнит от того, что она теперь твоя.
– Она твоя.
– Хочу видеть документы в подтверждение.
– Дорогая, это необязательно.
– Нет, обязательно, дорогой. Я желаю удостовериться, что она не в твоих блядских лапах.
– Когда я что-нибудь обещаю тебе…
– Ага. Я хочу видеть юридический документ о собственности. Иначе весь мир узнает о твоих проделках с тем причалом в Нью-Лондоне. Помнишь, когда ты вынудил оплачивать страховку две компании?
Оуэн рассмеялся.
– Фиби, прекрати. Это история древнего мира. Всем на это уже наплевать. Я об этом рассказывал даже совсем посторонним людям – при тебе же.
– А Луизе – нет.
Наблюдая за ним, Фиби не смогла подавить ухмылку. Она угадала. Он вышел из ее комнаты. Она своего добьется.
Луиза воспользовалась хорошим настроением Фиби, чтобы побеседовать о неприятном. Сказала, что ее лечение, очевидно, не удалось, поэтому теперь ей нужно подумать о тиреоидэктомии – и чем скорее, тем лучше.
– Ты не набрала и пяти фунтов с тех пор, как переехала сюда, и все такая же нервная. На твоем месте я б с ума сошла через неделю.
– Я с ума сошла много месяцев назад. Если бы мне знать… если б я могла быть уверена, что когда-нибудь мне станет лучше, я была б не против и подождать. Полагаю, Оуэн считает, что мне нужно глотку перерезать.
– А он тут вообще при чем? Ты об этом подумай – и ты сама решишь. Я не хочу ничего держать от тебя в секрете. Я действительно нашла хорошего хирурга в Олбэни. Делает четыре-пять щитовидок в неделю – там и в Бостоне. Я ему о тебе рассказала, и он готов.
Фиби ничего не ответила. Немного погодя Луиза снова заговорила:
– Я рассказала тебе свой секрет.
– Мне страшно. В основном из-за анестезии. Не хочу себе такого. Это как смерть.
– С пентоталом – уже нет. Это не как тонуть. Просто исчезаешь через секунду, а потом возвращаешься. Никакой тревоги, никаких воспоминаний…
– Я тебе верю, но это не мой секрет.
– Не вполне понимаю.
– Мамуля, если я буду жить, сперва мне придется согласиться умереть. Могу я побыть недолго одна?
Фиби написала своему брату Льюису:
…Луиза сплошь доброта – настоящая доброта, – но у меня такое чувство, что и ее я теряю. Сочувственная струна материнства дрожит лицемерием. Да и как иначе – если она собирается помочь, ей нужно отсоединиться от меня. Неужели жизнь всегда такой будет? Да, по меньшей мере – до смерти. Сгодится как ответ.
Ты способен понять? Мне нужно, чтобы кто-нибудь понял, а ты можешь – ты пережил худшее, нежели я. Приедешь сюда быть со мной? С тобою рядом я б, может, и позволила им перерезать мне глотку.
Бабушка навещала Фиби постоянно – ее присутствие не беспокоило, не утешало. Она безвременно преобразилась в птицу. Пусть большая и черная, но птица эта приносила в комнату Фиби ощущение не чего-то зловещего, а безмятежного непрерывного движения, словно звуки самолетов, все время садящихся и взлетающих в дальнем аэропорту. Птица разговаривала все меньше и меньше.
Доставили портрет Элизабет. Льюис внес его к Фиби в комнату, как только картину вытащили из ящика. Увидев его, Фиби неудержимо расхихикалась.
– Он всегда был моим! Повесь его на стену, вот сюда. Льюис, прошу, позволь мне тебя любить.
Ее двадцать первый день рождения прошел скромно, отмеченный лишь тортом на троих. Накануне Луиза свозила Фиби в Медицинский центр Олбэни, где ее осмотрел хирург. Фиби прониклась к нему тут же, что так изумило Луизу – после всех ее длительных предосторожностей, – что она чуть не рассердилась. Последующие дни Фиби думала лишь о своей следующей встрече с врачом – румяным, пухлым, неотразимо уверенным. Когда она впервые посмотрела ему в глаза, спокойные, как у коровы, жизнь сделалась податлива. Позднее она пережила испуг – и знакомую ненависть к плотскому, особенно к себе. У себя в спальне она заново открыла ворона, кружившего, как сыч, под потолком, и Элизабет в красках, которую она не ненавидела.
Повинуясь дочери, Оуэн перевез портрет в больницу, когда Фиби оперировали, и повесил его у нее в палате напротив постели. На тумбочке у изголовья Льюис поставил проигрыватель, до которого она могла бы дотянуться, не вставая.
Луиза и Льюис ждали ее возвращения из послеоперационной палаты. Стоило лишь Фиби открыть глаза – а те долго просто отсутствующе вращались под полузакрытыми веками, – мать говорила ей, что она прекрасно справляется, а Льюис мрачно ей вторил. Они не говорили то, что думают, – лишь повторяли то, что им велели. Лицо Фиби выглядело бескровным и усохшим над перевязанной шеей, к которой приклеили пару дренажных трубок.
Поначалу Фиби их не слышала, а потом им не верила. Выныривала в сумбур дремоты и ужаса. Несмотря на успокоительные, которые ей дали, она чувствовала себя хуже некуда. Последствия хирургии ее не пугали: она просто знала, что симптомы у нее усугубились. Сердце терзало ребра, как шип; руки и ноги пленкой окутывал пот; все тело распалось на очаги страданий.
Операция прошла успешно, и такой отклик Фиби соответствовал новому состоянию. Удалили четыре пятых ее щитовидной железы. Если ее не сдерживать, на требование организма предоставлять ему излишний тироксин, к которому он привык, железа отозвалась бы тем, что принялась отрастать обратно. Чтобы это предотвратить, Фиби давали тироксин в количествах, превышавших те, какие вырабатывало ее тело во время болезни. В ходе операции пульс у нее не опускался ниже 160; теперь же он вырос до 180. Никто не мог убедить ее, что ее исцеляют.
Семь дней она терпела практически полную неподвижность из-за дренажных трубок у себя в шее и внутривенного вливания в обе руки. Она вновь целиком утратила власть над своими мыслями и чувствами.
Ощущение страха никогда ее не оставляло: если кто-то оказывался рядом, оно было тягостным, а если оставалась одна – невыносимым. Без Льюиса или Луизы Фиби звонила дежурной нянечке каждые две минуты, хотя вскоре и поняла, что другие предоставляют лишь иллюзорное облегчение. Другие могли ее отвлекать, а не утишать то, чего она боялась больше всего: что следующий же миг окажется таким же невыносимым, как мгновенье до него, как оно обычно и бывало.
Льюис иногда читал ей вслух. Фиби изо всех сил старалась слушать; не проходило и минуты, как внимание у нее разметывалось. С музыкой получалось лучше. Она привезла с собой любимые пластинки, и среди них – несколько квартетов Гайдна. Посреди одного, в конце темы с вариациями «Император»[54]54
Третий из шести квартетов (1797–1798) для струнных (№ 62 в до мажоре) австрийского композитора Франца Йозефа Гайдна (1732–1809), также называемый «Кайзер», поскольку вторая часть его – вариация на тему гимна Гайдна «Боже храни императора Франца», впоследствии ставшего государственным гимном Австро-Венгрии, а еще позднее мелодия легла в основу гимна нацистской Германии Deutschlandlied.
[Закрыть], Фиби стиснула запястье Льюиса.
– Оставь это. – Эту часть проигрывала она снова и снова, по крайней мере раз четыреста. Потом говорила, что без нее попыталась бы себя убить. Голова ее часто наполнялась словами, которые тянула за собой знакомая мелодия Гайдна, гимн еще из школьных дней: «Славно о тебе, град Божий…»[55]55
Имеется в виду Glorious Things of Thee Are Spoken (1779) – гимн английского священника, композитора и работорговца Джона Ньютона на основе Псалма 86 (3: «Славное возвещается о тебе, град божий…»). Иногда этот текст английского поэта Уильяма Купера исполняется и на мотив Гайдна.
[Закрыть]
Птица по-прежнему навещала ее, безголосая и механическая, беспрерывно мечась из одного угла потолка в другой, словно бы подвешенная к эллипсу рельсов. Она жужжала, шептала: эссессо, эссессо…
Из этого и состояли дни и ночи ее: шепот птицы эссессо, заканчивается четвертая вариация, борьба с подушкой, чтобы найти звонок, дотянуться до руки Льюиса или Луизы.
Перед отъездом из дома портрет Элизабет ее развлекал, если не утешал; здесь же он не приносил вообще никакого успокоения. Фиби распорядилась, чтобы в ее палате было темно. В скудном свете дня из-за жалюзи на окнах или при огоньке ночника картина виделась размазанной и искаженной. Пустые желтые глаза парили над головой; сложенные руки, чьи ногти намекали на серебряную улыбку, ссыхались до скучных культей; красное пламя волос стекало по холсту илистыми толчками. Фиби глядела, бывало, на Элизабет, зажмуривалась и пела под пластинку:
Вот живой воды потоки
Нам из вечной бьют любви, —
желая лишь одного: пусть закончится.
Она никогда не плакала. У нее никогда не было времени накопить слезы: слишком некогда – надо вновь заводить Гайдна, стискивать колокольчик, не отрывать взгляда от двери, из-за которой должна появиться черепахоногая нянечка, ждать следующего мига, когда не так больно, а потом и того, что за ним. Моги она плакать – плакала б по своему бедному телу, регулярно пожираемому ненасытным чудищем с резиновыми зубами.
Через неделю дозу тироксина ей сократили. Хоть Фиби и не знала, что ей полегчало, ощущения у нее постепенно перестали кипеть, а ужас, засасывавший ее всю, стих до печали поспокойней. Печаль наполняла все ее тело, как раньше и ужас, только теперь холодно. Жужжанье птицы, неистощимая сладость квартета, портрет Элизабет обрели новые функции эмблем печали, к которой Фиби, сама того не сознавая, обратилась как к чистейшей надежде. Ей нечего было ждать; она попросту заново открыла то, что могла назвать «собой». Впервые приняла она свой недуг как действительность – ее действительность. Если болезнь ее означала печаль, она сама станет этой печалью, сохранит ее всю для себя, в остатках своего тела.
– Мой стан перебрался за море[56]56
Парафраз шотландской народной песни My Bonnie Lies over the Ocean.
[Закрыть], – пела она. И еще пела:
Он любовью нас возносит
Над собой на царский трон. —
Она улыбнулась от мысли о том, чтобы любить свою печаль, – это уж точно лучше, чем не любить вообще, чем вообще не любить себя? Жалость к себе оказалась первым шагом к душевному здравию. Только шаг – что дальше? Щеки Элизабет из слоновой кости и улыбающиеся ее руки вернулись на свои места. Фиби тоскливо вздохнула: – Моя Элизабет, хотелось бы мне поставить у ног твоих зажженные свечи. Мне теперь лучше. – Эссессо, – продолжала птица.
Луиза и Льюис поняли, что Фиби поправляется, когда она отпустила шуточку в духе того времени:
– Если бы Стелла Даллас вышла замуж за Роджера Мариса, ее бы знали как Стеллу Марис[57]57
Stella Dallas (1937) – драма американского кинорежиссера Кинга Видора по одноименному роману Олив Хиггинз Праути (1923); саму Стеллу Даллас (в девичестве Мартин) в нем сыграла Барбара Стэнвик. Роджер Юджин Марис (1934–1985) – американский профессиональный бейсболист. Stella maris (лат.) – морская звезда.
[Закрыть]. – В своей нескончаемой тени глаза Элизабет без зрачков стали для Фиби звездами.
Выздоравливала она медленно. За год расстройство нарушило нормальную работу ее легких, сердца и пищеварительной системы. У нее не осталось физических резервов, из которых можно было бы черпать. Врачи говорили о ее состоянии с оптимизмом и советовали еще недельку полежать в больнице.
Ей по-прежнему досаждали галлюцинации. В затемненной палате рокотали голоса – не ее и не птицы:
– …Кто она, кто на суше рождает море? Кто он, кто на суше рождает море? Кто она, кто освещает великие дни? – Эссессо, эссессо. – Кто он, кто пожирает? Где сапожник синий? – Эссессо. – Где красно-бело-синий сапожник?.. – Всерьез эти голоса Фиби не воспринимала. Даже птица теперь могла б улететь, и ее б не хватились, хотя Фиби часто благодарила ее за внимательность.
Фиби напоминала себе никогда не использовать свою печаль как отговорку для того, чтобы не действовать. Действовать же означало добиваться того, чего она хочет, а Фиби знала, чего хочет: счастья. Счастье требовало такого мира, в котором нет чудищ. Льюису она сказала:
– В темноте там что-то рыщет. Его не видишь, но доносятся эти ужасающие отзвуки, – и, даже еще не договорив, Фиби поняла, что просто рассказывает удобную сказку – предлог для того, чтобы сдаться. Некого ей было винить. Оуэна она попросила навестить ее. Она не позволит ему больше рыскать снаружи в темноте. Когда он ушел, Фиби подумала: «Так вот что такое небеса: житье вокруг нас, где никто не отставлен в сторону». – От такого распознавания ей стало радостно лишь как-то отдаленно, потому что у нее вновь начался жар. В самое пекло мертвого сезона она умудрилась простудиться.
Несколько ночей спустя ей явился еще один посетитель. Жар у нее спал и вернулся. Она лежала в темноте, облизывая пересохший рот и улыбаясь, когда вступало группетто альта:
Кто отступит, если струи
Утолят их жажду всласть?
Фиби осознала, что по одну сторону что-то светится и вроде бы раздается какой-то голос. Она выключила проигрыватель. Свечение исходило из единственной пустой стены ее палаты слева от нее, за окном. В середине там образовался хрустальный круг. Внутри этого круга стали возникать наложенные кольца кристаллического камня, освещенные голубоватым светом откуда-то позади них. Эти голубые кольца раскрывались внутрь, становясь ярче по мере того, как отступали через самосоздающуюся даль, сужавшуюся в сияние глубоко внутри скалы, – эту конечную точку Фиби воспринимала как чисто белую, слепящую и теплую. Пока она лежала, улыбаясь в этот чарующий свет, из дыры бесшумно вылетела птица. «Моя птица вновь заговорит со мной?» Сам этот ворон-сыч побелел. Он исчез среди теней палаты, а вновь возник уже внутри бело-голубого тоннеля – вновь летел к ней. Фиби снова услышала голос. Он звал ее по имени.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.