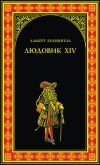Текст книги "Сигареты"
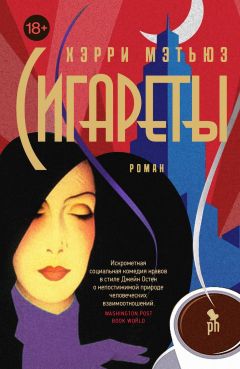
Автор книги: Хэрри Мэтью
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Войдя в квартиру, Оуэн насладился прохладой – снаружи температура заползла за девяносто[62]62
За 30 °C.
[Закрыть]. Аллан его приветствовал радушно, держа в одной руке джин-тоник, а другой помавая Оуэну, чтобы тот переместился к бару и налил себе сам.
– Черт, я как раз собирался вам звонить. Сегодня потчую вас я.
– Посмотрим.
Аллан вперился в Оуэна, пока тот что-то себе смешивал у стойки бара. Вид у Оуэна был серьезный и настороженный.
– В чем дело?
Оуэн повернулся к Аллану.
– Сюда я пришел под ложным предлогом. Вообще-то это деловой визит. Вздрогнем. – Он поднял стакан, полный позвякивающих кубиков.
– Чин-чин. Ну, делами мы много лет занимаемся – и не переходя на личности.
– Ага, рассказывайте. Это между нами.
– Servidor de usted[63]63
К вашим услугам (исп.).
[Закрыть].
– У вас есть картина, которую я бы хотел… приобрести, – портрет кисти Уолтера Трейла.
– Она наша с женой. – Аллан прошел мимо Оуэна к бару. – Могу вам сразу сказать: Мод ни за что не согласится продать.
– Немудрено. Я видел ее всего лишь раз в мастерской у Трейла, но могу сказать, она была особенная. Кстати, для начала – не мог бы я на нее взглянуть, как вы считаете?
– Устроить это может оказаться нелегко.
– Когда ж лучше, как не сейчас.
– В смысле – здесь? Мы б ни за что не стали держать что-то подобное в городе. От силы пару литографий – отметить, где у нас стены, вот, пожалуй, и все.
– А вот это что? Я до сих пор не отличаю Китай от Японии. Можно мне будет увидеть портрет, когда я вернусь на север штата?
– Оуэн, – произнес Аллан с мягкой укоризной, – вам Айрин сказала, что картину украли? – И еще он спросил: – А саму Элизабет вы не знаете, правда?
Голос Аллана намекал, что вопрос этот ему важен; Оуэн не мог никак сопоставить его с тем, что знал. Он спросил:
– Так что же произошло?
– Что же произошло с чем?
– Как ее украли?
– Откуда я знаю как… – Аллан был не прочь поиграть в такие игры.
– Ну и как вы с этим поступили? Полиция? Частные сыщики? Кто ваш страховщик?
– А что, по-вашему, мне следует сделать? Кражи искусства – штука хитрая.
– Айрин удивило, когда вы у нее спросили о страховке галереи.
– Так вы здесь поэтому – опять из-за Айрин? Ей-то какое дело?
– Айрин никакого отношения к моему визиту не имеет.
– Тогда вам какое дело?
– Я же вам сказал. Надеюсь завладеть этой картиной.
– Но это даже не… – Аллан умолк. На что это Оуэн намекает? Но взгляд свой тот не спускал с него, глядел не дружелюбно, но и не враждебно. – Вы б не желали обсудить это за ужином? Мне джин действует на пустой желудок.
– Много времени это не займет. – Оуэн сел, скрестив ноги, а стакан поставил на пол рядом. Лицом к нему Аллан оперся о стену. Оуэн его раздражал.
– Вы б не могли мне сообщить, почему мы об этом разговариваем?
– Мог бы. Думаю, вы сделали ошибку. Выдали себя. Вы хотите, чтобы за картину заплатила своей страховкой галерея.
Аллану вдруг захотелось рассмеяться; сказал же он только:
– Ничего себе!
– Я не шучу.
– Да нет. – Аллан не сумел подавить ухмылку. Помолчал. – Даже не знаю, с чего начать.
– С любого места. Никакой разницы это не составит.
– Я даже не знаю, кто страхует галерею, – вероятно, вы это знаете. Я просто задал Айрин один вопрос. Это не значит, что я строю планы. Меня вот что потешает, – продолжал Аллан, – вы обвиняете меня в том, как сами себе состояние сделали. Все свои требования доводите до предела.
– Вот именно. Но лишь против одного страховщика по каждому требованию. – Оуэн мысленно скрестил пальцы, вспомнив Нью-Лондон. Подумал: не следовало мне рассказывать тем людям о Нью-Лондоне.
– Я не выдвигал никаких требований. Картина наверняка всплывет. Если окажется достаточно дешевой, мы сами ее купим повторно, – а так, вероятно, и окажется. – Аллан с растущей уверенностью посмотрел сверху вниз на своего гостя. – Если укравшим ее захочется поторговаться, не повредит втянуть в это и галерею. Потому-то я и звонил Айрин.
Оуэн не стал напирать на Аллана, поскольку держал козырный туз. Тем не менее в угол он своего собеседника загнал. Аллан решил, что выиграл: об этом свидетельствовала румяная уверенность у него на лице. Оуэна он некогда опасался; боязнь его оказалась безосновательна. Если на сей раз тот нападал на него в открытую, Аллан оставался так же невинен, как и когда выписывал полис Моррису. Помимо своей воли Аллан выказал Оуэну легкое презрение за то, что тот настолько ошибается.
Вот тут отношение Оуэна изменилось. Он рассчитывал столкнуться с коллегой, у которого есть профессиональные нарушения. Сами эти нарушения будоражили его сильнее, чем собственное отношение к ним, и он лишь рассчитывал показать Аллану, что, хоть тот и хитер, Оуэн хитрее. Он воображал, что портрет желает лишь как уловку: поначалу как «серьезный» предлог, а затем – как позицию, с которой давить на своего противника. Теперь же Оуэн поймал себя на том, что всерьез думает, не забрать ли портрет себе.
Он начал ощущать потребность не только перехитрить Аллана. Перед ним был богатый уважаемый коллега, много лет обводивший вокруг пальца систему, которой, по его же утверждениям, служил, и он-то теперь и стоял перед Оуэном, сияя уверенностью, потому что ему все снова сошло с рук. Оуэн сердито отмахнулся от своего начального намерения просто утереть нос Аллану: на кону стояли ценности. Он вовсе не сомневался, что нравственно пригоден назначить то наказание, какого Аллан заслуживал.
– Вы это только что придумали. Я вам не верю. Знаете почему?
– Нет, и мне было б весьма интересно…
– Я изучал вашу карьеру, – перебил его Оуэн, – и я не о ваших легитимных достижениях – в них-то я как раз не сомневаюсь. Я имею в виду – это я и выяснил, – что вы хронический жулик… – Оуэн говорил достаточно быстро, чтобы его не смогли прервать возражениями, – …и в этом деле чертовски везучий притом. Но, насколько мне это видится, у вас есть одна загвоздка. Жулик, родившийся и выросший в бедности, знает, что если он проиграет – потеряет все. А вот тот, у кого ваши тепленькие тылы, ощущает полную безопасность – и начинает думать, что ему на самом деле безопасно. Забывает о рисках. Совершает ошибки. Вроде звонка Айрин.
Если Аллан и удивился, то виду не показал.
– Оуэн, скажите мне прямо, что вы задумали. То, что, по вашему мнению, я совершил, тянет на недоразумение. Или, возможно, на ваше толкование того, что я действительно сделал. В чем смысл?
– Три названия – показать вам, что мне известно. И не обманывайте себя – я буду знать, что вы знаете, что я знаю. В хронологическом порядке: винодельни «Кайзер», шахта «Уотлинг», «Вико Хаззард».
Через несколько секунд, не шевельнувшись там, где стоял, заложив руки за спину, Аллан ответил:
– Кто спорит? Конечно, то были ошибки. Но почему ж я? В том участвовало и много других.
– То были ошибки, и совершили их не вы. Вы позволили сделать их другим. Вы им это советовали.
– Я все время советую. Таково одно из моих занятий, сами же знаете. А у вас все советы были идеальны? Мой средний балл достаточно неплох – где-то девять пятьдесят.
– Ну еще бы. Помните «Ранчо Круг Си»?[64]64
Американские ранчо часто именовались той или иной латинской буквой в геометрической фигуре в соответствии с тавром, каким хозяин метил свою скотину.
[Закрыть] Они хотели, чтоб вы им удвоили общую сумму рисков по страхованию стада. Прежде чем их рекомендовать, вы убедились, что в о́круге бруцеллеза не было тридцать лет. Сделали свою работу. Как мог кто-то вроде вас не знать, что «Вико Хаззард» плывет порожняком? Зачем вам было связываться с такими никчемными конторами, как «Кайзер» или «Уотлинг», если не…
– Послушайте, – перебил его Аллан, – расследование там провели.
– И оно не все было в розах. Я знаю, вы-то прикрылись – вы же выступали всего лишь советником. А мы все чересчур заняты, так что прошлое нас никогда слишком уж не заботит. Но я-то вас раскусил, дружище. – Аллан безмолвствовал. Оуэн добавил: – Неинтересно мне устраивать вам неприятности, вот правда. С чего бы? Я просто хочу этот портрет Элизабет. И нет, мне кажется, я ее не знаю. Возможно, мы встречались до войны.
От упоминания Элизабет Аллану стало тошно. Еще две недели назад она была его; по крайней мере, он был ее. Он наплевал на ее чувства, выставив ей напоказ свою нечестность. Возможно, она за себя отомстила, рассказав не Мод, а Оуэну то, что узнала об Аллане. Он спросил:
– Так вам известно о лошади?
В единственный раз за тот вечер Оуэн смешался.
– У Элизабет есть лошадь?
– Да не та лошадь, – раздраженно ответил Аллан. – О портрете вам лучше у вора спрашивать.
– Именно это я и делаю.
С чего это Оуэна так беспокоит эта «кража»? До сегодняшнего вечера Аллан и думать забыл о той истории, какую он сочинил для Айрин.
– Хотите сказать, что это я украл картину?
– Слушайте, я и сам уже проголодался. Мое вам предложение. Если нахожу картину – оставляю ее себе. И обещаю никому об этом не рассказывать.
Аллан все еще не понимал. Оуэн допил стакан, в котором лед уже растаял, встал и вышел в кухню. Аллан услышал, как по плиткам пола тянут подрамник.
– Мне развернуть или мне на слово поверите?
Аллан утратил самообладание. Двадцать минут Оуэн готовился выставить его дураком – знал, что портрет здесь, и не выдавал этого знания.
– Вам лучше отсюда убраться.
– Вы правы. Оставьте картину завтра где-нибудь внизу, ладно? Я пришлю за ней человека. Если только не предпочитаете, чтобы я забрал ее сейчас.
– Шутник. Убирайтесь отсюда к черту.
– Ладлэм, я понимаю, каково вам. Вам бы лучше уже начать понимать, каково мне. У меня нет интереса сбивать вас на лету. Пакость получится, а кое-какое ваше говнишко может налипнуть и на меня. Как бы там ни было, я не полиция. Мне до лампочки, как вы себя поведете. Но я вас могу прижать – и прижму, если мне придется, потому что я против одного: всякий раз, когда мы выходим выступать за кого-нибудь из ваших убогих клиентов, на кон мы ставим свою репутацию и свои деньги. Я свою задницу под удар подставлял из-за вас. Возможно, вам никогда и не придется выплачивать свой долг обществу, как говорится, но мне-то вы его уж точно уплатите. У меня вы легко отделаетесь – всего одной картиной.
В этот миг Аллан и вспомнил поджаренный рогалик. Он заговорил быстро, не успело смятенье просочиться в его голос:
– Оуэн, история о том, что портрет украден, – это замысловатая семейная шутка.
– И что с того?
– Это то, что мы…
– То была моя шутка. А я говорю о вашей репутации. И насчет нее я не шучу, как вы, надеюсь, осознаёте.
Аллан сдался. Проигрывать он терпеть не мог; он бы очень не хотел проиграть; он не видел, как тут можно было бы поступить, чтоб избежать проигрыша. В кои-то веки сообразительность подвела его: колесо рулетки было подправлено женщиной, в которой он ни на миг не сомневался. Сейчас больше всего на свете ему хотелось, чтобы Оуэн убрался из его квартиры. Он согласился на цену:
– Оставлю ее у парадной двери по пути в контору.
– Идеально. – Оуэн улыбнулся. – Ну а теперь как насчет ужина? Нет? Тогда я пойду. Мне только хотелось бы спросить у вас одно. Я задавался этим вопросом с тех самых пор, как заинтересовался вами, – вероятно, поэтому-то вами я и заинтересовался. – Аллан не сводил глаз с бара. Оуэн договорил: – Как вышло, что вы этим занялись?
И стал терпеливо ждать ответа. Немного погодя Аллан поднял взгляд.
– Потому что они придурки.
– Кто?
– Все. Возможно, вы к ним не относитесь, – поспешно добавил Аллан. – А большинство остальных – относится. Они так преуспевают, зашибают столько денег, у них жены от Пуччи[65]65
Эмилио Пуччи, маркиз ди Барсенто (1914–1992) – итальянский модельер и дизайнер, политик.
[Закрыть], коттеджи на пляже и односолодовый виски, но при этом ни малейшего понятия, к чему все это. Они даже не знают, что можно что-то знать. Бараны.
– А вы – нет.
– Вам, кажется, нравится играть в игры. Надо ли объяснять?
– Мне просто хотелось знать. Это ответ. А вот и намек: поскольку бараны мы не все, вам надо быть готовым к тому, чтобы позволять другим поступать с вами так же, как вам бы хотелось, чтобы они позволяли вам поступать с ними, – кажется, я ничего не перепутал. – Аллан вновь погрузился в молчание. – Послушайте, для протокола нам понадобятся документы на продажу. Давайте цену обозначим на две тысячи ниже того, что это стоило вам. Вам выйдет скидка – небольшая, но тут что угодно пойдет на пользу.
В дверях Оуэн оглянулся; Аллан пялился в окно на клочок почвы четырнадцатью этажами ниже, с ковер величиной, где в жаркой вечной тени чахли форсайтия и три вечнозеленых кустика.
– Знаете, Аллан, вам ничего не нужно было доказывать. Вы мужик лучше, чем вам кажется.
Снаружи он вступил в удушливую городскую ночь. Год назад Фиби сообщила о первых признаках своей болезни, и в то время от такого известия ему действительно стало легче.
Аллан же вовсе не считал себя мужиком, скорее – маленьким мальчиком, кто продирается во сне сквозь какое-то дурацкое детское невезение. Он презирал себя за то, что так малодушно уступил. Почему он переживает такое униженье из-за какой-то картины и раздутого общественного оценщика? Что произошло? Он еле заглянул в банку с печеньем, а буфеты в кладовке вокруг него уже обрушились. Айрин он позвонил и сказал ей свою враку, рассчитывая, что она передаст ее Мод; та пришла бы в ужас – либо из-за того, что поверила бы, либо потому, что знала бы, что он соврал; как бы там ни было, она бы кинулась на него, и он бы сумел возобновить свою жизнь с нею. Уловка эта напоминала иные детские злоключения, податливее, – он пускался в них, дабы вновь обратить на себя материно внимание. Своего добиться можно было бы, «потеряв» новый ботинок. Его бранили б и наказывали, но уже не забывали. На сей раз, однако, нежданно-негаданно явился детектив из обувного магазина и пригрозил бросить его в темницу. Бессмыслица какая-то.
Однако сила его несчастья была объяснима. А тошнило его, вжимало яички ему в нутро, как будто он перегнулся за перила пентхауса на крыше небоскреба, от воспоминания о Шпильках. Ее обман он бы мог оправдать (едва ли она предвидела его последствия); но вот вытерпеть то, что за ночь с нею он должен благодарить Оуэна, никак не мог. Мысль эта возмущала его всего – даже гнев у него в груди. Жаль, что он не может ей позвонить. Она б над ним сжалилась. У нее не было причин его презирать – сильнее, чем он сам себя презирал. Он чувствовал, что не способен даже заговорить с нею.
Мод, Элизабет, Шпильки – утрачены за один июль.
Аллан рассчитывал, что его гнев на Оуэна вернется с силой, будет прибывать и затапливать его не один день, даже не одну неделю. Опозорили его слишком открыто, чтобы не возненавидеть нападавшего. Тем не менее гневу его недоставало ясной ярости отместки или нравственного негодования, и Аллан, сам не замечая этого, вскоре примирился со своим противником. Оуэн обрушился на него без предупреждения, как стихийное бедствие, безлико и случайно (Аллан так и не увидел ошибки в том, что написал ему благодарственное письмо); и Оуэн понемногу облекся личиной былого ангела мщения, сказочного возмездия, буки, карикатуры, в которой даже сам Аллан подсознательно узнавал собственное измышление. В то же время Оуэн в жизни как настоящий деловой человек принял совершенно иную, хоть и дополнительную роль той публики, которой зрелищным аферам Аллана никогда не хватало.
Именно Оуэн под своей двойной личиной пугала и свидетеля наконец-то позволил Аллану отказаться от его преступной карьеры. Пугало напоминало ему о рисках, которым он подвергается; свидетель – о том, что признание ему больше не нужно. Мерин, уничтоженный восемнадцатого числа того же месяца, знаменовал конец тайной жизни Аллана. Впоследствии выпадали и другие возможности: неурожай на незасеянных землях, компьютерные «ошибки», состряпанные банком. В каждом таком случае Аллана останавливала незримая фигура у него в квартире – сидела лицом к нему, а в стакане таял лед. Непредвзятый наблюдатель мог бы заключить, что Аллан призвал Оуэна в свою жизнь именно для этого.
В тот вечер, однако, Аллану хотелось лишь изгнать Оуэна из своих мыслей, предпочтительно – убийством, имеющим обратную силу. Он остался дома, убежденный, что в любом другом месте ему будет только хуже. На ужин сделал себе завтрашний завтрак: яичницу, тост, чай. Ни сцены землетрясения в Македонии[66]66
Имеется в виду землетрясение в Скопье 26 июля 1963 г. силой 6,1 балла, в результате которого почти весь город был разрушен.
[Закрыть], ни «Шоу Джека Паара»[67]67
Джек Херолд Паар (1918–2004) – американский теле– и радиоведущий, писатель, киноактер и комический артист. Программа «Сегодня вечером с Джеком Пааром» (Tonight Starring Jack Paar или The Jack Paar Tonight Show) транслируется сетью Эн-би-си с 1957 г. Музыкальными позывными программы была инструментальная версия песни Джули Стайна и Стивена Сондхайма «Все будет в розах» (Everything’s Coming Up Roses) из оперетты «Цыганка» (Gypsy, 1959).
[Закрыть] не утолили его уныния. Спать он лег рано – с кое-какими журналами, но даже не выпив на сон грядущий.
Льюис и Моррис
Сентябрь 1962 – май 1963
Моррис познакомился с Льюисом у Уолтера Трейла меньше чем за год до своей смерти.
Закончив колледж, Льюис уже полтора года жил с родителями; вернее сказать, жил он с Луизой, а Оуэн всеми силами старался его игнорировать. Хотя Льюис едва ли чувствовал себя в своей тарелке с Луизой, та за ним ухаживала и прощала его дурные настроения. Льюису почти ни с кем не бывало легко. У него было мало друзей и того пола, и другого, и он не прикладывал усилий к тому, чтобы сохранять даже тех, кто был.
Любил он Фиби – и доверял ей. Их отец всегда предпочитал ее, она преуспевала там, где он претерпевал; ее абсолютная ему верность предотвращала любую обиду. Она была на три года младше Льюиса и служила ему опорой. В его скучные месяцы дома Фиби никогда не спрашивала его: «Чем занимаешься? А чем собираешься заняться?» У Льюиса имелись ответы на такие вопросы; он сам знал, что они не больше позорного вранья. Не занимался он ничем – и не знал, чем вообще когда-нибудь займется.
Льюис – кто угодно, но не тупица – страдал от избытка сбитого с панталыку ума; он умел в считаные секунды блистательно унизить собственное достоинство. Разбирался в литературе, искусстве, театре, истории, и знания его превосходили уровень, какой обычно предоставляет колледж. Знание его ни к чему не вело – уж точно не в тот мир, где предполагалось, что он станет зарабатывать себе на жизнь. Однажды Льюис устроился на работу в книжную лавку своей школы, потому что ему нравилось возиться с книгами, и он с нетерпением ждал возможности погрузиться в них целиком. Тогда его проинструктировали тщательно вести учет товара, который с тем же успехом мог бы оказаться и консервированной фасолью. Вскоре он утратил интерес к такой несложной задаче, ему не удалось овладеть этим навыком, и через три дня работу он бросил. Восемь лет спустя он по-прежнему оставался убежден в том, что способностей ему не хватает. Друзья по колледжу, знакомые с его вкусами, предлагали, бывало, скромные подходы, с каких можно было бы начать: подсказывали вакансии рецензентов в издательских домах, мальчиков на побегушках при театральных постановках, смотрителей в галереях. Все их Льюис отвергал. Пусть и видел он, что они могут привести к чему-то более великому, сейчас казалось, что они и ниже его, и выше, – вновь все тот же книжный магазин. Другие приятели, поступившие в магистратуру, навязывали ему свой выбор. Льюис питал тягостное презрение к цеху ученых – те казались такими же неприспособленными к миру, как и он сам. Он оставался отчаявшимся, одиноким и избалованным.
Во вторую его осень дома в журнале по искусству, называвшемся «Новые миры», он прочел статью Морриса Ромсена о живописи Уолтера Трейла. Эту статью брату порекомендовала Фиби, работавшая у Уолтера с февраля. Льюис принял прочитанное близко к сердцу по причинам, не имевшим ничего общего с Уолтером.
Свою статью Моррис начинал так: «Рыба гниет с головы; в живописи гниение начинается с самой идеи Искусства». Льюис не понял этих слов. Они пронеслись через весь его ум, словно рука, сердито смахивающая со стола беспорядок. Читая дальше, он не мог сказать, освещают ли заявления Морриса сам предмет его изображения; он точно знал, что они просвещают его.
У Льюиса имелись мимолетные грезы о писательстве, но вскоре он к ним утратил доверие и забросил. А Моррис показывал ему, чего можно добиться письмом. Он выдвигал понятие о том, что творение начинается, лишь когда устранены типичные формы и процессы, особенно иллюзорная «естественность» порядка и связности. Моррис это не просто заявлял – он это демонстрировал. Свой очерк он превратил в минное поле, которое взрывалось по мере того, как ты его переходил. Вновь и вновь ты оказывался на почве, которую не выбирал, тебя сдергивало от семантики к психоанализу, а потом из эпистемологии в политику. Такие смещенья казались отнюдь не взбалмошными, а укорененными в некоем сокрытом и убедительном законе, целью своею имевшем непрестанно возвращать читателя к изображаемому предмету наново. Льюис не мог объяснить этого воздействия – или почему статья так его тронула. Когда он ее перечитал, всеми силами стараясь к ней придираться, словно робкий и недоверчивый отец тыкает в своего новорожденного ребенка, первый его отклик сохранился, а возражения развеялись. Он в конце концов обнаружил на свете такое, чем стоит заниматься.
Льюис не стал рассказывать Фиби о своем решении стать писателем; он ее поставил об этом в известность письмом. Говоря с родителями об этом новом своем увлечении, он особо не напирал на то, о чем говорил, и восторженностью своей уравновесить невнятность не смог. Луиза смешалась, Оуэну стало противно (он что, рассчитывает, что они вечно будут его содержать?). Льюису хотелось, чтоб Фиби поняла его наверняка: статья Морриса ему предоставила никак не меньше надежды на спасение.
Бремя мое – обособленность и отягощенный ум. Теперь же первое я могу применить, а второе изгнать. Мастерской моей будет одиночество. Тем, что я создаю там, пользоваться станут другие, в своих одиночествах – удаленное сообщество умов. Я стану брать слова, жужжащие у меня в голове, и претворять их в настоящее – делать из них то, что лупит или голубит, озадачивает или исчезает. Вот что я действительно могу. Оно невелико – врачи полезнее, актерам лучше удается выражать что-либо, – но педрилам не до жиру. Прежде читать было лучше, чем не вставать с постели, но как то, что я читаю, оказывается написанным, – причудливей, чем Линейное письмо А. Но вот входит Моррис Ромсен и – хренак!
Фиби спросила, не хотел бы он познакомиться с автором. Она б легко могла это устроить. (Уже болея, ради Льюиса она бы каталась голой по снегу.) Перед следующей вечеринкой у Уолтера, зная, что ожидают Морриса, она спросила хозяина, можно ли ей пригласить своего старшего брата. Льюис возрадовался; идти отказался; пришел.
На вечеринку, состоявшуюся вечером первого ноября, собралось почти полсотни гостей. Фиби упомянула Льюиса Моррису и процитировала один-два пассажа из его письма. Когда явился Льюис, она его предупредила, что Моррис может держаться отчужденно; Льюис должен его за это простить. Также она сообщила Льюису, что Моррис страдает от «сердечного заболевания, как теперь называют неминуемую смерть».
– Но он же такой молодой. У него поэтому такой печальный вид?
– У него это с двадцати трех лет. И нет, по-моему.
Моррис Льюиса удивил – и отнюдь не своей отчужденностью. Скверное мнение Льюиса о самом себе вынуждало его ожидать худшего, а особенно – теперь, больше прежнего: если сделанный выбор писать воодушевлял его, само по себе письмо жизнь ему только испортило. После волнующего промелька свободы он оказался по-прежнему в капкане – между жалеющей матерью и раздражительным отцом. Он сочинил немного стихов, разом и манерных, и незрелых, и завел слезливый ежедневник, который едва ли мог считаться «дневником». От Морриса он в лучшем случае ожидал принятия той запинчивой хвалы, что и составляла все его подношенье.
Поскольку Фиби ему нравилась, Моррис был благоприятно расположен и к Льюису. Какую б отчужденность ни выказывал он, происходила та целиком из его сексуальной осмотрительности. Он не доверял собственным причудливым наклонностям, особенно – с человеком моложе, о чьих предпочтениях ничего не знал. Он открыто приветствовал восхищение Льюиса, а Льюис с изумлением поймал себя на том, что не заикается, а беседует с ним почти самопроизвольно.
Стояли они под портретом Элизабет. Льюис сказал:
– Из того, что вы написали, я воображал другое. Может, именно этого вы хотели?
– Вот как?
– Нет? Я-то понял что-то вроде: никто на самом деле не способен описать ничего. Поэтому вы делаете вид, будто описываете, – применяете слова для того, чтобы создать фальшивую копию. Затем нас поглощают слова, а не иллюзия описания. Кроме того, вы гасите отклики, которые могут нам мешать. Поэтому, когда мы смотрим на картину, в ней нет того, чего мы ожидали, – никаких ваших фальшивых слов, никаких наших фальшивых откликов: нам приходится видеть ее на ее собственных условиях?
– Не дурно. Так в чем смысл?
– Смысл, смысл… в том, что́ на самом деле там есть? Вы саму вещь оставляете нетронутой, давая нам то, чего там нет?..
– Обещаете никому не рассказывать? Они этого не поймут.
– Я тоже не понимаю – я лишь гадаю. То есть в том, что вы говорите, есть нечто дикое. Как вам вот такое: «Наши первоначальные небеса – это бурное небо влагалища»?
– Снова то же самое. – Моррис показал на портрет. – Вообразите, что пишете об этом рте. Даже если оставите описание абстрактным – вроде «розовато-лиловая горизонталь», – люди все равно станут смотреть и твердить себе: невероятный рот, такой розовато-лиловый, такой горизонтальный. А горизонтальность означает это, а розовато-лиловость – что-то совсем другое. Прощайте, мисс Рот. «Бурное небо» избавляется от влагалища, и наоборот, пусть даже слова на месте и делают то, что там полагается словам. Конечно, большинство людей даже шрифта не видит.
– И что же с ними?
– Кто знает? Это не мир, а тусклый бред. Льюис, вы себя берегите. Одного этого хватит на всю жизнь, какой бы короткой та ни была.
Моррис назвал его по имени; Льюис этого даже не заметил. С самого детства – уж точно с рождения Фиби – ни разу не забывал он о собственных чувствах. Никогда не встречал он никого такого, как Моррис, чей самоуверенный талант маскировался внимательностью, а обреченное сердце – смущающей внешней привлекательностью. Льюис не ожидал, что Моррис окажется прекрасен. Он не собирался его любить.
Позже они поговорили еще. Моррис совершал свои обходы; Льюис за ним наблюдал. Он не думал о себе и оттого держался легче, стал приятнее в общении. Моррис предложил на следующей неделе пообедать. Льюис безмолвно отложил свое возвращение домой и согласился.
– Вероятно, вы не одобрите, – сказал Моррис ему при расставании, – но я с одним другом затеваю дело. Буду покупать и продавать картины.
– Галерея?
– Из собственной квартиры.
Льюис удивился. Не одобрил. На обеде так и сказал:
– С вашей-то репутацией? Скажут, что вы рекламируете. Подумайте, какой у вас сейчас авторитет. Он же бесценен.
– Может и наоборот выйти. Я вкладываю во что-то деньги, мое мнение стоит гораздо больше.
– Но что же тогда будет с вашими мнениями? Разве произведение искусства не станет выглядеть иначе, когда вы в него вложитесь? Даже Беренсон…[68]68
Бернард Беренсон (Бернхард Вальвроженский, 1865–1959) – американский художественный критик и историк искусства.
[Закрыть]
– Даже? Станьте моим Дювином![69]69
Сэр Джозеф Дювин, 1-й барон Дювин (1869–1939) – британский торговец произведениями искусства.
[Закрыть] Он-то знал, что делал, – и я это знаю. Мне бы хотелось для разнообразия покупать не в центре города. И я был бы не прочь собрать чуточку и для себя.
– С вашим глазом? Да это же раз плюнуть.
– Льюис, мило с вашей стороны принимать это так близко к сердцу, но. Послушайте: там плещутся просто океаны денег. Мне же лишь пляжное ведерко нужно.
– Я знаю. И вы правы, мне не все равно. Есть способ получше.
– Имеете в виду, – произнес Моррис, обводя своим поблескивающим «мюскаде» длинный бар, полный дымного солнца, – что можно иметь и икру, и чистую совесть?
– Вся загвоздка в том, чтобы продать. Вот где компромисс. Но если вы покупаете…
– И не продаю? Хотите заплатить за обед?
– С удовольствием. Я предлагаю советовать покупателям. Повсюду здесь десятки богатых людей, кому хочется владеть новым искусством. Это новейший билет к чему бы то ни было. Кроме того, им хочется выглядеть оригиналами и чтоб задешево, но знают они лишь то, что вычитывают в журналах, а это не новости. Значит, вы им подыскиваете художников на подъеме. Помогаете покупателям, помогаете художникам, помогаете себе – с каждого приобретения получаете комиссию. Вам не нужно самому заключать сделки. Не нужно спекулировать собственными средствами. Никакого соблазна что-то рекламировать.
– Людям хочется тех работ, каких хотят другие, и я для этого им не нужен. Знаете каких-нибудь рьяных покупателей неведомого? Одного-двух хотя бы…
– У меня их восемь. – Льюис развернул отпечатанный на машинке список и прочел его вслух. Имена он выманил у Луизы. – Я разговаривал с тремя – с Доуэллами, с Либерменами и с Платтами. Платты опасливы. Остальные вроде бы заинтересованы.
– Рветесь к скауту-орлу[70]70
Скаут-орел – бойскаут первой ступени, набравший по всем видам зачетов не менее 21 очка и получивший по результатам высшую степень отличия.
[Закрыть], мальчик? Я-то знаю, вы это просто любезны, но некоторые заподозрили бы в вас тайного шмака.
– Но вы же знаете, что я могу вам доверять.
Моррис забрал список и оставил счет. Льюис ему нравился. С ним Моррис держался снисходительно, поскольку ему самому было двадцать восемь, а Льюису – двадцать три, и для своих лет он выглядел молодо. Морриса непреодолимо тянуло осечь энтузиазм юноши и сделать это нарочито жестко. От жесткости Моррису было приятно. Льюис с готовностью покорился. Такое отношение дарило наслажденье ему. Моррис умудрился этого не заметить. Несмотря на всю свою опытность, он все ж колебался и не мог поверить, будто кто-то искренне способен наслаждаться наказанием, собственную тягу наказывать все же считал извращенной.
Льюис знал лишь одно: он безусловно примет все, что бы Моррис ни сказал и ни сделал. Он наслаждался пренебреженьем Морриса. Наблюдать, как друг его сует список в карман, тронуло Льюиса больше любой благодарности. Он не догадывался, что Моррис, заинтересовавшись его предложением, не имел ни малейшего намерения отказываться от своего первоначального плана; знай он это – восхитился бы такому двуличию.
Льюис тщательно собирал случайные замечания Морриса о писательстве и, вернувшись домой, некоторые пробовал на практике. Моррис рекомендовал подражание – вещь полезную настолько же, насколько немодную. Выберите модель, говорил он, и копируйте ее. У модели будут содержание, форма и стиль. Можете имитировать все три; можете имитировать одно или другое; вероятно, вам не удастся воспроизвести никакое, и неспособность эта покажет вам, что́ вы умеете и что́ обычно и так делаете. Вы начнете открывать в себе свою собственную гениальность. Своими моделями Льюис выбрал стихотворение Уоллеса Стивенза, рассказ Генри Джеймза, очерк Уильяма Эмпсона[71]71
Уоллес Стивенз (1879–1955) – американский поэт-модернист. Хенри Джеймз (1843–1916) – американо-британский писатель, ключевая фигура в переходе от реализма к модернизму. Сэр Уильям Эмпсон (1906–1984) – британский литературный критик и поэт.
[Закрыть]. Зверски трудно ему было, и он этим наслаждался: работа не подпускала праздность, и он был полон мыслей о своем новом друге.
Три недели спустя они с Моррисом кратко увиделись. Выпили мартини в баре рядом с Пятой авеню, который назывался «Паб Майкла»[72]72
Michael’s Pub – джазовый бар и ресторан в Нью-Йорке, знаменитый среди прочего тем, что в нем на кларнете 25 лет играл Вуди Аллен – до его закрытия в 1996 г.
[Закрыть]. Льюис сообщил о своих попытках следовать совету Морриса в письме.
– Совету? Да я это вычитал в «Мадемуазель»[73]73
Mademoiselle (1935–2001) – американский женский журнал.
[Закрыть], – воскликнул тот. Ответный укол, посчитал Льюис, проявил самую суть Морриса.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.