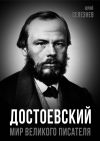Текст книги "Последний год Достоевского"
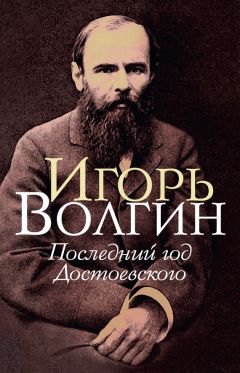
Автор книги: Игорь Волгин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц)
Удивительно: Толстой оставляет без всякого внимания те нравственные изъяны обсуждаемого лица, на которые с горестью указывает Страхов. Он говорит о другом. О том, что нельзя принимать за образец («ставить на памятник») человека, находящегося в процессе внутренней борьбы. То есть, по мнению Толстого, «памятника» (или звания святого) заслуживает лишь тот, в ком этот процесс уже завершился, – безусловной победой добра, чьё мировоззрение целостно и неколебимо и кто в этом отношении может служить примером для других. В общем, «в идеале» это скорее всего сам Толстой. Или – тот, кем он желал бы быть.
Толстой говорит, что есть прекрасные на вид лошади – «красавица, рысак, цена 1000 р., и вдруг заминка, и лошади-красавице, и силачу грош цена. Чем больше живу, тем больше люблю людей без заминки». Рысак с указанным недостатком – «да никуда на нём не уедешь, если ещё не завезёт в канаву». Достоевский – «с заминкой», в отличие, например, от Тургенева, который «переживёт» Достоевского: «И не за художественность, а за то, что без заминки».
Сравнение писателей с лошадьми, конечно, очень впечатляет. Оно вполне в духе автора «Холстомера». Но что имеет в виду Толстой под «заминкой», способной опрокинуть незадачливого ездока (то есть читателя: здесь имеется в виду именно он) в гипотетическую канаву? Ну конечно, всё ту же неясность, нецельность, непоследовательность (как это представляется автору «Исповеди») мировоззрения. И, может быть, некоторую непрямоту, изощрённость художественного языка, дающего искусительную возможность разных толкований. Толстому – и как художнику, и как мыслителю – хотелось бы избежать этих «заминок». Он предпочитает, чтобы «рысак» мерно двигался к уже обозначенной цели – без каких-либо остановок, плутаний и отвлечений.
Но ещё интереснее, что Толстой, «почти» согласившись со Страховым, делает при этом собственный вывод.
«Из книги вашей я в первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умён и настоящий. И я всё так же жалею, что не знал его»[498]498
Л. Н. Толстой – Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 655.
[Закрыть].
«Из книги вашей», – говорит Толстой. То есть из присланной ему «Биографии…», где впервые был напечатан большой массив писем Достоевского. Отсюда – понятие о «мере его ума», которого, впрочем, не отрицает и Страхов. Но Толстой произносит главное для него слово: «настоящий». Достоевский (несмотря на «заминку»!) – настоящий: а ведь как раз это Страхов и пытался опровергнуть.
Но нет ли у нас оснований подозревать, что ещё при жизни Достоевского Страхов, беседуя с Толстым, отзывался о своём старом знакомце в весьма неодобрительных тонах?
Такие основания есть.
Страхов едва ли не единственный общий знакомый Толстого и Достоевского, достаточно близкий к ним обоим. И поэтому – наиболее «компетентный» информатор. Правда, в его многочисленных письмах к хозяину Ясной Поляны, написанных ещё при жизни Достоевского, нет ни одной сколько-нибудь подробной характеристики того, кто, конечно же, не мог не интересовать Толстого.
Это выглядит странным.
Между тем Страхова можно понять: он не желает оставлять документ. Он не исключает возможности, что оба писателя ещё могут встретиться (исторической нелепостью выглядит тот факт, что великие современники не были знакомы, тем более что каждый из них знаком почти со всеми крупными писателями своего времени: Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Островским, Григоровичем…).
При жизни Достоевского Страхов избегает письменных оценок. Но одна вырвавшаяся у него фраза (мы приводили её выше: «Я Тургенева и Достоевского – простите меня – не считаю людьми…») говорит о многом.
Она свидетельствует прежде всего о разговорах, которые велись между Толстым и Страховым, когда последний бывал в Ясной Поляне (иначе фраза эта кажется немотивированной и неуместной). Страхов лишь повторяет то, о чём он говорил Толстому устно. И его письмо 1883 года является развитием (и на сей раз документальной – «для потомства» – фиксацией) уже прежде высказанных суждений.
В этой связи возникает ещё одно подозрение.
Ещё одно обвинение против Страхова
10 марта 1878 года, возвращаясь с лекции входившего в силу молодого Владимира Соловьёва (это была седьмая из цикла в одиннадцать лекций – «Чтения о Богочеловечестве»), Достоевский, как вспоминает Анна Григорьевна, спросил её:
«– А не заметила ты, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич (Страхов)? И сам не подошёл, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?
– Да и мне показалось, будто он нас избегал, – ответила я. – Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: “Не забудьте воскресенья”, – он ответил: “Ваш гость”».
Итак, необычное поведение Николая Николаевича отмечено обоими супругами.
«Меня несколько тревожило, – продолжает Анна Григорьевна, – не сказала ли я, по моей стремительности, что-нибудь обидного для нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу»[499]499
Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 319.
[Закрыть].
Анна Григорьевна воистину преданная супруга. Она отводит от мужа любые ретроспективные подозрения. Это, видите ли, она могла чем-то обидеть Страхова: глава семьи на это не способен. Он дорожит своим собеседником. Однако не обольщается при этом относительно возможности удержать его подле себя исключительно духовными узами: их следует подкреплять хорошим столом[500]500
Мы не рискнули бы попрекать Страхова чужим хлебом-солью, если бы этот момент не был обыгран в указанной записи Достоевского. Ср. приводимый Анной Григорьевной отзыв о Страхове одного из близко знавших его лиц: «Кто, в сущности, был Страхов? Это… тип “благородного приживальщика”, каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит по определённым дням обедать к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома в дом»[1501]1501
Там же. С. 405.
[Закрыть].
[Закрыть].
…Когда вскоре после описанной встречи Страхов пришёл обедать, Анна Григорьевна прямо спросила его, в чём дело.
«– Ах, это был особенный случай, – засмеялся Страхов. – Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился.
– Как! С вами был Толстой? – с горестным изумлением воскликнул Фёдор Михайлович. – Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!
– Да ведь вы по портретам его знаете, – смеялся Николай Николаевич.
– Что портреты, разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали!»[501]501
Там же. С. 320.
[Закрыть]
Итак, если верить Страхову, на лекции Владимира Соловьёва (тема которой живо интересовала и Достоевского, и Толстого и могла бы дать первый толчок их беседе) Толстой предпочёл сохранить инкогнито. Это вполне правдоподобно[502]502
Не совсем ясно, был ли Толстой на лекции с одним Страховым. Ср. его письмо к А. А. Толстой: «Я вспомнил, что нынче лекция Соловьёва, и лекция, как мне говорили, самая важная, и я еду на неё. Мне кажется, что вы хотели послушать его. Не поедете ли вы?»[1502]1502
Толстой Л. Н. ПСС. Т. 62. Москва, 1953. С. 392.
[Закрыть]
[Закрыть]. Но вот вопрос: сказал ли Страхов Толстому, что здесь присутствует Достоевский? И если сказал, то значит ли, что после этого сообщения Толстой отказался от знакомства?
Через много лет Анне Григорьевне довелось разговаривать с автором «Войны и мира» (это была их единственная встреча). «Я всегда жалею, – заметил Толстой, – что никогда не встречался с вашим мужем…»
«А как он об этом жалел! – воскликнула в свою очередь Анна Григорьевна. – А ведь была возможность встретиться – это когда вы были на лекции Владимира Соловьёва в Соляном городке. Помню, Фёдор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему, что вы на лекции. “Хоть бы я посмотрел на него, – говорил тогда мой муж, – если уж не пришлось бы побеседовать”».
Какова же была реакция Толстого на это напоминание? Анна Григорьевна так передаёт его слова:
«Неужели? И ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить!»[503]503
Достоевская А. Г. С. 393, 476.
[Закрыть]
Толстой удивлён и огорчён одновременно. Его трудно заподозрить в неискренности. Страхов, видевший Достоевского (и холодно с ним поздоровавшийся), видимо, ничего не сказал своему спутнику. И даже если допустить, что формально он следовал желанию самого Толстого, он не мог не понимать, что бывают исключения. Страхов как бы «переиграл» саму судьбу – и уготованная ею (надо думать, не без усилий!) встреча в последний момент сорвалась.
Чем же руководствовался Страхов?
Знакомство (тем более дружба) с Толстым – немалый моральный капитал. Этим капиталом Страхов чрезвычайно дорожил: он придавал ему вес и в собственных глазах и в глазах окружающих. Страхов как бы представлял в Петербурге интересы своего корреспондента. При отсутствии личных отношений между Толстым и Достоевским он был единственным потенциальным посредником. Было бы досадно, если бы какая-то случайная встреча могла уничтожить (или сильно ослабить) эту монополию. Вместо страховских рассказов стал бы возможен прямой диалог (личные встречи, переписка и т. д.). Страхов утратил бы все те почти неощутимые, но не лишённые приятности выгоды, которые он извлекал из факта незнакомства. Более того: при этом могла бы обнаружиться неприглядная роль самого Страхова, поставляющего Толстому (а кто знает, может быть, и Достоевскому) недостоверную и не вполне «адекватную» информацию.
Этого Страхов боялся и не желал. Но только ли по его милости не состоялось свидание двух самых значительных людей России?
К этому вопросу нам ещё предстоит вернуться.
Женщины в его жизни
До сих пор речь шла о друзьях-мужчинах. Но не пора ли задуматься над тем фактом, почему в позднем писательском успехе Достоевского такую важную роль играют женщины? Почему именно они чутче и тоньше мужчин воспринимают его личность, а иногда – и творчество, и почему на закате его жизни женщины занимают всё большее место в его личном и общественном окружении?
С. А. Толстая, Е. А. Штакеншнейдер, А. П. Философова, Е. Н. Гейден, Ю. Д. Засецкая, О. А. Новикова, А. Н. Энгельгардт – вот круг, тяготеющий к Достоевскому, круг, к которому и он, по-видимому, испытывает чувство приязни. Среди этих женщин есть дамы высшего света, но нет ни одной женщины только светской: все они или довольно видные общественные деятельницы (Философова, Гейден, Засецкая, Новикова), или женщины сильного ума и «умного сердца» (Толстая, Штакеншнейдер), или, наконец, те и другие одновременно.
О Достоевском нельзя сказать словами поэта: «Он средь женщин находчив, средь мужчин – нелюдим» (ибо нелюдим он порой и среди представительниц прекрасного пола). Однако душевное предпочтение, отдаваемое им в последние годы женщинам, очевидно.
«Кстати скажу, что Фёдор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, – с видимым бесстрастием пишет Анна Григорьевна, – и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Фёдор Михайлович с сердечною добротою входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверявшиеся ему чутьём понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и её страдания, как понимал и угадывал их Фёдор Михайлович»[504]504
Там же. С. 357.
[Закрыть].
Эти наблюдения Анны Григорьевны дополняет дочь Достоевского Любовь Фёдоровна: «В салоне графини Толстой так же, как и на студенческих вечерах, Достоевский имел больший успех у женщин, чем у мужчин, и всё по той же причине: потому что он всегда относился к слабому полу с уважением… Он не развлекал женщин и не собирался их обольщать; он говорил с ними серьёзно, как с равными. Никогда не хотел он… целовать у женщины руку; он утверждал, что это целование унизительно для неё»[505]505
Литературное наследство. Т. 86. С. 305. Любовь Фёдоровна приводит также мнение одного из знакомых Достоевского, что её отец, говоря словами Мишле, принадлежит к тому типу мужчин, которые «обладают очень сильной мужественностью, но имеют многое от женской натуры…» (Там же).
[Закрыть].
Женщины – его благодарная аудитория. Но и у него к ним – особый счёт.
Однажды (это было в 1873 году) он попросил корректора типографии, где печатался «Гражданин», купить ему по дороге коробку папирос. В. В. Тимофеева исполнила просьбу «с превышением»: к купленным папиросам она прибавила «от себя» несколько апельсинов. Не избалованный таким вниманием, Достоевский был тронут. Оторвавшись от рукописи, он «полушутя, полусерьёзно» заметил: «А я вот вам за это комплимент по адресу нынешних женщин пишу…»[506]506
Т-ва В.В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем // Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 515–516.
[Закрыть]
«Комплимент» этот через несколько дней появился в «Гражданине»: «В нашей женщине всё более и более замечается искренность, настойчивость, серьёзность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине это было выше, чем у мужчин… Женщина меньше лжёт, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет не лгущих, – я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она серьёзнее, чем мужчина; хочет дела для самого дела, а не для того, чтоб казаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?»[507]507
Гражданин. 1873. 27 августа. С. 50.
[Закрыть]
Как видим, «комплимент» носит вполне общественный характер. Высказанный впервые («никогда ещё современную женщину не «хвалил»), он перекликается с его будущими – чрезвычайно высокими – оценками современной ему русской молодежи и непосредственно предшествует им. Поколение семидесятников было открыто Достоевским благодаря женщинам.
В его общем историко-психологическом прогнозе русской женщине отведена исключительная роль.
Он говорит о поколении, которое сознательно обрекло себя «на служение и жертву». Именно в женщинах, хочет он того или нет, явственней и резче сказался нравственный порыв русской революции, подвижничество и искупление. Женщина – хранительница мирового идеального начала – и это означает для него великую надежду. «Может быть, русская-то женщина и спасёт нас всех, всё общество наше, новой, возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой делать дело, и это до жертвы, до подвига»[508]508
Дневник писателя. 1877. Сентябрь. К читателям…
[Закрыть].
Конечно, женщины из ближайшего окружения Достоевского вовсе не принадлежали к поколению семидесятниц. Однако почти все они отличались такими качествами, как искренность, душевное бескорыстие, сердечное участие в делах общественных.
Тут пора назвать одно имя.
Наследницы Татьяны Лариной
Это – Татьяна Ларина.
Когда в центр Пушкинской речи Достоевский ставит образ пушкинской Татьяны, то это естественно вытекает из его размышлений и наблюдений семидесятых годов, из современной ему исторической практики. Он, этот образ, не только исходное звено в известной литературной цепи: на Татьяне замыкается ещё и другая традиция – этико-историческая. «Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдёт за тем, во что поверит, и она доказала это». В этих совершенно понятных для тогдашней аудитории словах содержится недвусмысленное указание на исторические прецеденты: от декабристок до участниц недавних политических процессов и сестёр-доброволок последней Русско-турецкой войны (иных аналогий просто не существует). Татьяна – женщина именно этого склада, и то, что она «не пошла» за Онегиным, объясняется отнюдь не её житейской трусостью, а причинами совсем иного порядка[509]509
По-своему замечательны оценки этого места Пушкинской речи в вульгарно-социологической критике 1930-х гг. Обозвав саму Речь «надуманной истерикой», автор пишет: «До чего же убога «родная нива» Достоевского в сравнении с теми реальными советскими нивами, на которых Мария Демченко вместе со свёклой выращивает новую, великолепную женщину… которая не может быть другому отдана!» (Заславский Д. Всемирное счастье и родина // Молодая гвардия. 1936. № 2. С. 185).
[Закрыть].
Именно Татьяна, «угаданная» гением Пушкина, есть реальное воплощение главной, определяющей черты нации, её нравственного ядра. Это – невозможность поступить «не по правде», пойти против совести, невозможность созиждеть своё личное благополучие на несчастье другого (будь то «слезинка ребенка» или горе убитого изменой «старика»).
В нравственных коллизиях, которые пытается разрешить Достоевский, критерием истины, её «последней» проверкой оказывается не только названный в записных книжках Христос, но ещё и другой персонаж – пушкинская Татьяна. Конечно, эти понятия для Достоевского вовсе не равнозначны, однако в известном смысле – художественно сопоставимы (ибо его Христос – отчасти тоже литературный образ, некая бесконечная нравственная величина).
Из этой цепи намёков и сопоставлений, согласно этой «исторической эстетике», возникала одна надежда.
Если образ Татьяны Лариной, её жизнеповедение отвечает мирочувствованию основного состава нации («народа»), не противоборствуя, а совпадая с ним, тогда подобное совпадение открывает невиданную историческую перспективу. То, что основополагающая народная черта воплощена в женщине, вековыми сословными перегородками отторгнутой от народа, но не утратившей с ним внутренней духовной связи, давало повод для «русского решения вопроса». Татьяна оказывалась единственной художественно-осязаемой точкой соединения двух противостоящих друг другу социальных стихий, единственным залогом будущего духовного возрождения.
Поэтому весной 1880 года, накануне Пушкинской речи, он так пристально всматривается в лица своих современниц: он ищет знакомые черты.
Молчание как жанр
И всё же существует ещё одна – пожалуй, наиболее скрытая – черта, определяющая особые отношения Достоевского с его современницами. Эта черта, как думается, имеет прямое касательство не только к его личности, но и к самому типу его художественного мышления.
Чтобы пояснить нашу мысль, сошлёмся на Л. Толстого. Его ближайшее духовное окружение – преимущественно мужское. Само понятие «толстовец» в русском языке плохо сочетается с женским родом, обозначая в последнем случае, скорее всего, вид одежды. Но дело, разумеется, не только в семантике…
Дело в ином: в исключительно сильном рационалистическом начале, пронизывающем все стороны мирочувствования Толстого, в мощной логико-аналитической доминанте его духа и его мышления.
Тут следует сделать одно отступление.
Художественное мышление Толстого и Достоевского – два разнонаправленных (встречных) потока, два противоположных способа миропостижения.
Толстой в максимальной степени «высветляет» свою прозу; он старается объяснить, обсудить, «дегерметизировать» характеры действующих в его романах персонажей, твёрдо установить их взаимные связи, как можно точнее зафиксировать все их притяжения и отталкивания. Толстой не терпит двусмысленностей, недоговоренностей, намёков, умолчаний: его усилия направлены к тому, чтобы уничтожить неопределённость.
Это стремление выражено в самом синтаксисе толстовской прозы, в построении фраз (типа «не потому что, а потому, что»), в обилии объясняющих, «разматывающих», уточняющих придаточных предложений и т. д.
Обнажение скрытых от глаз читателей внутренних причин и следствий совершается либо в форме прямого авторского толкования, либо через перекрещивающиеся и дополняющие друг друга сознания действующих лиц. Но в любом случае – открыто, неприкровенно, на наших глазах.
Эта художественная методология одинаково применима и к воссозданию глобальных исторических событий, и к изображению камерных семейных сцен.
«Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашёва.
Александр отказался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорблённым. Барклай-де-Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакать по ровному полю».
Называются скрытые побудительные мотивы; единым взором охватывается бесконечная совокупность причин и следствий; определяется позиция каждого персонажа по отношению к главному событию (войне 1812 года), и само это событие находит соответствующее место в слепой (но теперь выявленной и осознанной) игре мировых сил.
Именно такой способ видения организует художественное действие на всех уровнях.
Приведём характерный эпизод из «Войны и мира»: Наполеону приносят портрет сына («короля Рима»), присланный в подарок Императрицей.
«Со свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошёл к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, – есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, – это то, чтобы он… выказал, в противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность».
Ничто не остаётся необъяснённым: вся информация вводится в текст. Сам эпизод дан не с точки зрения кого-то из его участников (например, Наполеона, как это может показаться на первый взгляд), а через всеобъемлющее авторское созерцание. Сцена психологически завершена; читателю не оставляется возможности для каких-либо дополнительных предположений.
Анна сообщает Вронскому о своей беременности. Она наблюдает реакцию Вронского. Следует подробное описание внешнего поведения, «суммы движений» каждого из героев. Сообщается о том, что думает Анна по поводу того, что, по её мнению, думает Вронский. Но этого мало. Приводятся исчерпывающие сведения о том, что думает Вронский на самом деле.
«Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренной силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступит теперь, что нельзя более скрывать от мужа и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение».
Ситуация, таким образом, рассматривается с разных точек зрения, дополняющих и корректирующих друг друга; достигается максимальная полнота и объективность в изображении того, что не произносится персонажами вслух, но подразумевается. Всё подлежит немедленной художественной огласке.
В «Анне Карениной» есть эпизод, где рассмотренный метод достигает своего предела. Это сцена падения Вронского с лошади во время скачек.
«Ааа! – промычал Вронский, схватившись за голову. – Ааа! что я сделал! – прокричал он. – И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! что я сделал!»[510]510
Толстой Л. Н. ПСС. Т. 18. С. 197–198.
[Закрыть]
То, что мгновенно (в виде нерасчлененного ощущения) должно пронестись в душе Вронского (и что выражается его немым мычанием – «ааа!»), разлагается на составляющие и оформляется в монолог: герой фактически «прокричал» здесь авторский текст. В самый момент душевного (и физического) потрясения происшествию даётся исчерпывающая и всесторонняя оценка; при этом герой умудряется избегнуть крепких (и в этом смысле всегда иррациональных) выражений: его эпитеты не только вполне литературны, но и тщательно подобраны.
Мощное аналитическое начало господствует в толстовской прозе. Даже в оценке самой «неуправляемой» героини «Войны и мира» – Наташи Ростовой (которая «не удостаивает» быть умной) – можно усмотреть попытку рационалистического объяснения характера, в общем, иррационального.
Грандиозное единство и целостность толстовского романа не отменяют того обстоятельства, что любой романный эпизод обретает максимальное количество художественных связей в самый момент своего воплощения; если те или иные сцены «аукаются» между собой, то это происходит как перекличка уже завершённых единств. Количество сцеплений в толстовской прозе бесконечно; однако это именно сцепление одного с другим, а не превращение одного в другое.
Художественное зрение Достоевского устроено совсем иначе.
У Достоевского отдельные романные ситуации, как правило, оставляют некоторый простор для читательской догадки. Автор не настаивает на одной (безусловной) версии происходящего. Это особенно видно на примере жизнеописаний: даётся несколько биографических версий – без авторского ручательства в правильности какой-либо из них. Тот или иной слух играет при характеристике Свидригайлова, Ставрогина, Фёдора Павловича Карамазова, Смердякова и так далее – ничуть не меньшую роль, чем достоверно установленный факт. Достоевский почти никогда не даёт происходящему немедленной авторской интерпретации. Нередко та или иная сцена содержит в себе зёрна, зародыши, элементы тех повествовательных положений, которые развернутся лишь в дальнейшем. (Этот «детективный» приём обретает у Достоевского силу художественного закона и распространяется на коллизии уже не сюжетного, а идеологического порядка.)
Можно сказать, что в прозе Достоевского действует система повествовательных намёков.
…Порфирий Петрович предлагает Раскольникову написать «объявление» в полицию о заложенных им у старухи-процентщицы вещах.
– Это ведь на простой бумаге? – поспешил перебить Раскольников…
– О, на самой простейшей-с! – и вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув. Впрочем, это, может быть, только так показалось Раскольникову, потому что продолжалось одно мгновение. По крайней мере, что-то такое было. Раскольников побожился бы, что он ему подмигнул, чёрт знает для чего.
«Знает!» – промелькнуло в нём как молния».
Вся сцена дана с одной точки зрения, а именно Раскольникова, находится в круге его сознания. То, что представляется Раскольникову, не дополняется и не корректируется сознанием Порфирия Петровича (мы не знаем, что последний при этом думает) или сознаниями других участников эпизода (все они, кроме Раскольникова, даны только в поведении, а не в мышлении). Однако то, что видит Раскольников, подвергается некоторому сомнению. Происходящее не получает объективного освещения; оно не зафиксировано, так сказать, твёрдо и окончательно (путём сопоставления нескольких точек зрения или при помощи «разрешающего» авторского комментария): остаётся неясным, действительно ли подмигнул Порфирий Петрович или всё это лишь пригрезилось его впечатлительному собеседнику. Увиденное глазами Раскольникова читатель может восполнить собственными предположениями: этот принцип дополнительности сообщает прозе Достоевского кажущуюся психологическую неопределённость.
Для его героев характерны прозрения, предвидения и предчувствия; важную роль играют отношения интуитивного порядка. Так, Сонечка Мармеладова догадывается о том, что Раскольников – убийца, ещё до его признания; Иван Карамазов знает, что убийство должно произойти, ещё до его совершения, и т. д. и т. п.
Известный разговор Ивана со Смердяковым целиком построен на недомолвках. Здесь значимы не только и не столько слова, сколько движения.
«Что батюшка, спит или проснулся? – тихо и смиренно проговорил он (Иван. – И.В.), себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку»; «Иван Фёдорович длинно посмотрел на него»; «с особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Фёдорович»; «что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице Ивана Фёдоровича. Он вдруг покраснел». И т. д.
Иван уезжает наконец в Чермашню. «Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковёр.
– Видишь… в Чермашню еду… – как-то вдруг вырвалось у Ивана Фёдоровича, опять, как вчера, так само собою слетело, да ещё с каким-то нервным смешком…
– Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно, – твёрдо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Фёдоровича»[511]511
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 6. С. 193. Т. 14. С. 244–249, 254.
[Закрыть].
Сговор фактических сообщников происходит без произнесения окончательного слова; он выражается в намёках, интонационных акцентах, в «мимике и жесте».
Если у Достоевского важнейшие художественные смыслы часто уведены, «загнаны», запрятаны в подтекст, то автор «Войны и мира» занят задачей прямо противоположной: он стремится вывести эти смыслы наружу – в текст – из тьмы внетекстового хаоса; он хочет твёрдым комментирующим словом объять и объяснить всю полноту душевных и исторических движений.
В публицистике Толстого анализу (и часто осуждению) подлежит сама авторская личность: с неменьшей пристальностью, чем Наташу Ростову или Андрея Болконского, Толстой разбирает самого себя. Разымается не только человек: религия, государство, семья, искусство – ничто не может избегнуть скептического и всепроникающего взгляда. Любое явление спешит получить прямую моральную оценку.
Поразительно, что, переводя и комментируя Новый Завет, такой художник, как Толстой, пренебрегает именно поэтической стороной евангельского мифа и опирается главным образом на евангельскую «публицистику», всячески рационализируя сам миф и добиваясь в первую очередь логической гармонии[512]512
Ср. известную запись в дневнике Толстого от 4 марта 1855 года: «Разговор о Божественном и вере навёл меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле»[1503]1503
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 47. С. 37.
[Закрыть]. «Запись Толстого, – замечает современный исследователь, – поразительно напоминает замысел Великого Инквизитора в “Братьях Карамазовых”»[1504]1504
Прометей. Т. 12. Москва,1980. С. 115.
[Закрыть].
[Закрыть]. Не случайно такую важную роль играет в толстовстве его практическое, поведенческое, императивное начало (опрощение, непротивление, вегетарианство и т. д.) – именно то, что Достоевский, не доживший до оформления толстовской доктрины, проницательно назовёт в «Дневнике писателя» мундиром.
Может быть, чисто головная, рационалистическая, мужская доминанта толстовства, «оправдание добра» с «насильственной» помощью разума помешали возникнуть типу страстных и фанатичных последовательниц этого учения («боярынь Морозовых») – при наличии достаточного количества преданных учеников. (У толстовства были свои мученики, но оно не знает мучениц, как, скажем, раннее христианство; из числа последних можно назвать разве Софью Андреевну. И одними ли материальными соображениями объясняется активное неприятие ею учения мужа? Не было ли здесь ещё и стихийного сердечного недоверия к рационалистическому примату толстовства, чисто женского непонимания обязательности любви?)
Женщины более откровенны с Достоевским, нежели с Толстым. И, отвечая на их послания, автор «Дневника писателя» всегда старается учесть личность своих корреспонденток. Его ответы никогда не строятся по известной моральной схеме, как многие «типовые» письма позднего Толстого. Достоевскому совершенно несвойствен эпистолярный автоматизм.
Может быть, женская доверительность была не чем иным, как интуитивным отзывом на интуитивное начало его искусства и его «учения» (ибо у Достоевского мы не обнаруживаем признаков того, что можно именовать «системой» в толстовском смысле). Достоевский многое не договаривает до конца. Но в его поэтике молчание есть момент содержательный.
Раскольников словоохотлив; Сонечка Мармеладова – молчалива. Но последнее слово остаётся за ней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.