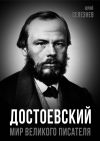Текст книги "Последний год Достоевского"
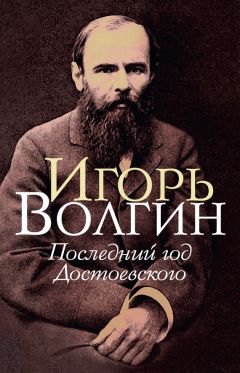
Автор книги: Игорь Волгин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 44 страниц)
30 октября ему исполнилось 59 лет.
В Петербурге жить и умереть
26 ноября Анна Григорьевна пишет его брату Андрею Михайловичу: «…благодарю Вас от всего сердца, что Вы вспомнили день рождения Фёдора Михайловича. Он был очень доволен, получив Ваше письмо: из всех его родственников только Вы и Ваши дети поздравили его в этот день». Никто из других многочисленных его родных «даже письмом не подумали об нём вспомнить, и это видимо огорчило Фёдора Михайловича».
Его последний день рождения прошёл незамеченным – даже в родственном кругу.
В том же письме Анна Григорьевна жалуется на «адскую работу» по читке корректур отдельного издания «Карамазовых», говорит о семейных неубывающих хлопотах. «А там подписка на “Дневник”… а там издание “Дневника” и т. д., бесконечная и невозможная работа, а что грустно – что и в результате ничего не видно. Как ни бейся, как ни трудись, сколько ни получай, а всё при здешней дороговизне уходит на жизнь, и ничего-то себе не отложишь и не сбережёшь на старость… Право, я хочу уговорить Фёдора Михайловича переехать куда-нибудь в деревню: меньше заработаем, зато и меньше проживать будем, да и работать меньше придется, жизнь пригляднее станет, в отчаяние не будешь приходить, как теперь»[1079]1079
Литературное наследство. Т. 86. С. 521.
[Закрыть].
…Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег…
Покинуть Петербург, уехать в деревню, освободиться от тягостных придворных и светских уз – таково заветное желание Пушкина, неосуществившаяся мечта его последних лет. Проекты эти не вызывали особого энтузиазма у его молодой супруги. Анна Григорьевна, напротив, сама готова проявить инициативу – и отправиться в миротворящую деревенскую глушь.
Но вот вопрос: смог бы Достоевский исполнить это, очевидно, всерьёз занимавшее их обоих намерение? Достало бы у него сил, а главное, желания решиться на подобный шаг?
Он, с головой погружённый в текущее, в «злобу дня», готовый немедленно отозваться на неё, – и в своих романах, и в «Дневнике писателя»; он, только что вышедший из своего разночинного, «углового», достаточно уединённого мира на путь позднего и столь волнующего его признания; он, вхожий в салоны высшего света и даже в Аничков; наконец, он, собравшийся вновь ринуться в бурные волны журнальной борьбы – смог бы он удовольствоваться завидной участью олимпийца, этакого мелкопоместного российского Цинцинната?
Вообразить это очень нелегко. Известно, что поэты рождаются в провинции, а умирают в Париже.
Правда, некоторым современникам являлись порой мысли, весьма схожие с теми, кои высказывала Анна Григорьевна. 5 октября 1880 года П. Д. Голохвастов (историк и литератор) писал Страхову: «Каким чудом живёт Достоевский в Петербурге? Как он выносит Петербург? Как его не тянет – если уж нельзя в деревню – так в Москву, в Россию, всё-таки?..»[1080]1080
Там же. С. 519.
[Закрыть]
И всё же Анна Григорьевна и Голохвастов имеют в виду существенно различные вещи.
Для Анны Григорьевны отъезд в деревню есть не опрощение (в нравственно-философском смысле), а – упрощение: упрощение жизни. Это не какой-то символический уход (вспомним Толстого) и тем более – не исход, а самый обыкновенный, житейскими соображениями оправданный переезд.
Голохвастов разумеет совсем иное.
Для него пребывание автора «Карамазовых» в Петербурге – вещь противоестественная: прежде всего, по причинам идеологического порядка. Петербург, этот, по выражению Достоевского, «самый умышленный город на земле», не есть Россия. Это – град императорский, официальный, торжественно-холодный: «дух неволи, стройный вид» – по слову Пушкина. Или – по позднейшему слову Иннокентия Анненского:
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
Петербург – воплощение духа европеизма, всего того внешнего, искусственного, «механического», что было заимствовано у Запада. В нём – раздолье для «идей, попавших на улицу»; это – царство «человеков из бумажки». Восставший «из топи блат», он как бы висит в воздухе; он – почти в буквальном смысле – оторван от почвы.
Достоевскому, очевидно, здесь не место.
Но мыслимо ли представить «самого петербургского» писателя без города Петербурга? Могли бы возникнуть в тиши сельского уединения «Бедные люди», «Униженные и оскорблённые», «Записки из подполья», не говоря уже о «Преступлении и наказании»? Сумел бы их автор, сидя в деревне, издавать «Дневник писателя»?
Достоевский лучше знал, где ему жить. И – где умереть.
Глава XIX. 1881 год, январь
Чудеса в политической экономии
Накануне нового, 1881 года «Петербургская газета» решила поделиться с читателями своими ироническими предположениями.
«Разнёсся внезапно слух, – писала газета, – о предстоящих значительных и крутых переменах в персонале печати…» Ожидается даже, что будет обнародована «новая табель о рангах по части журналистики…» Далее исчислялись возможные «переименования, повышения и понижения»: разумеется, с расчётом на читателя осведомлённого.
«Ф. М. Достоевский, – писала газета, – переименован в лейб-медики за психиатрические исследования и терапевтические достоинства последнего своего произведения «Братья Карамазовы». В сравнении с той бранью, которая раздавалась по его адресу летом, шутка выглядела безобидной.
Не были обойдены вниманием и другие литераторы. «Так, статский советник Михаил Никифорович Катков, – продолжала шутить газета, – будет, говорят, произведён в чин полного генерала от публицистики, с увольнением в отставку… Задворный советник, г. Цитович, временно исправляющий береговую службу, отставляется за неудовлетворительностью с назначением в комитет раненых»[1081]1081
Петербургская газета. 1880. 5 декабря.
[Закрыть].
Иносказание было достаточно прозрачным. Газета Цитовича «Берег» – петербургский подголосок «Московских ведомостей», бесславно оканчивала своё – не превысившее года – существование. Что же касается самого Михаила Никифоровича, то об его «отставке» (даже почётной) пока не могло быть и речи. Тем не менее в связи с общим «размягчением» внутренней политики журнальные акции «московского громовержца» расценивались невысоко.
Если шансы «полного генерала от публицистики» продолжали падать, то, напротив, акции другого генерала (от кавалерии) – Лорис-Меликова – росли с каждым днем.
Покушения не возобновлялись; крестьянские волнения шли на убыль; общество, склонное считать недавние казни – последними, несколько приободрилось. Толки о грядущих вскоре реформах обретали всё большую важность.
Страна жила на пороге решающих событий: многим думалось – не менее значительных, чем преобразования шестидесятых годов.
Граф Михаил Тариелович не бежал популярности. Он уже не мог удовольствоваться благорасположением одного лишь образованного общества. Он жаждал и некоторой признательности со стороны «низов». Успешнее всего подобной цели можно было достигнуть отменой столь ненавистного народу налога на соль. Правда, казна теряла при этом от семи до четырнадцати миллионов. Но политические выгоды, проистекающие от подобной меры, по мнению министра внутренних дел, намного превышали потери вещественные. «Такая новая милость, – писал он во всеподданнейшем докладе Александру II, – возвещённая с высоты престола, будет встречена искренно неподдельною признательностью со стороны всех сословий и состояний и упрочит союз царя с народом».
О союзе царя с народом толкует в своём последнем «Дневнике» и Достоевский. Однако он вовсе не убеждён, что вышеуказанный союз должен зиждиться на принципах экономической благодарности. «Царь – отец, народ – дети» – и если действительно так, то подобная родственная связь не подкрепляется рублём: она стоит на совсем иных, нравственных основаниях.
23 ноября государь, поколебавшись, подписал указ об отмене соляного налога: «Желая в тяжкую годину неурожая… явить вверенному Нам Божественным промыслом народу Нашему новое доказательство Наших забот о его благосостоянии, Мы признали за благо отменить акциз, взимаемый с соли, с 1 января 1881 года и соразмерно уменьшить таможенную пошлину с соли, привозимой из-за границы»[1082]1082
Цит. по кн.: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия… С. 253.
[Закрыть].
Противники Лорис-Меликова упрекали его за ущерб, нанесённый государственным финансам. В последней записной книжке Достоевский тоже касается этого вопроса.
«Облегчить народ, например, уничтожением налога на соль, – записывает он. – Где взять денег? Для этого непременно и неотложно обложить налогом высшие богатые классы и тем снять тягости с бедного класса»[1083]1083
Биография… С. 356 (вторая пагинация).
[Закрыть].
Разумеется, в царском указе не содержалось и намёка на столь радикальные меры. С другой стороны, обострение в столице продовольственного вопроса, непрестанное возвышение хлебных розничных цен (что ударяло в первую очередь по неимущим) – всё это вынудило правительство решиться на довольно-таки необычные шаги.
В конце октября Лорис-Меликов призвал к себе крупнейших петербургских хлеботорговцев и стал убеждать их несколько сбавить цены. Купцы, естественно, не поддавались, сетуя на неурожай. Тогда граф объявил, что если доселе он беседовал с призванными в качестве министра внутренних дел, то отныне он будет говорить как шеф жандармов, в чьи обязанности входит предупреждать могущие возникнуть из-за дороговизны народные волнения. Хлеботорговцам был предъявлен ультиматум: если в течение двадцати четырёх часов они не спустят цены, то виновные будут высланы из столицы.
Эта чисто русская угроза возымела действие: цена ржаного печёного хлеба немедленно упала с пяти до четырёх копеек за фунт[1084]1084
«По продовольственной части, – с неудовольствием записывает в своём дневнике П. А. Валуев, – распоряжения Лорис-Меликова – на уровне чина поручика, если не корнета. Он говорил здешним главным хлеботорговцам в тоне паши, угрожал высылкою, упоминал, как сказывают, о Мурманском береге…»[1522]1522
Валуев П. А. Дневник. 1877–1884. Петроград, 1919. С. 128.
[Закрыть]
[Закрыть].
В последнем «Дневнике писателя» Достоевский тоже рассуждает о проблемах экономических. Он предупреждает, однако, что его «окончательный вывод» может вызвать смех у неподготовленного к таким парадоксам читателя. Тем не менее вывод излагается:
«Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней – и получишь финансы».
Призыв к «оздоровлению корней» – лейтмотив последнего «Дневника». Ни отмена соляного налога, ни «ожидаемая великая реформа податной системы» и никакие другие экономические усовершенствования не способны, по мнению Достоевского, вывести нацию из тупика. Всё это – лишь паллиативы, «нечто внешнее и не с самого корня начатое».
Но с чего же начать?
Взгляд на этот вопрос автора «Дневника» может показаться не только «фантастичным», но даже несколько высокомерным. Достоевский предлагает позабыть о текущем. Позабыть «о вопиющих нуждах нашего бюджета, о долгах по заграничным займам, об дефиците, об рубле…». Он предлагает забыть о текущем хотя бы наполовину, нет, всего только на одну двадцатую. Он прекрасно понимает, что текущее всегда стоит на первом плане, но именно ради самого текущего призывает на мгновение отрешиться от него и направить внимание «на нечто совсем другое, в некую глубь, в которую по правде доселе никогда и не заглядывали…». И тогда… «Ну, тогда можно будет и опять въехать в текущее или, лучше сказать, уже в новое текущее, потому что в этот антракт, надо думать, что прежнее (т. е. современное, теперешнее наше текущее) изменится всё радикально и преобразит свой характер до того, что мы сами его не узнаем»[1085]1085
Дневник писателя. 1881. Январь. Забыть текущее ради оздоровления корней…
[Закрыть].
«Оздоровление корней» надо начинать с человека. Обращаться же исключительно к мерам административным – это, по Достоевскому, ставить телегу впереди лошади. Никакие экономические усилия сами по себе не принесут устойчивых плодов, если не изменятся исполнители. Но если «восстановится» человек – воспрянет и экономика, и финансы умножатся. Чтобы поднять народное хозяйство, следует прежде всего оздоровить моральный климат.
Подглавка «Дневника», в которой намекается на возможность всех этих чудес, названа иронически: «…По неумению впадаю в нечто духовное».
Он, великий утопист, нимало не обольщается относительно исполнимости своих утопий. И всё-таки задача ставится, ибо… «…Ибо без духовного спокойствия никакого не будет»[1086]1086
Дневник писателя. 1881. Январь. Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов…
[Закрыть].
Речь вновь идёт о необходимости нравственного прогресса. Гадательное, идеальное (и, на определённый взгляд, вполне бесполезное) рассматривается как предмет реальной исторической практики.
Когда-то он пытался провести ту мысль, что в своей внешней политике Россия должна руководствоваться не сиюминутной выгодой, а исходить исключительно из соображений нравственных. Теперь он обращает этот принцип на домашние дела. Его этико-историческая «программа» обретает универсальность.
Отшельник или Отелло?
Новый, 1881 год начался с театра.
«Были в театре на Сидоркином деле, очень был доволен»[1087]1087
См.: Жизнь и труды… С. 316.
[Закрыть], – отмечает Анна Григорьевна, приурочивая это посещение к 1 января. Запись сделана через некоторое время после смерти Достоевского. Очевидно, Анна Григорьевна пыталась восстановить в памяти события этого рокового месяца. Заметки беспорядочны, обрывисты, конспективны. Наиболее тщательно фиксируется происходившее в самые последние дни и часы: к этим записям мы ещё обратимся.
Итак, новый год начался для него с театра. Но сам он вовсе не желал ограничиваться ролью зрителя.
«Первую половину января, – свидетельствует Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович чувствовал себя превосходно, бывал у знакомых и даже согласился участвовать в домашнем спектакле, который предполагали устроить у графини С. А. Толстой (вдова поэта. – И.В.) в начале следующего месяца». Он захотел взять роль схимника в пьесе А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного»[1088]1088
Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 371. Достоевский обедал у С. А. Толстой 24 января, в субботу, когда и взял экземпляр пьесы (см.: Русский вестник. 1881. Февраль. С. 956). Это его последний выход в свет.
[Закрыть].
Не так давно, как помним, он требовал роль Отелло в домашнем спектакле у Штакеншнейдеров. Выбор, кажется, был не случаен. «Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену»[1089]1089
Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 294.
[Закрыть], – говаривала ему Анна Григорьевна в 1876 году.
Тогда произошёл случай, о котором, по её собственным словам, Анна Григорьевна вспоминала «почти с ужасом». Желая подшутить над мужем, она неосторожно приняла на себя роль Яго: изменив почерк, аккуратнейшим образом переписала из одного романа уличающее героиню в неверности анонимное письмо и, предвкушая весёлый розыгрыш, отправила его на имя Достоевского.
В письме, написанном с выдающимся безграмотством, неизвестный доброжелатель уведомлял обманутого супруга, что тому «перешиб» дорогу некий брюнет, чьё изображение, заключённое в медальон, неверная жена имеет наглость носить на груди. Пикантность состояла в том, что Анна Григорьевна действительно носила медальон, подаренный мужем.
Не менее пикантным было и то, что роман, из которого Анна Григорьевна столь легкомысленно позаимствовала текст письма, читался Достоевским накануне – в только что вышедшем номере «Отечественных записок»: он принадлежал перу С. И. Смирновой (Сазоновой).
Веселья, однако, не получилось.
– Что ты такой хмурый, Федя? – дружески осведомилась Анна Григорьевна, войдя в кабинет. Он гневно посмотрел на неё, тяжело прошёлся по комнате и остановился напротив, почти вплотную.
– Ты носишь медальон? – спросил он каким-то сдавленным голосом.
– Ношу.
– Покажи мне его!
– Зачем? Ведь ты много раз его видел.
– По-ка-жи ме-даль-он! – закричал во весь голос Фёдор Михайлович…
Поняв, что шутка зашла слишком далеко, Анна Григорьевна начала поспешно расстёгивать ворот платья. Но «Фёдор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку». Цепочка, натурально, оборвалась; на шее у Анны Григорьевны выступила капелька крови. Ничего не замечая, Достоевский судорожно и неловко пытался открыть медальон. Наконец это ему удалось. Портрет действительно наличествовал: с одной стороны – их дочери Любы, с другой – его собственный.
Его раскаяние было равно огорчению самой Анны Григорьевны, зарёкшейся впредь шутить столь опрометчиво.
«– Вот ты всё смеёшься, Анечка, – заговорил виноватым голосом Фёдор Михайлович (смех, которым она пыталась спасти положение, надо полагать, дался ей не без труда. – И.В.), – а, подумай, какое могло бы произойти несчастье! Ведь я в гневе мог задушить тебя!..»[1090]1090
Там же. С. 292–294.
[Закрыть]
Он не желает обращаться в Отелло, поверившего клевете.
Он знал за собой этот неизвинительный грех – ревность. И не без оснований полагал, что сумел бы неплохо воплотить это слепое, но требующее от исполнителя ясного сознания чувство на сцене.
Однако его трудно назвать ревнивцем в классическом смысле.
Когда в Сибири он сватался к Марии Дмитриевне Исаевой, он был прекрасно осведомлен о её отношениях к местному учителю Вергунову. Был момент, когда казалось, что у него, недавнего каторжника, а ныне простого солдата, нет никаких надежд: молодой возлюбленный Марии Дмитриевны побивал его по всем статьям. Как же поступает он в этом, слишком невыгодном для него случае? Через столичных знакомых он умоляет сильных мира сего устроить судьбу своего счастливого соперника, помочь ему выкарабкаться из нищеты, улучшить его материальное и служебное положение. Он делает это ради любимой им женщины[1091]1091
О подоплёке этой истории см. подробнее: Хроника рода Достоевских. Игорь Волгин. Родные и близкие. М., 2013. С. 1046–1064.
[Закрыть].
Надо полагать, что и тогда, в те далёкие годы, он имел представление о том, что такое ревность.
Существовала, правда, известная разница. Мария Дмитриевна и не думала скрывать своей связи. Здесь не было обмана. В истории же с поддельным анонимным письмом его потрясла возможность неправды, лжи – тайной измены любимой женщины, жены, матери его детей…
Да, он знал за собой эту черту. Но, очевидно, знал и другое, если в предполагаемом у С. А. Толстой спектакле был готов принять на себя роль схимника.
На Пушкинском празднике он, как мы помним, читал монолог Пимена из «Бориса Годунова». Мудрец-летописец, отрешённый от мира и всех мирских страстей, внимающий равнодушно (как бы равнодушно) добру и злу, – этот излившийся из самых глубин духа народного образ привлекает его неотразимо.
Отелло и Пимен – фигуры несовместные, враждебные, взаимно уничтожающие друг друга. И тем не менее он ощущает в себе оба эти начала.
В январе он отдаёт дань не только драме: он вспоминает и о музыке.
30 января 1881 года в «Петербургской газете» промелькнуло следующее (не отмеченное доселе) сообщение: «…последний раз привелось мне видеть Фёдора Михайловича в предпрошлую субботу (то есть 17 января. – И.В.) на музыкальном сеансе пианиста Брассена в зале консерватории. Выглядел он бодрее и здоровее обыкновенного, много и с жаром говорил о “Дневнике писателя” и своих планах и предположениях, выражал твёрдое упование, что вскоре можно будет высказать прямее и свободнее “всё, что волнует душу”…»
Заметка подписана: Амикус[1092]1092
Петербургская газета. 1881. 30 января. Амикус – Петр Августинович Монтеверде, петербургский журналист. Сведений о его знакомстве с Достоевским не имеется.
[Закрыть].
Итак, если верить Амикусу, Достоевский выразил ему «твёрдое упование» относительно скорого разрешения того вопроса, который его, автора и издателя возобновляемого «Дневника», волновал в плане сугубо практическом.
Три креста и шесть восклицательных знаков
Надежды эти имели некоторые основания.
Ещё в сентябре 1880 года Лорис-Меликов пригласил к себе редакторов крупнейших петербургских газет и журналов и предостерёг от того, чтобы вверенные им издания обольщали читателей толками о возможном привлечении общественных сил к участию в делах государственных. Оградив тем самым достоинство самодержавной власти, граф тем не менее намекнул, что он лично счёл бы возможным предоставить печати право «обсуждать различные правительственные мероприятия, постановления, распоряжения правительства с тем только условием, чтобы она не смущала и не волновала напрасно общественные умы своими помянутыми мечтательными иллюзиями»[1093]1093
Отечественные записки. 1880. Сентябрь. С. 141.
[Закрыть].
Это была уступка: прессе фактически дозволялось высказываться о деятельности администрации – правда, не затрагивая при этом щекотливого вопроса о представительных учреждениях.
Начальство начинало понимать, что с печатным словом следует считаться: за весь 1880 год было дано лишь четыре предостережения и всего два периодических издания были приостановлены. По российским меркам – сущие пустяки.
«Князь Урусов[1094]1094
Сергей Николаевич Урусов – главноуправляющий II Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
[Закрыть] и Победоносцев, – записывает в дневнике П. А. Валуев, – видят, в чём дело и ужасаются…»[1095]1095
Валуев П. А. Дневник 1877–1884 гг. Петроград, 1919. С. 124–125.
[Закрыть] Победоносцеву было чего ужасаться: один из проектов нового закона о печати, обсуждавшийся в правительственных кругах, предусматривал отмену предварительной цензуры для всех периодических изданий (хотя другой проект предполагал одновременно ужесточить уголовные наказания для провинившихся журналистов: три года тюрьмы или пять лет крепости).
Дней за десять до смерти Достоевский был у А. С. Суворина. Речь, естественно, зашла об ожидаемых новшествах (частично этот разговор уже приводился выше).
«У нас… – передаёт Суворин слова своего собеседника, – возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и всё это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходок, – и он прибавлял:
– Полная. Суд для печати – разве это свобода печати? Это всё-таки её принижение. Она и с судом пойдёт односторонне, криво. Пусть говорят всё что хотят. Нам свободы необходимо больше, чем всем другим народам, потому что у нас работы больше, нам нужна полная искренность, чтобы ничего не оставалось невысказанным»[1096]1096
Новое время. 1881. 1 февраля.
[Закрыть].
То, что предлагает Достоевский, кажется невероятным. Полная, неурезанная, всеобъемлющая свобода в стране, где отсутствуют элементарные гражданские права. Положение печати мыслится таким, какое она никогда и нигде не занимала: абсолютная свобода высказывания, отсутствие не только административного, но и предусмотренного законами о печати всех стран «обычного» судебного преследования. Очевидно, даже борьба с диффамацией мыслится как мера внесудебная, связанная с той или иной формой морального осуждения.
При этом он прекрасно сознаёт, что печатное слово таит соблазн разного рода злоупотреблений.
«Пресса, между прочим, – записывается в последней тетради (примерно в то же время, когда состоялся упомянутый разговор с Сувориным), – обеспечивает слово всякому подлецу, умеющему на бумаге ругаться, такому, которому ни за что бы не дали говорить в порядочном обществе. А в печати приют: приходи, сколько хочешь ругайся, даже с почтением примут»[1097]1097
Биография… С. 368 (вторая пагинация). Введение конституции, по мнению Достоевского, также не гарантирует свободу печати. «А печать-то – печать в Сибирь сошлёте, чуть она не по вас! – записывает он. – Не только сказать против вас, да и дыхнуть ей при вас нельзя будет» (Биография… С. 360). Это боязнь либерального деспотизма, манипулирования общественным мнением, опасение, что свободу будут ущемлять уже не административным путем, а «нормальными» буржуазными методами.
[Закрыть].
В этих раздражительных, в сердцах сказанных словах, несомненно, – «нечто личное». Слишком часто на своём писательском веку он делался объектом самых ожесточенных нападок, порою – не только несправедливых, но и оскорбительных. «Руготня. Amicus… – помечает он далее, имея в виду того самого автора, который вскоре упомянет об их дружественном общении на концерте в Консерватории. – Если запрещены физические отправления на улицах, раздетый донага человек, то как не запретить и этого: это то же физическое отправление, вредное и гадкое. Без жалобы Прокуратура должна бы возбуждать и посылать к Мировому судить за нетрезвость слова»[1098]1098
Биография… С. 369 (вторая пагинация).
[Закрыть].
Привлекать к суду за «нетрезвость слова» – требование не менее утопическое, чем желание освободить прессу от суда.
Верил ли он в исполнимость своих утопий?
Он записывает: «Машина важнее добра. Правительственная административная машина – это всё, что нам осталось. Изменить её нельзя, заменить нечем без ломания основ. Лучше уж мы сами сделаемся лучшими, – говорят чиновники. Канцелярский порядок воззрения и управления Россией, даже хотя бы и было гибельно, всё-таки лучше добра»[1099]1099
Литературное наследство. Т. 83. С. 678.
[Закрыть].
Против этой записи (очень напоминающей другую: об уничтожении «формулы администрации») на полях он пишет «непременно», ставит три креста и шесть восклицательных знаков.
Он, проповедник личного нравственного совершенствования, казалось бы, должен приветствовать желание государственных чиновников «сделаться лучшими». Увы, ироничность тона не оставляет сомнений на этот счёт.
Это одно из его «кричащих» и, на первый взгляд, неразрешимых противоречий. Но, если вдуматься, слом машины (действие внешнее) и «ломка» тех, кто её ломает (действие внутреннее), не так уж далеки друг от друга.
Да, он – за самоусовершенствование. Но он вовсе не склонен относить результаты этого индивидуального, интимного процесса ко временам отдалённым. Благородные порывы, порывы души не отделены у него наглухо от могущих сопутствовать этим порывам государственных преобразований. Самому государству даётся шанс: сделаться «нравственным человеком».
Идеологов реальной российской государственности вовсе не соблазняла такая возможность.
На следующий день после смерти Достоевского Победоносцев писал Каткову: «Мы нередко с ним беседовали: для него у меня отведён был тихий час в субботу после всенощной, и он засиживался у меня за полночь в задушевной беседе»[1100]1100
Достоевский посещал Победоносцева совсем не так, как остальных своих знакомых: они не были на равных. Нам неизвестно об ответных визитах обер-прокурора Святейшего синода. Правда, мальчик, служивший у Достоевских (П. Г. Кузнецов), среди посетителей упоминает и Победоносцева. Но одновременно в качестве таковых называются Толстой и Тургенев, чего, разумеется, быть никак не могло. Любопытная деталь: «…иногда, – пишет Кузнецов, – бывала жена Победоносцева, Екатерина. Он (Достоевский. – И.В.) очень её ненавидел»[1523]1523
Там же. С. 335.
[Закрыть].
[Закрыть][1101]1101
Там же. Т. 86. С. 534.
[Закрыть].
Итак, они беседовали субботними вечерами. Но, несмотря на свидетельство одного из собеседников, что разговоры были «задушевными», трудно представить, чтобы Достоевский бывал с Победоносцевым искренним до конца.
Ещё труднее вообразить, чтобы Победоносцев – твёрдый и убеждённый государственник, сторонник жёсткого и всепроникающего административного контроля, – чтобы этот фанатик сильной, уверенной в себе, нерассуждающей власти мог одобрить более чем сомнительные мечтания автора «Дневника писателя».
Мы уже говорили, что знакомство и общение Достоевского с Победоносцевым приходится на тот период, когда бывший воспитатель наследника престола ещё не успел стать ключевой фигурой русской политической жизни, то есть тем, кем он сделается после 1 марта. В конце царствования Александра II он ещё пребывает в полутени, не играя чрезвычайной политической роли и стараясь поддерживать вполне лояльные отношения с тем же Лорис-Меликовым. Его имя ещё не стало нарицательным.
Достоевский мог ценить в своём субботнем собеседнике его сухой, скептический, резкий ум, свойственный ему острый критицизм мышления. Но сильный в своём негативизме, Победоносцев оказывался несостоятельным, когда речь заходила о чём-то позитивном, живом, жизнетворческом. «Он, – говорит о Победоносцеве Константин Леонтьев, – как мороз; препятствует дальнейшему гниению; но расти при нём ничего не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом простом смысле слова; мороз; я говорю, сторож; безвоздушная гробница…»[1102]1102
Цит. по кн.: Бердяев Н. А. К. Леонтьев. Париж, 1926. С. 141–142.
[Закрыть]
Весьма сомнительно, чтобы Достоевский смог безоговорочно одобрить политическую линию, выработанную Победоносцевым после 1 марта и безоговорочно принятую новым царствованием в качестве руководства к действию. Мертвящее охранительство обер-прокурора Святейшего синода плохо совместимо с социальным утопизмом автора «Дневника».
Недаром он, автор, так беспокоился за судьбу январского номера.
Депутат от «серых зипунов»
17 января к нему зашёл Орест Фёдорович Миллер. Он явился с благородной целью: напомнить хозяину об его участии в Пушкинском вечере 29 января (в сорок четвёртую годовщину со дня смерти поэта). Но принят был отнюдь не ласково.
Хозяин «выбежал к посетителю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный – отчасти, как сам тут и высказал, опасением, пропустит ли ему цензура несколько таких строк, содержание которых должно развиваться в дальнейших номерах “Дневника”, – в течение всего года. “Не пропустят этого, – говорил он, – и всё пропало…”»[1103]1103
Биография… С. 321 (первая пагинация).
[Закрыть]
Речь действительно шла о весьма рискованном тексте (он уже приводился выше): «…есть одно магическое словцо, именно: “оказать доверие”. Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»[1104]1104
Дневник писателя. 1881. Январь. Пусть первые скажут…
[Закрыть].
После смерти Достоевского журнал «Мысль» опубликовал посвящённую ему обширную статью. Автор статьи, Л. Оболенский, останавливается как раз на том месте январского «Дневника», где предлагается обратиться к народу, и только к народу.
«Это что же… личное совершенствование он предлагал? – спрашивает Оболенский. – Не ясно ли для всякого… что Достоевский вовсе не был врагом реформ…» Он признавал лишь ту реформу, которая «была бы соответственна потребностям и духу народа». От «окончательного» решения этой проблемы Достоевский «устранял не только интеллигенцию, но даже и себя…»[1105]1105
Мысль. 1881. Март. С. 410–411.
[Закрыть]. Где и когда, вопрошает далее Оболенский, «Московские ведомости» проводили ту идею, какую высказал в своём «Дневнике» Достоевский? «Мы у них читали, наоборот, статьи в защиту преобладания везде и всюду крупного землевладения, мы читали громы против защиты… крестьян, мы читаем обвинения в измене за всякую малейшую попытку обсуждать вопросы о народном благосостоянии… Они призывали на страну диктатуру… Всегда и всюду они проповедовали одно: террор, террор и террор! Ежовые рукавицы кары; а мы только что видели, то же ли говорил Достоевский! Идеи Достоевского, – заключает Оболенский, – и идеи “Московских ведомостей” – это два диаметрально противоположных полюса, наиболее враждебных друг другу»[1106]1106
Там же. С. 413.
[Закрыть].
Текст Оболенского, как, впрочем, почти все приводимые нами отклики прессы, практически не был известен: на него нет ссылок в позднейшей литературе. Нельзя, однако, не поразиться этому одинокому голосу. Оказывается, то, к чему мы пришли путём «ума холодных наблюдений» (но также, добавим, «и сердца горестных замет»), вполне отчётливо сознавалось «внутри» интересующего нас времени – пусть даже очень немногими. Сего достаточно…
В следующем номере своего журнала Оболенский задаётся вопросом: какую именно группу, какую «партию» русского народа представляет автор «Карамазовых»? Соображения на этот счёт издателя «Мысли» хотя и не бесспорны, но также в высшей степени любопытны.
По мнению Оболенского, Достоевский взялся «представлять и защищать» массу «серого православного крестьянства ни больше, ни меньше». Не интересы интеллигенции и не интересы какой-то обособленной части народа (например, раскольников) составляют предмет его забот: он выражает миросозерцание «серых зипунов» во всей его целости – «без урезок… без ампутирования этого миросозерцания по своему произволу».
«Один критик, – говорит Оболенский, – заметил, что Достоевский меньше всего описывал народ, а потому, мол, странно его называть народником. Если к народничеству прилагать такой глубокомысленный критериум, то наибольшим народником, пожалуй, окажется актёр Горбунов (автор и исполнитель рассказов из народного быта. – И.В.), ибо он описывал только народ»[1107]1107
Мысль. 1881. Апрель. С. 71.
[Закрыть].
Точка зрения Оболенского совершенно исключительна: подобные мнения не встречаются более во всей тогдашней литературе. Кажется, никому из современников Достоевского не приходило на ум связывать его имя с идеологией «серого православного крестьянства». Между тем осознание этой глубинной связи позволяет взглянуть на автора «Дневника» с несколько неожиданной точки зрения.
Существует глубокая закономерность в том, что в конце XIX столетия два крупнейших русских художника спешат отречься от воззрений, сопряжённых с кругом их собственной жизни, и вменяют себе в обязанность стать на точку зрения «большинства».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.