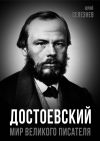Текст книги "Последний год Достоевского"
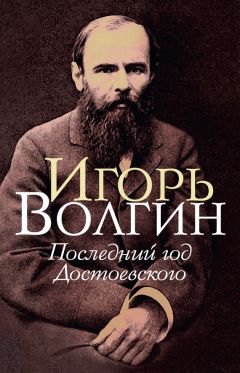
Автор книги: Игорь Волгин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 44 страниц)
Часть третья
Глава XVIII. Последняя осень
Севастопольский зоил и другие доброжелатели
Не было летом никаких событий, ибо все события останавливались и отвращались главным: работой. Роман подвигался к концу; развязка, однако, всё отдалялась.
Из-за этого безостановочного труда он возвратился в Петербург поздно – 7 октября. В первую же пятницу, 10-го, он посетил Штакеншнейдеров. «Сказал мне комплимент, – записала в дневнике Елена Андреевна, – и очень обрадовался своей прыти и находчивости».
Комплимент состоял в следующем. Поднимаясь по лестнице, он сильно запыхался. Хозяйка осведомилась: не трудно ли ему взбираться так высоко?
«Трудно-то трудно, – отвечает. – Так же трудно, как попасть в рай, но зато потом, как попадёшь в рай, то приятно; вот так же и мне у вас.
Сказал это и развеселился окончательно. “Вот, мол, какие мы светские люди, а Полонский боится пускать нас в одну комнату с Тургеневым!”»[954]954
Штакеншнейдер Е. А. Указ. соч. С. 424.
[Закрыть]
Пожаловался, что дома его ждёт ворох неотвеченных писем. И к ним всё время прибавляются новые.
Среди этой обширной корреспонденции попадались послания воистину утешительные.
«Глубокоуважаемый Фёдор Михайлович, – обращался к нему земский врач В. Никольский из села Абакумовка Тамбовского уезда. – Как Ваш единомышленник, как Ваш поклонник, самый ярый, самый страстный (хоть я моложе Вас на целых три десятилетия), умоляю Вас не обращать внимания на поднявшийся лай той своры, которая зовётся текущей прессой. Увы, это удел всякого, кто говорит живое слово, а не твердит в угоду моде пошлые фразы, во вкусе, напр<имер>, современного псевдолиберализма».
Ещё недавно в письме Победоносцеву, сетуя на своих критиков, он между прочим заметил: «Публика, читатели – другое дело: они всегда меня поддерживали»[955]955
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 209.
[Закрыть]. И теперь неизвестный ему корреспондент как бы подтверждал это его заявление: «Верьте, что число Ваших поклонников велико <…> Вы бросаете семя в самое сердце русского человека, и семя это живуче и плодотворно, я в этом глубоко убеждён»[956]956
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29790.
[Закрыть].
Отзвуки Пушкинской речи всё ещё витали в воздухе. Это уже не столь близкое событие продолжало занимать воображение читателей.
Читатели, впрочем, попадались разные.
Пришло длиннейшее послание из города Севастополя. Оно, надо полагать, заставило адресата не раз усмехнуться: даже теперь, более века спустя, нам трудно не повторить этой усмешки.
Автор письма, пребывающий, по-видимому, в летах довольно почтенных (ибо утверждает, что он – современник Пушкина), на одиннадцати больших, густо исписанных страницах гневно укоряет Достоевского за его легкомысленные суждения.
«Вы в увлекательной речи восхваляете Пушкина до небес, – пишет обладающий эпистолярными досугами севастопольский житель, – и провозглашаете его вместе с людьми, не имеющими никаких убеждений, – народным поэтом; положа руку на сердце, я не могу с этим согласиться, что такое в самом деле Пушкин? Это человек, посвятивший всю свою жизнь изящной словесности, преимущественно стихотворству; но он не был и быть не мог гением, потому что в произведениях его никогда не проглядывали начала философии и религии, и Пушкин в этом отношении был бы единственным гением, у которого отсутствовали бы философия и религия <…> Я готов доказать, что ни один безбожник ничего не мог придумать для человечества полезного, а следовательно, таких людей нельзя называть гениями».
Пушкин, в своё время неосторожно заметивший, что цель поэзии – сама поэзия, получал теперь мудрое ретроспективное назидание. Счёт, предъявляемый поэту его современником, достаточно суров: это и сочинения, «которые ни одна безнравственная печать не согласится поместить на страницах своих изданий», и тот факт, что «над государями он издевался, не щадя даже своего благодетеля Николая Павловича», и то прискорбное обстоятельство, что «ни один из великих моментов русской жизни не был понят Пушкиным, и кроме поэмы “Полтава” мы ничего не знаем такого, что бы удостоилось описания Пушкиным», и, наконец, замечательная мысль, что у поэта «не было точек соприкосновения с народом».
На этом последнем пункте оппонент Достоевского настаивает с особенным увлечением.
«<…> В самых поэмах Пушкина, – пишет он, – никакой народности видеть нельзя: в “Кавказском пленнике” изображается народность кавказских горцев, в “Бахчисарайском фонтане” говорится о народности крымских татар, в “Цыганах” видим больше нравы и обычаи цыганских таборов <…>». Таковое пристрастие поэта к инородцам и неудивительно, ибо «русской народности нельзя было изучать Пушкину ни в Новороссийске (очевидно, Одессе. – И.В.), ни в Крыму и ни на Кавказе». По всему этому, сердито заключал автор письма, «у Пушкина поучаться нечему, кроме, может быть, изящества его стихов и вполне русской речи»[957]957
Там же. № 29941. Письмо от 2 ноября 1880 г.
[Закрыть].
Эти тонкие критические наблюдения содержали нечто в высшей степени знакомое. Они не могли не напомнить Достоевскому знаменитые критические инвективы шестидесятых годов, когда не приученных ещё к умственной свободе российских читателей поражали, а порой и приводили в восторг следующие рассуждения:
«…К сожалению, публика времени Пушкина была так неразвита, что принимала хорошие стихи и яркие описания за великие события в своей умственной жизни. Эта публика… переписывала… “Бахчисарайский фонтан”, в котором нет ровно ничего, кроме приятных звуков и ярких красок»[958]958
Писарев Д. И. ПСС в 4-х т. Т. 3. Москва, 1956. С. 363.
[Закрыть].
Так утверждал Дмитрий Писарев в статье «Пушкин и Белинский». И – в статье «Реалисты»: «Говорят, например, что Пушкин – великий поэт, и этому все верят. А на поверку выходит, что Пушкин просто великий стилист – и больше ничего»[959]959
Там же. С. 109.
[Закрыть].
Сколь бы изумился талантливый автор этих статей, блистательный полемист, убеждённейший радикал, если бы каким-то образом смог проведать, что его безапелляционные суждения окажутся созвучными эстетическим вкусам пережившего свой век доморощенного зоила из города Севастополя – человека, судя по его письму, весьма ограниченного, придерживающегося сугубо консервативных, охранительных взглядов.
Они бы не сошлись ни в чём, кроме одного: оба они полагали, что смысл поэзии находится вне самой поэзии.
«Вы можете называть меня невеждой за мои мнения о Пушкине, – строго предупреждал автор письма, – но поверьте, что потомство будет об этом судить иначе».
Однако, уповая на суд потомков, предусмотрительный корреспондент кое-какие меры спешит взять безотлагательно: «<…> Вы спросите, для чего же я Вам пишу? А вот для чего: с этого письма остаётся у меня копия, которая когда-нибудь будет напечатана (частично мы и осуществили эту мечту, воспользовавшись, правда, оригиналом. – И.В.); пусть тогда читатели рассудят, кто из нас прав, кто виноват!»[960]960
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29941.
[Закрыть]
Подписано было: Христианин.
Да, любопытная корреспонденция стекалась этой осенью в Кузнечный переулок. В иных посланиях наличествовал слог, сильно напоминавший тот, каким через полвека будет изъясняться небезызвестный Васисуалий Лоханкин:
«Был праздник Пушкина. И Пушкин в первый раз был понят мною: его с восторгом я читал и в сердце снова ощущал прилив каких-то странных новых сил. Я пережил второй момент. Теперь студент я, верю в Вас и к Вам пишу – прошу Вас оживить меня. Открыть мне рай своей восторженной души и силой гения обнять и словом высшей красоты мне светоч истины сказать и ободрить мой шаткий ум; ум юного поэта боится праздной пустоты».
Засим «юный поэт» деловито переходит на прозу (впрочем, тоже несколько ритмизованную): «Позвольте к Вам придти со своими виршами, со своей мечтой. Назначьте день и час. Мой адрес здесь: Захарьевская ул.; дом № 11/1, кв. 25»[961]961
Там же. № 29847. Письмо от 20 октября 1880 г. (почтовый штемпель).
[Закрыть].
Подписано было: студент В. Синицкий.
«Русские студенты, – замечает дочь Достоевского, – не склонны к порядку, – они являлись к моему отцу во всякое время дня и мешали его работе»[962]962
Достоевская Л. Ф. С. 80.
[Закрыть].
Являлись, впрочем, не только студенты. Порой посещали и гимназисты. Одного пятнадцатилетнего стихотворца сопровождал отец. Позднее, уже став известным литератором, посетитель Достоевского вспоминал:
«Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские жалкие стишонки. Он слушал молча, с нетерпеливою досадою…
– Слабо, плохо… никуда не годится, – сказал он, наконец, – чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!
– Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает! – возразил отец»[963]963
Мережковский Д. Автобиографические заметки // Русская литература XX века. Т. 1. Москва, 1914. С. 291.
[Закрыть].
Чадолюбивого родителя можно понять. Он не желает, чтобы его сын платил за сомнительные блага сочинительства столь высокую цену.
«Дни мои сочтены…»
В эту осень ему вообще везло с авторами, требующими его участия. Иные жаждали не только сочувственного отзыва, но и возлагали на него весьма ответственные комиссии по устройству их литературных дел.
Еще 26 июля ему было отправлено письмо из Рязани. Пелагея Егоровна Гусева «в память нашего, хотя кратковременного знакомства в Эмсе» убедительно просила его взять на себя труд забрать из редакции «Огонька» рукопись её «небольшого романа» «Мачеха» и пристроить указанную рукопись «куда-нибудь, в другой журнал». Просьба подкреплялась стихами:
Разослала я статейки
В тот журнал, в другой;
А всё денег ни копейки…
Ну, хоть волком вой!..
«Голубчик мой, Фёдор Михайлович, – продолжала Гусева. – Вы знаменитость литературного мира – Ваше одно слово много значит; войдите в моё положение! Вам Бог за меня заплатит»[964]964
НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 2. Ед. хр. 140.
[Закрыть].
Письмо рязанской корреспондентки достигло адресата только в конце августа. Естественно, что заниматься её петербургскими делами, находясь в Старой Руссе, он не мог. И 3 сентября из Рязани отправляется ещё одно послание.
«Что же это значит, добрейший Фёдор Михайлович, – вопрошает Гусева, – неужели и Вы не составляете исключения по пословице: “сытый голодного не разумеет…” <…> Удивительное дело – будь в затруднительных обстоятельствах какая-нибудь героиня со скамьи подсудимых, или ещё с какой-нибудь ступеньки позора, тогда все наперерыв начнут заявлять своё участие, а честная женщина хоть издохни…»[965]965
Там же. Возможно, в этих словах Гусевой содержался намёк на выступление Достоевского в «Дневнике писателя» в защиту подсудимой Е. П. Корниловой.
[Закрыть]
Его ответное письмо исполнено горечи. Он оправдывается – говорит о своей летней оторванности от Петербурга, о нынешних невозможных обстоятельствах. «Потому что если есть человек в каторжной работе, то это я. Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь была сноснее моей теперешней». И приводит тот же убедительнейший, на его взгляд, пример, что и в письме Поливановой: «Даже с детьми мне некогда говорить. И не говорю». Он жалуется на расстроенные нервы, на свою эмфизему, называя её «неизлечимой вещью»: «… Дни мои сочтены… Вы по крайней мере здоровы, надо же иметь жалость. Если жалуетесь на нездоровье, то не имеете всё-таки смертельной болезни и дай Вам бог много лет здравствовать, ну а меня извините».
В письме есть фраза: «Теперь ночь, 6-й час пополуночи, город просыпается, а я ещё не ложился».
Он говорит о своём литературном изгойстве – полной отчуждённости от петербургского журнального мира. «С “Огоньком” я не знаюсь, да и заметьте тоже, что и ни с одной Редакцией не знаюсь. Почти все мне враги – не знаю за что. Моё же положение такое, что я не могу шляться по Редакциям: вчера же меня выбранят, а сегодня я туда прихожу говорить с тем, кто меня выбранил. Это для меня буквально невозможно». И, уже закончив письмо, приписывает на полях: «Буквально вся литература ко мне враждебна, меня любит до увлечения только вся читающая Россия»[966]966
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 217–218.
[Закрыть].
Тем не менее он обещает своей корреспондентке попытаться «достать» её рукопись из редакции «Огонька».
Получив ответ, Гусева почувствовала некоторое смущение. В её очередном послании зазвучали покаянные ноты: «Ради Господа, забудьте о моей грубой, настойчивой просьбе – Бог с нею, рукописью. Ведь я не знала, что Вы больны <…> Насколько возможно, поберегите себя, родной мой! Вам ещё рано умирать»[967]967
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29688. Письмо от 22 октября 1880 г.
[Закрыть].
Но не проходит недели – и переменчивая, как все женщины, Пелагея Егоровна, словно и не было её недавних сочувствий и извинений («позабудьте совсем про мою рукопись, наплевать на неё!»), вновь просит его «принять на себя благодетельный труд» и отослать её роман с присовокуплением тетрадки стихотворений в аксаковскую «Русь», сопроводив посылку добрыми рекомендациями[968]968
НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 2. Ед. хр. 140. Письмо от 29 октября 1880 г.
[Закрыть].
Он аккуратнейшим образом исполняет все её поручения: посылает рукопись и аттестует автора как «давно уже пишущую барыню», добавляя при этом, что она «сама очень хороший, кажется, человек»[969]969
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 226.
[Закрыть].
Между тем фраза «дни мои сочтены», столь поразившая его корреспондентку, произнесена им сознательно, твёрдо – и отнюдь не ради красного словца.
Он часто думал о смерти.
Мнительный пациент
Он думал о смерти по той же самой причине, по какой думают о ней все люди вообще. Он знал не только то, что он смертен, но (как сказал бы один литературный герой) что ещё и внезапно смертен: любой из его припадков мог закончиться трагически. Вторую свою болезнь, эмфизему лёгких, он тоже именует «смертельной». Он знает, что каждая его минута может оказаться последней.
Чувствуя убывание физических сил, он не желает, чтобы смерть застала его врасплох.
В 1876 году, в Эмсе, он напрямую вопрошает доктора Орта о том, о чём больные, как правило, предпочитают не спрашивать и на что врачи, само собой, отвечают уклончиво: «Затем, на мой усиленный вопрос сказал, что смерть ещё далеко и что я ещё долго проживу, но что, конечно, петербургский климат, – надобно брать предосторожности и т. д., и т. д.»[970]970
Переписка. С. 217.
[Закрыть]
На повторные «усиленные» расспросы своего пациента серьёзный немецкий доктор «даже засмеялся и сказал мне, что я не только 8 лет проживу (эта цифра как максимальная, очевидно, названа самим больным. – И.В.), но даже 15 – но прибавил: “разумеется, если климат, если не будете простужаться, если не будете всячески злоупотреблять своими силами и вообще если не будете нарушать осторожную диету”[971]971
Там же. С. 234.
[Закрыть].
После этого разговора он не прожил и пяти лет.
Тогда же, в 1876 году, он встречает в Эмсе своего знакомого – артиллерийского генерала Гана: в Петербурге они вместе лечились сжатым воздухом («сидели под колоколом»).
Естественно, разговор заходит об общих недугах. «Я сказал ему, что и я тоже приговорён и из неизлечимых, и мы несколько даже погоревали над нашей участью, а потом вдруг рассмеялись. И в самом деле, чем больше будем дорожить тем кончиком жизни, который остался, и право, имея в виду скорый исход, действительно можно улучшить не только жизнь, но даже себя – ведь так?»
Он желает извлечь выгоду из своего смертельного недуга: если человек знает, что дни его сочтены, не подтолкнёт ли его такое знание к внутренней нравственной работе, не использует ли он до конца эту последнюю из отпущенных ему возможностей?
Он не может без усмешки говорить о тех рекомендациях, которые предписаны ему докторами для продления жизни: «Всего более заботиться о спокойствии нервов, отнюдь не раздражаться, отнюдь не напрягаться умственно, как можно меньше писать (т. е. сочинять)» и т. д., и т. п. И он добавляет: «Это меня, разумеется, совершенно обнадёжило»[972]972
Русская литература. 1961. № 4. С. 145–146.
[Закрыть].
Ему предлагали жизнь в обмен на отказ от жизни.
Однажды Анна Григорьевна написала ему, что они странные люди: уже десять лет в браке, а всё больше и больше любят друг друга. Он отвечал, что «пророчит» ей ещё через десять лет сказать то же самое. Однако при этом добавлял: «Я по крайней мере за себя отвечаю, но проживу ли 10 лет, за это не отвечаю»[973]973
Переписка. С. 237–238.
[Закрыть].
Анна Григорьевна была более оптимистична: она полагала, что они проживут вместе ещё двадцать пять лет.
Летом 1879 года, в свой последний приезд в Эмс, он опять отправляется к Орту. Доктор находит, что у него «какая-то часть лёгкого сошла с своего места и переменила положение, равно как и сердце переменило свое прежнее положение и находится в другом»: всё это – вследствие эмфиземы. Правда, эмский доктор присовокупил, что сердце совершенно здорово, а все эти перемещения внутренних органов не особенно опасны. «Конечно, – замечает его пациент, – он как доктор обязан даже говорить утешительные вещи, но если анфизема ещё только вначале уже произвела такие эффекты, то что же будет потом?»[974]974
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 106.
[Закрыть]
Он чрезвычайно мнителен – ещё с молодых лет, когда страшился заснуть летаргическим сном и быть похороненным заживо (черта, кстати, общая с Гоголем). Отходя ко сну, он даже оставлял на сей счёт соответствующие письменные указания. Он боится простуды и всяческих зараз; он верит, что в Мюнхене живёт некая «Вундерфрау», которая вылечит его от всех болезней. Он пьёт совсем мало вина и старается соблюдать диету. И при всём этом он как-то совершенно буднично, по-житейски относится к самому страшному своему недугу – эпилепсии.
Когда позволяют средства, он ездит в Эмс: пить «Кренхен» и «Кессельбрунен». Первые дни пребывания на курорте для него мучительны: под действием минеральных вод расстраиваются нервы. «Сплю ночь прескверно, по пяти раз просыпаюсь и каждый раз от кошмаров (всё разных), каждый раз в поту, так что ночью ровно пять раз переодеваю рубашку»[975]975
Там же. С. 285. Или ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 226.
[Закрыть]. Но в общем Эмс всегда ему помогает: отмена очередной поездки летом 1880 года (из-за Пушкинского праздника и «Карамазовых»), возможно, сказалась на его здоровье роковым образом.
В конце 1879 года он посещает двоюродного брата Анны Григорьевны доктора М. Н. Сниткина: просит родственника осмотреть его и определить, насколько успешным оказался летний курс лечения. Сниткин поступил совершенно так же, как и его немецкий коллега: успокоил пациента, заметив, однако, что тот должен быть осторожен. «Мне же, на мои настойчивые вопросы, – говорит Анна Григорьевна, – доктор должен был признаться, что болезнь сделала зловещие успехи и что в своём теперешнем состоянии эмфизема может угрожать жизни. Он объяснил мне, что мелкие сосуды лёгких до того стали тонки и хрупки, что всегда предвидится возможность разрыва их от какого-нибудь физического напряжения, а потому советовал ему не делать резких движений, не переносить и не поднимать тяжёлые вещи, и вообще советовал беречь Фёдора Михайловича от всякого рода волнений, приятных или неприятных»[976]976
Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 361.
[Закрыть].
При всём старании – исполнить последний совет не было никакой возможности.
Он мнителен, сказали мы: это действительно так. Однако при этом он нимало не щадит себя и расстраивает свой и без того потрясённый организм самым немилосердным образом. Его долгие ночные бдения, срочная работа и отсутствие сколько-нибудь продолжительных отвлечений от нескончаемого литературного труда (даже в Эмсе, в 1876 году, он работает над «Дневником писателя», а в 1879-м – над «Карамазовыми») – всё это, разумеется, не способствует укреплению его здоровья. При этом он ещё сетует, что поездка в Эмс обошлась в слишком значительную для него сумму – 700 рублей, «которые очень и очень могли бы быть сохранены для семейства»[977]977
Письма. Т. 4. С. 93. Или ПСС. Т. 30. Кн. II. С. 104.
[Закрыть].
Любопытно, что тема смерти возникает в его письмах исключительно в связи с вопросами о здоровье. Он не любит говорить о ней в глобальном, отвлечённо-философическом плане. И в этом он тоже разительно не похож на Л. Толстого.
Вопрос о смерти с разных точек зрения
Толстой думает о смерти с неослабевающим постоянством. Это один из главнейших, кардинальнейших вопросов, преследующий его во все моменты его духовной деятельности. Для него эта проблема не есть что-то раз и навсегда решённое – в религиозном, философском или ещё каком-либо смысле: он решает её для себя лично, и каждый раз как бы заново.
Страх небытия – одна из существеннейших констант в мире Толстого. Это чувство всегда – явно или незримо – присутствует на страницах его художественной и публицистической прозы, его писем и дневников. «Смерть Ивана Ильича» – лишь одно из наиболее сильных воплощений этой неотвязной думы.
У Достоевского нет этого специфического интереса. Он почти никогда (за редким исключением) не изображает умирания – во всяком случае, как процесс. Сцены смерти – Мармеладова и Катерины Ивановны в «Преступлении и наказании» или Степана Трофимовича в «Бесах» – художественно очень значительны; однако изображаемые в них события являются скорее сюжетными кульминациями, нежели предметом особого художественного любопытства. В отличие от Толстого (вспомним сцены смерти Андрея Болконского или Ивана Ильича), Достоевский никогда не даёт самосознания умирающего (однако подробнейшим образом исследует самосознание приговорённого к смертной казни).
Героев Достоевского занимает не столько вопрос о смерти, сколько – о бессмертии. От того или иного ответа на него зависит отношение этих героев к миру и к самим себе. Именно бессмертие – тот стержень, вокруг которого вращаются все «карамазовские» разговоры; с постоянной внутренней оглядкой на этот предмет действуют главные персонажи его главных романов. Даже его самоубийцы лишают себя жизни, отталкиваясь от идеи бессмертия или споря с ней.
Сама смерть – как момент перехода от бытия к небытию – мало занимает Достоевского. У него нет связанной с этим событием мучительной рефлексии – то есть того, что так характерно для Толстого. У него совершенно отсутствует острый толстовский интерес к таинству смерти. Он воспринимает мысль о неизбежности собственной кончины без леденящего душу «арзамасского» ужаса: он воспринимает её, можно сказать, буднично.
Несмотря на почти шекспировское обилие смертей в его романах (намного превышающее «смертность» в романах Толстого), он не задерживается на аксессуарах: чаще всего просто сообщается о факте. Так же относится он и к возможности собственного конца: он говорит о нём без трагического надрыва, без выхода во «вселенские бездны», а удивительно спокойно, конкретно, по-житейски.
Такой практический подход к прекращению личного существования соответствует устойчивым, исконно народным воззрениям, уходящим в глубь веков. «На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь», – усмешливо говорит народная мудрость.
Толстого, постоянно «замкнутого» на этой проблеме, она занимает прежде всего в соотнесении с его собственной личностью. Его бесконечно волнует, что будет с ним, и в значительно меньшей мере, что – после него.
Один из современников вспоминает: «Высокопочтенный Лев Николаевич последние годы имел слабость охотно беседовать о смерти… я заметил ему как бы для утешения, с какой стати он так занят этим вопросом о смерти, когда он за свои великие труды уже бессмертен при жизни и будет таковым же после смерти! На что он мне ответил: “Да я-то не буду ничего чувствовать и сознавать”»[978]978
Янжул И. И. Страх смерти. Разговор с графом Л. Н. Толстым. Санкт-Петербург, 1904. С. 4.
[Закрыть].
Достоевский всегда, когда он упоминает о собственной смерти, говорит о судьбе близких.
В августе 1879 года он пишет Победоносцеву из Эмса: «Я здесь сижу и беспрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, ну через год или через два, и что же станется с тремя золотыми для меня головками после меня?»[979]979
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. II. С. 104.
[Закрыть] «Предоставьте их Богу, и себя не смущайте»[980]980
Литературное наследство. Т. 15. С. 139.
[Закрыть], – назидательно отвечает ему будущий обер-прокурор Святейшего синода; вряд ли, однако, этот универсальный совет доставил адресату чаемое утешение.
«Надо копить, Аня, надо оставить детям, мучает меня эта мысль всегда наиболее, когда я приближусь лично к коловращению людей и увижу их в их эгоизме…»[981]981
Переписка. С. 278.
[Закрыть] – пишет он жене за две с половиной недели до упомянутого письма Победоносцеву. И повторяет вновь и вновь: «Я всё, голубчик мой, думаю о моей смерти сам (серьёзно здесь думаю) и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего»[982]982
Там же. С. 303.
[Закрыть].
В эту последнюю заграничную поездку грустные мысли посещали его чаще, чем обычно. Он думает о том, как обеспечить детей, ибо знает, что такое нужда, знает цену независимости. Он говорит, что надо «копить» – не для себя, для других. Материальный достаток расценивается как средство, как орудие борьбы и самозащиты.
Толстого не заботит материальное положение семьи – каким оно может стать после его кончины. Исходя из своих убеждений, он делает всё возможное, чтобы не только плоды его духовной деятельности, но, так сказать, и материальные выгоды от реализации этих плодов принадлежали всем. Нелепо упрекать Толстого за подобное желание. Но столь же нелепо утверждать, что в своей «завещательной политике» автор «Братьев Карамазовых» более «буржуазен», нежели автор «Войны и мира».
Ещё в 1873 году Достоевский дарит литературные права на все свои произведения Анне Григорьевне. Толстой незадолго до смерти лишает семью подобных прав.
И в том и в другом акте была своя логика.
Достоевский прекрасно знал, что кроме его произведений у его жены и несовершеннолетних детей нет и не может быть никаких иных источников существования: он (живой или мёртвый) – их единственный кормилец.
Все дети Толстого были уже взрослыми и вели жизнь от него независимую. Все они обладали наследственным правом на недвижимость. Кроме того, Толстой был признан всем миром, и не возникало ни малейших сомнений, что в обозримом будущем его произведения будут переиздаваться неисчислимо. У Достоевского такой уверенности не было.
Толстой не желал делать своих детей миллионерами. Достоевский не хотел оставлять их нищими.
Описывая жене свой московский триумф, Достоевский говорит: «Согласись, Аня, что для этого можно было остаться (на открытие памятника. – И.В.): это залог и будущего, залог и всего, если я даже умру»[983]983
Там же. С. 347.
[Закрыть]. Под «всем» разумеется не только посмертное признание, но и то будущее обеспечение, на которое теперь может рассчитывать его семейство. Он думает о судьбе близких даже в эту счастливейшую для него лично минуту…
Его последние слова были: «Бедная… дорогая… с чем я тебя оставляю… бедная, как тебе тяжело будет жить!»[984]984
Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 377.
[Закрыть]
Предчувствовал ли он свою близкую кончину?
В уже приводившемся письме 1879 года Победоносцеву он говорит, что умрёт «через год или через два». Ему оставалось жить полтора года.
Его письмо Гусевой – со словами «дни мои сочтены» – написано 15 октября 1880 года: оставалось три с половиной месяца.
28 ноября 1880 года он пишет брату Андрею Михайловичу – в ответ на пожелания здоровья, что они, эти пожелания, имеют мало шансов осуществиться: «…вряд ли проживу долго; очень уж тягостно мне с моей анфиземой переживать петербургскую зиму». Он говорит о том, что при его обстоятельствах, при его работе сберечь здоровье практически невозможно, и добавляет: «Дотянуть бы только до весны и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскрешает»[985]985
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 229.
[Закрыть].
Это его последнее письмо младшему брату: увидеться им уже не суждено…
В кругу семейственном
Он всегда очень серьёзно относился к своим родственным обязанностям. В 1864 году он берёт на себя долги своего покойного старшего брата Михаила Михайловича – эта ноша висит на нём почти до самого конца. Он помогает вдове брата и её детям. Он помнит слово, данное первой жене Марии Дмитриевне, – и долгие годы поддерживает своего великовозрастного пасынка Пашу Исаева – даже тогда, когда тот уже вполне может содержать себя собственным трудом.
Он любит принимать и угощать своих родственников, заботясь о кушаньях повкуснее и винах получше. «Он был в таких случаях очень любезен, – пишет его дочь, – выбирал для бесед темы, которые могли интересовать, смеялся, шутил и иногда даже соглашался играть в карты, хотя не любил карточной игры»[986]986
Достоевская Л. Ф. С. 85.
[Закрыть].
В «Преступлении и наказании» Родион Раскольников говорит матери и сестре: «Да что вы все такие скучные!.. скажите что-нибудь! Что в самом деле так сидеть-то! Ну говорите же! Станем разговаривать… Собрались и молчим… ну что-нибудь!» Анна Григорьевна удостоверяет, что именно эти слова произносил её муж, когда, бывало, собравшиеся у них родственники молча внимали его речам, но сами отнюдь не поддерживали общей беседы[987]987
Семинарий по Достоевскому. С. 57.
[Закрыть]. Создаётся впечатление, что Достоевскому его роль хозяина давалась не без некоторых усилий: искренне желая быть «как все» (подыскиванье общих тем и готовность к нелюбимой – в отличие от рулетки – карточной игре), он всё же не может отрешиться от своего естества, решительно завладевает беседой и, может быть, уносится в такие эмпиреи, которые смущают оробевших слушателей.
Он регулярно посылает – когда три, когда пять, когда десять рублей – своему вечно нуждавшемуся младшему брату Николаю Михайловичу. Анна Григорьевна аккуратно (и, надо полагать, тайком от мужа) заносит эти суммы в свои записные тетради (труд совершенно напрасный, ибо деньги эти, разумеется, никогда не будут возвращены опустившимся, болезненным, склонным к спиртному родственником).
Весной 1880 года, на Пасху, он пишет Николаю Михайловичу, которого любил и жалел: «Вот уже год, как мы не видались. Не знаю, что это значит: система ли у тебя такая взята или что-нибудь другое. Между тем жизнь наша на конце и до того, что, право, некогда прилагать на практику даже самые лучшие системы. Я всегда помню, что ты мне брат…»[988]988
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 151.
[Закрыть]
Он выговаривает как старший младшему – наставительно и сурово. «Жизнь наша на конце» – словно он забыл о том, что брат моложе его на целых десять лет (впрочем, Николай Михайлович переживёт его ненамного).
В первый день нового, 1881 года его любимая сестра Варвара Михайловна пишет ему из Москвы:
«Письмо твоё, милый брат, меня сильно порадовало, такое оно хорошее, задушевное и любящее, что я и не знаю, как благодарить тебя за него и за любовь твою ко мне. Ты один вспомнил обо мне 4 декабря. Все мы разбросаны в разных городах и живём, точно чужие <…>
Что же ты, мой милый, расхворался. Верно, это от усталости и бессонных ночей и от мнительности <…>
Крепись и мужайся, милый мой братику, ведь мы с тобой не Бог знает какие старики. Бог даст поживём. В декабре читала в “Современных известиях” восторженную похвалу о тебе по поводу студенческого вечера, в котором ты участвовал и на котором тебе поднесли венок. Что-то ты делаешь с этими венками. Я бы на твоём месте все эти венки повесила в кабинете на память, чтобы дети, взирая на них, гордились своим папашей. Я думаю, милые Ваши деточки очень интересуются этими овациями и верно всякий раз спешат прочесть в газетах, как восхваляют их папашу <…>»[989]989
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29736.
[Закрыть].
Письмо Достоевского, о котором упоминает его сестра, до нас не дошло. Но, как явствует из текста Варвары Михайловны, это послание содержало не только поздравления с днём ангела: брат писал о своём ухудшающемся здоровье и, возможно, о близости конца.
Да, в эту последнюю осень он чувствует свои сроки. Никогда ранее не высказывался он на этот счёт с такой пугающей определённостью. В августе 1879 года он ещё надеется на год-два жизни; в октябре 1880-го говорит: «Дни мои сочтены».
«Ну вот и кончен роман!»
А между тем – казалось бы, в полном разладе со своими печальными мыслями – он приступает к делу, задуманному не на день и не на два, но требующему долгих многомесячных усилий. Он объявляет о возобновлении с января 1881 года своего периодического «Дневника писателя».
Ежемесячный (не менее двух печатных листов в каждом выпуске) «Дневник» – это снова работа на износ, работа к сроку, не позволяющая сделать хоть сколько-нибудь значительного перерыва. Это опять ежедневные диктовки Анне Григорьевне, правка корректур, хлопоты с типографией, неприятности с цензурой. Это, наконец, новая волна читательских писем – со всех концов России.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.