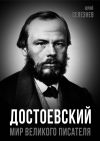Текст книги "Последний год Достоевского"
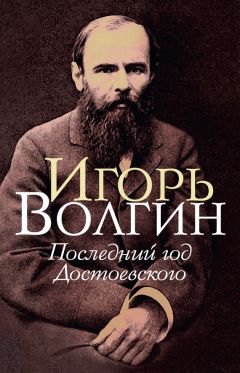
Автор книги: Игорь Волгин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 44 страниц)
Они делают это по-разному, но общая направленность их усилий несомненна.
По странной прихоти судьбы жизненный финал Достоевского пришёлся на то самое время, когда другой его великий современник переживал глубочайший духовный кризис, который разломит его долгую жизнь надвое и в конце концов сделает его тем, кем он – помимо своих чисто художественных заслуг – будет принудительно утверждён в памяти потомства: представителем русского патриархального крестьянства.
Несостоявшийся диалог
Вспомним их невстречу 10 марта 1878 года (на лекции Владимира Соловьёва). Оценивая выше мотивы, по каким Страхов их не познакомил, мы намеренно опустили один – может быть, самый главный.
Ибо нельзя исключить, что инициатором незнакомства был не кто иной, как сам Лев Николаевич Толстой.
На протяжении почти четверти века они пристально всматриваются друг в друга, однако не предпринимают ни малейших попыток к сближению. Это представляется невероятным и загадочным, особенно если учесть, что каждый из них, как уже говорилось, знаком практически со всеми сколько-нибудь значительными писателями своего времени и что возможности для их личных контактов были не столь уж ничтожны.
Ни Толстой, ни Достоевский не желают делать первого шага. Достоевский – по соображениям «иерархическим»: в глазах современников (и отчасти – в своих собственных) он стоит «ниже» автора «Войны и мира».
Мотивы Толстого имеют более сложный характер.
Написав в 1878 году примирительное письмо Тургеневу, Толстой совершает это с высоты своего уже почти недосягаемого величия. Он может себе позволить такой великодушный жест не только потому, что время обескровило старые обиды, но и потому, что в глубине души он не может не сознавать: у них с Тургеневым – разные поприща. Они не то чтобы несопоставимы, а просто в их духовной деятельности обнаруживается не так уж много общих точек для спора «о главном».
Мог ли он думать так о Достоевском?
Чехов говорил Бунину, что особенно его восхищает в Толстом – это его презрение ко всем прочим писателям, «или, лучше сказать, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто»[1108]1108
Бунин И. А. Из литературных воспоминаний. СС в 5 тт. Т. 5. Москва, 1956. С. 271.
[Закрыть]. Толстой иногда хвалит Мопассана, Куприна, того же Чехова. А вот Шекспир его раздражает.
Нетерпимый к чужому, но обладающий при этом гигантской художественной интуицией, Толстой не мог не чувствовать творческой мощи своего старшего (сам он моложе Достоевского на семь лет) современника. Интересно, что при ровном, в общем, отношении к таланту Тургенева Толстой оценивает писательский дар Достоевского очень неоднозначно и зачастую – противоречиво.
Как помним, Страхов не сказал Достоевскому о том, что на лекции Владимира Соловьёва присутствует Толстой. Но сообщил ли он своему спутнику о присутствии Достоевского? Думается, ему было бы затруднительно не известить автора «Анны Карениной» (только что пристрастно разобранной в «Дневнике писателя») об этом обстоятельстве.
Но если так, то просьба Толстого не обременять его знакомством с кем бы то ни было выглядит как попытка в деликатной форме отклонить знакомство именно с Достоевским.
Высказав через много лет искренние сожаления Анне Григорьевне, что ему не довелось познакомиться с её покойным мужем, Толстой, разумеется, уже не помнил своих тогдашних мотивов.
Чего же мог опасаться Толстой?
Вряд ли его смутили бы те критические замечания в адрес его последнего романа, которые, как было сказано, появились на страницах «Дневника писателя». Тем более что в том же «Дневнике» роману в целом дана чрезвычайно высокая оценка.
Толстой мог опасаться другого. Он знает: только с Достоевским возможен разговор на равных. Но, может быть, именно поэтому он старается его избежать.
Глубоко захваченный переживаемым им духовным переворотом, всеми силами стремясь утвердиться в своём новом, пока ещё не «затвердевшем» миропонимании, он инстинктивно отстраняет от себя всё, могущее поколебать эту рождающуюся в муках веру. Встреча (и неизбежное духовное противоборство) с таким могучим оппонентом, как автор «Дневника», грозит разрушить целостность столь трудно воздвигнутого толстовского мира, потрясти его сокровенные основы.
Он просит Страхова ни с кем его не знакомить.
Существовала ещё одна возможность: Пушкинский праздник. Но, как уже говорилось, Толстой не принял приглашения почтить Москву своим присутствием. Миссия Тургенева, посетившего весной 1880 года Ясную Поляну в качестве парламентёра, успеха не имела.
«…Тургенева этот отказ так поразил, – пишет первый и хорошо осведомлённый биограф Толстого, – что когда после Пушкинского праздника Фёдор Михайлович Достоевский собирался приехать из Москвы к Льву Николаевичу и стал советоваться об этом с Тургеневым, тот изобразил настроение Льва Николаевича в таких красках, что Достоевский испугался и отложил исполнение своей заветной мечты»[1109]1109
Л. Н. Толстой. Биография. Составил П. Бирюков. По неизданным письмам и материалам. Т. 2. Часть V. Москва, 1908. С. 398. Ср.: «Если верить г. Незнакомцу, то граф Толстой выслушал Тургенева и сказал, будто бы, что всё это комедия» (Дело. 1880. Июль. С. 107).
[Закрыть].
Действительно ли «испугался» Достоевский и была ли его мечта на самом деле «заветной» – об этом судить трудно. Легче представить, в каких именно красках изобразил Тургенев настроение Толстого.
Достоевский пишет Анне Григорьевне из Москвы: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошёл и даже может быть совсем сошёл»[1110]1110
Переписка. С. 326.
[Закрыть].
Таким образом, первичная информация действительно исходила от Тургенева. Последний был весьма уязвлён отказом Толстого и попытался объяснить причины этого отказа по-своему (подразумевалось, что человек в здравом уме не смог бы отказать ему, Тургеневу).
Впрочем, «предостерегал» не только неудачливый посетитель Ясной Поляны. «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался, – сообщает Достоевский Анне Григорьевне и продолжает: – Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно, менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было»[1111]1111
Там же. С. 327.
[Закрыть].
«Любопытно» не потому, что автор «Войны и мира» якобы «сошёл с ума»: как раз наоборот. В словах Достоевского можно усмотреть сугубое недоверие к слухам, роящимся вокруг Толстого, желание лично удостовериться – что же на самом деле совершается в духовном мире Ясной Поляны.
Результаты этих свершений станут вскоре достоянием всего мира. Но покамест к откровениям новой веры допущены лишь немногие.
Одна из таких посвящённых – двоюродная тётка Толстого графиня Александра Андреевна.
Женщина умная и независимая, графиня Толстая была на одиннадцать лет старше своего знаменитого племянника. Почти всю свою долгую жизнь (графиня умерла в 1904 году, без малого восьмидесяти семи лет) она провела при дворе: сначала в звании фрейлины великих княгинь, затем – камер-фрейлины императрицы. Она жила в Зимнем дворце, являя собой именно тот самый высший свет, от которого всё решительнее отвращался её яснополянский родственник и корреспондент.
Они переписывались: именно этой перепиской горячо заинтересовался Достоевский.
Графиня А. А. Толстая познакомилась с автором «Карамазовых» за две или три недели до его кончины. «Лев Николаевич, – вспоминает она, – его страшно интересовал. Первый его вопрос был о нём:
“Можете ли вы мне истолковать его новое направление? Я вижу в этом что-то особенное и мне ещё непонятное”»[1112]1112
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903. Санкт-Петербург, 1911. С. 25.
[Закрыть].
«Истолковать» Толстого графине Александре Андреевне было не так просто – тем более что она ни в коей мере не разделяла его новых убеждений. Тогда Достоевский попросил у неё какой-нибудь толстовский текст.
Она обещала дать ему для прочтения одно из писем.
Достоевский явился к графине в назначенный час[1113]1113
Анна Григорьевна утверждает, что посещение её мужем Толстой состоялось «за два-три дня до его предсмертной болезни» (Яснополянский сборник. 1981. С. 220). Но в письме от 17 января А. А. Толстая уже сообщает Толстому о передаче письма (она несколько взволнована, не зная, как отнесётся к этому его автор) (Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 332–333). Сохранилось письмо Достоевского к А. А. Толстой от 5 января 1881 г., где он сообщает последней, что будет «иметь честь» явиться к ней «в будущее воскресенье», то есть 11 января (Письма. Т. 4. С. 234). В этот день, очевидно, и произошла передача письма.
[Закрыть]. Александра Андреевна прочитала письмо вслух. «Вижу ещё теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: – «Не то, не то!..»
Не прошло и трёх недель, как вдова Достоевского встретила А. А. Толстую у гроба своего мужа. И – поблагодарила её за тот вечер. «Это было его последнее удовольствие»[1114]1114
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 26.
[Закрыть], – прибавила Анна Григорьевна.
Думается, однако, что собеседник графини Толстой испытывал не только чувство удовольствия от общения с умной женщиной. Письмо Толстого сильно его смутило: он попросил себе копию[1115]1115
Подробнее см.: Коган Г. В. Достоевский знакомится с письмом Толстого // Яснополянский сборник. 1981. С. 220.
[Закрыть]. «Из некоторых его слов, – пишет Александра Андреевна, – я заключила, что в нём родилось желание оспаривать ложные мнения Л<ьва> Н<иколаевича>»[1116]1116
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 26.
[Закрыть].
Такое желание у Достоевского несомненно возникло. Однако каким способом он мог бы его осуществить? Выступить в «Дневнике писателя»? Это было неудобно: автору пришлось бы оспаривать положения, изложенные в частном письме. Написать самому Толстому? Это был трудный, но, пожалуй, приемлемый выход.
Некоторые предпосылки для такого прямого диалога уже имелись.
В приводившемся выше письме Страхову (где Толстой говорит, что «Записки из Мёртвого дома» – лучшая книга «изо всей новой литературы») есть фраза: «Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю»[1117]1117
Толстой Л. Н. ПСС. Т. 63. С. 24.
[Закрыть].
Первую попытку к личному сближению предпринял всё-таки Толстой: он просит передать свои слова их адресату.
Графиня А. А. Толстая, сообщая племяннику о том, что она отдала его письмо Достоевскому, замечает: «Он со своей стороны любит Вас…»[1118]1118
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 332.
[Закрыть]
Итак, почва для их знакомства была уготована. Но помимо острого личного интереса, подталкивающего их друг к другу, существовали мощные глубинные влечения, делавшие эту встречу необходимой и исторически неизбежной.
К 1881 году все духовные устремления истекающего столетия дошли «до какой-то окончательной точки».
Умственное и нравственное движение полутора веков, начальный толчок которому был дан петровскими преобразованиями, завершилось «колоссальным явлением Пушкина»; как справедливо замечено, он был ответом на вызов, брошенный России Петром. С Пушкиным нравственное лицо нации обрело определённость: дух нашёл выражение в Слове. Это Слово было зачинающим и завершающим одновременно. Нация осознала себя в зрелых, классически прекрасных формах. Было положено основание новой культуре: последней, однако, пришлось столкнуться с такими явлениями, которые ее зачинатель, возможно, предвидел, но на которых в силу определённых причин не заострял внимания.
Пушкину важно было разобраться в общем ходе истории, выяснить место человека в системе мировых координат, не подвергая это место сомнению и не отрицая тех очевидностей, с которыми имеет дело целостное, здоровое, не разъедаемое мучительной рефлексией сознание. Пушкин свободно приемлет течение общей жизни. Его цыганы и его Татьяна сопричастны некой жизненной правде, существующей как их неотъемлемое достояние. Алеко и Онегин, наоборот, отторгнуты от неё: их самоотпадение от внутреннего протекания жизни выбрасывает их «во тьму внешнюю».
Пушкин во всеуслышание поименовал добро и зло и развёл их по разным углам. Он не стал углубляться в сложную диалектику причин и следствий: иначе он не успел бы исполнить своей исторической миссии. Пушкинская вселенная гармонична и упорядочена, как вселенная Ньютона. Она лишь подозревает в себе и вне себя «миры иные», намекает на них, но не входит с ними в прямое соприкосновение.
После Гоголя, Толстого и Достоевского пушкинская гармония стала «частным случаем» вновь открытого нравственного миропорядка (оставаясь в то же время недосягаемым образцом и мерой). Рядом с ней воздвигалась и получила художественную санкцию дисгармония, где добро и зло причудливо меняются местами и где смысл жизни уже не совпадает с нею самой.
В мир было внесено новое знание о человеке: он предстал более многомерным и, как это ни печально, – более уязвимым для зла. Незыблемые прежде истины оказались под угрозой. Более того: была подвергнута сомнению сама мировая целесообразность.
Толстого и Достоевского занимает уже не только связь человека с другими людьми, с природой или историей: они желают «окончательно» выяснить его отношения с Богом и с самим собой.
Пьер Безухов и Андрей Болконский, Родион Раскольников и Иван Карамазов хотели бы – положим, в различной степени – не только «вписаться» в мир, но и привести его в соответствие со своими о нём представлениями. Другой вопрос – как это у них получается. Человек хочет самоопределиться – не «вообще», а применительно к тем «последним глубинам», о которых он догадывается и которых страшится. И в этом своём самоопределении он желает быть абсолютно свободным.
В России потребность такого самоопределения ощущалась особенно остро.
К исходу семидесятых годов вековые религиозные представления были поколеблены: вера, казалось, должна была пошатнуться под ударами новейшего естествознания. С другой стороны, модный недавно позитивизм уже терял свою притягательную власть: его толкования выглядели слишком элементарными. Ни традиционная религия, ни новейшая наука не могли восстановить утраченного душевного равновесия.
Глубокий кризис переживало и русское политическое сознание. Ни западникам, ни славянофилам не удалось отыскать формулы, могущей «без нажима» объять прошлое России, её настоящее и будущее и примирить различные общественные устремления. Государственная власть также оказалась неспособной предложить сколько-нибудь приемлемую для интеллигентного общества идеологию.
Русская радикальная мысль – от декабристов до народников – претерпела сильнейшую эволюцию. Начав с попыток улучшить наличное политическое устройство, она всё более влеклась к пересозданию общей жизни («дешевле не примиримся»). Русская революция, заявляя конкретные политические требования, по своему внутреннему духу делалась всё более всемирной. Её нравственный порыв был устремлён к отысканию «последних» истин; в ней самой был заключён глубокий онтологический смысл[1119]1119
Подробнее см.: Игорь Волгин. Доказательство от противного (Достоевский и вторая революционная ситуация в России) // Вопросы литературы. 1976. № 9. См. также: Возвращение билета. С. 196–233.
[Закрыть]. Разговор братьев – Алёши и Ивана Карамазовых – в проплёванном скотопригоньевском трактире свидетельствовал о том, что промежуточные решения уже неприемлемы: от «проклятых вопросов» нельзя было отделаться при помощи уклончивых силлогизмов.
Предсмертный сон Льва Николаевича Толстого
Толстой и Достоевский – каждый по-своему – сумели почувствовать жажду, владевшую лучшей частью русской интеллигенции. Они осознали, что «окончательное» мировое решение неотделимо от нравственного выбора самого человека. Но к одной и той же цели они направились с противоположных концов.
Толстой стремится дать рациональное обоснование этики. Он полагает, что при помощи строгих логических операций возможно не только объяснить, но и исправить всю алогичность бытия. При этом автор «Исповеди» рассчитывает исключительно головным путём доказать необходимость, значимость и даже приоритет жизни сердечной.
Однажды А. А. Толстая сообщила в Ясную Поляну о постигших её тяжёлых утратах. «Очень жаль, – отозвался её корреспондент, – что Вы всё грустите. Дай Бог Вам такого душевного состояния, в котором бы как можно легче переносилось всякое горе. Горе и радость в нас».
Это сентенциозное утешение слабо успокоило графиню Александру Андреевну. «Теория ваша насчёт смерти близких справедлива, – отвечает она Толстому, – но трудно доказать сердцу, которое болит, что оно не болит»[1120]1120
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 332, 333.
[Закрыть].
Достоевский не занимается такого рода доказательствами. Он не пытается уверить себя, что «горе и радость в нас» – и переживает то и другое чрезвычайно бурно и болезненно.
Автор «Преступления и наказания» любит демонстрировать, как, казалось бы, непогрешимая логика терпит крах при соприкосновении с «живой жизнью». «Нерассуждающая» Сонечка Мармеладова пересиливает (об этом уже говорилось выше) такого блестящего диалектика, как Раскольников. Не проронивший вообще ни единого слова герой Легенды о великом инквизиторе молча целует в уста другого диалектика, не менее изощрённого, чем Раскольников: победа, по-видимому, остаётся за этим несловоохотливым персонажем. (Недаром Алёша говорит Ивану, что его поэма – не хула, а хвала Иисусу.)
Для Достоевского рассудок не есть нечто, стоящее над жизнью; сам по себе он не может служить последней и окончательной инстанцией в мировом споре. Отсюда не следует, что автору «Карамазовых» присуще какое-то сугубое недоверие к возможностям человеческого познания. Как раз наоборот. Проникая в тайники интуитивной жизни, Достоевский выводит эту жизнь «из-за кулис», делает её проницаемой. Его художественный метод не только раздвигает границы познанного, но и обогащает само познание. Если у Достоевского действительно заметно недоверие к «голому» рационализму, то это скорее неприязнь к неполному, усечённому разуму, к уверенному в своей непогрешимости самодовольному и самодостаточному рассудку.
Однако столь же неверно рассматривать Толстого как «чистого» рационалиста. Художественная интуиция автора «Войны и мира» не уступает интуиции Достоевского. Его рационалистические постижения во многом обусловлены именно этим даром. Вообще оппозиция «рационалист/интуитивист» применительно к художникам такого масштаба очень условна и требует постоянной корректировки.
Но вернёмся к вопросу, почему всё-таки Достоевский, слушая письмо Толстого, хватался за голову и восклицал «отчаянным голосом»: «Не то, не то!»?
Как помним, графиня Александра Андреевна читала своему гостю это письмо вслух. «Странно сказать, – вспоминает она, – но мне было почти обидно передавать ему, великому мыслителю, такую путаницу и разбросанность в мыслях»[1121]1121
Там же. С. 26.
[Закрыть].
«Разбросанность в мыслях» действительно имеет место.
Толстой говорит, что он не приемлет тот символ веры, который исповедует официальная Церковь: «…Верить в то, что мне представляется ложью, – нельзя… Это есть кощунство и есть служение Князю мира»[1122]1122
Там же. С. 327.
[Закрыть]. Толстой бросает вызов всей ортодоксальной церковной традиции. Он исполнен презрения ко всякой силе, посягающей на свободу духа.
Вряд ли автора «Карамазовых», чья собственная вера прошла «через горнило сомнений», способны были смутить эти толстовские слова. Насторожить его могло другое.
Призывая свою корреспондентку встать на его точку зрения, автор письма советует ей посмотреть, крепок ли тот лёд, по которому она ходит, а если не крепок – попробовать пробить его. «Если проломится, то лучше идти материком». «Материк» есть истина, та первооснова, которая скрыта под всяческими наносами.
«Но и вам уже учить меня нечему, – продолжает Толстой. – Я пробил до материка всё то, что оказалось хрупким, и уже ничего не боюсь, потому что сил у меня нет разбить то, на чём я стою; стало быть, оно настоящее».
Сомнительно, чтобы подобный поворот мысли мог импонировать Достоевскому.
Раскольников и Иван Карамазов тоже, как им кажется, «пробивают до материка». Однако эта их личная уверенность (уверенность в своей абсолютной правоте) не спасает их от мучительных падений и катастроф. Толстой утверждает, что он прав, потому что у него нет сил разбить то, к чему он в конце концов пришёл: «Стало быть, оно настоящее». Но, согласно такой логике, «оно» – настоящее только потому, что индивидуальный разум исчерпал свои возможности и не в силах следовать дальше. Именно этот «уединённый» разум – неважно, в прозрении или в самоослеплении – становится последней инстанцией, чей приговор обжалованию не подлежит.
Сознание «я» оказывается истиннее не только сознаний всех других «не-я», но и больше всего совокупного человеческого опыта.
Если принять во внимание точку зрения Л. Оболенского, который, как помним, утверждал, что Достоевский выражает миросозерцание «серых зипунов» во всей его целости – «без урезок и ампутаций», то становится более понятным, почему автору «Карамазовых» были несимпатичны религиозные искания Толстого. По мнению Достоевского, рационалистический пересмотр христианства чужд и неприемлем прежде всего для массы «серых зипунов». Толстой противополагает новую «головную» веру тысячелетним народным верованиям, индивидуальный разум – разуму соборному и, что ещё хуже, соборному нравственному чувству. В этом своём качестве Толстой мог представляться Достоевскому «гордым человеком»: едва ли не таким же оторванным от родной почвы скитальцем, как и Алеко.
Но, конечно, сильнее всего должно было потрясти Достоевского непризнание Толстым божественности Христа.
«Если бы он это был, – говорит Толстой, – он бы сумел сказать»[1123]1123
Там же. С. 328, 329.
[Закрыть]. Однако в проповеди самого Иисуса, как полагает Толстой, нет прямых указаний на его божественное происхождение.
Этот пункт очень существен для Достоевского. И – очень личен. Христос – мера истины и мера красоты: именно сам Христос, а не только его учение (то есть та сумма заповедей, которые Толстому как раз и представлялись наиважнейшими). Само жизнеповедение Иисуса из Назарета, его страдание, искупительный смысл его жертвы – всё это для Достоевского не менее значимо, чем мысли, изложенные в Нагорной проповеди.
Толстой замещал Богочеловека персонажем, более похожим на человекобога: идея, Достоевскому ненавистная, осуждённая и отвергнутая ещё в «Бесах».
Непризнание божественности Иисуса уничтожало вселенский смысл образа: миф превращался в информацию.
Когда-то он писал Фонвизиной, что если б ему доказали, «что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа», то ему «лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»[1124]1124
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Книга I. С. 176.
[Закрыть].
Следует вдуматься в эти удивительные слова.
Достоевский допускает (пусть теоретически), что истина (которая есть выражение высшей справедливости) может оказаться вне Христа: в таком случае сам Христос как бы оказывается вне Бога. И Достоевский предпочитает остаться «со Христом», если вдруг сама истина не совпадает с идеалом красоты. Он предпочитает остаться с человечностью и добром, если «истина» по каким-либо причинам оказывается античеловечной, арифметической.
Красота и истина для Достоевского неразделимы: он не желает жертвовать одним ради другого. Толстой в любом случае хотел бы остаться «с истиной».
«Я потом часто спрашивала себя, – говорит А. А. Толстая, – удалось ли бы Достоевскому повлиять на Л. Н. Толстого? Думаю, едва ли»[1125]1125
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 26.
[Закрыть].
Графине Александре Андреевне нельзя отказать в проницательности. Личности Толстого и Достоевского столь громадны и столь различны по своему складу, что вряд ли уместно говорить о прямой интеллектуальной зависимости. Но следует сказать об их напряжённой моральной связи и – о полноте русской жизни, которая без Толстого или без Достоевского оказалась бы бесконечно беднее.
«Я никогда не видал этого человека, – писал Толстой Страхову (выходит, не показал-таки его Николай Николаевич на той лекции – хотя бы издалека! – И.В.) – и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек».
Толстому незачем лукавить. Теперь, после смерти Достоевского, он «вдруг» осознал их духовное родство: это действительно так, если иметь в виду направленность их пути. Смерть одного из них сняла вероятность спора: осталось лишь сожаление, что встреча не произошла.
«И никогда мне в голову не приходило меряться с ним, никогда, – продолжает Толстой (энергически повторенное отрицание как будто указывает на то, что мысль эта всё же могла являться – невольно. – И.В.). – Всё, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше». Оговорка в скобках подразумевает несогласие с «ненастоящим». Толстой, впрочем, избегает деталей.
«Искусство, – говорится далее в письме, – вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца – только радость». Можно предположить, что ни литературный дар Достоевского, ни его «ум» в настоящем случае не принимаются в расчёт. Радость вызывает лишь «дело сердца». Искусство странным образом оказывается от этого дела отделённым.
«Я его так и считал своим другом, – продолжает Толстой, – и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это моё. И вдруг читаю – умер! Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу»[1126]1126
Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 267–268.
[Закрыть].
У Толстого нет ни малейшего сомнения в том, что рано или поздно они бы встретились: «теперь только не пришлось, но это моё». «Это моё», – мог бы сказать в свою очередь и Достоевский. Это было их общее, ибо каждый из них мысленно уже пережил грядущую встречу. И не потому ли Толстой – может быть, неожиданно для себя – говорит: «опора какая-то отскочила от меня», что он «теперь» с горечью ощутил своё духовное одиночество? Не осознал ли он, что в «деле сердца» он отныне остаётся один?[1127]1127
3 февраля 1881 года С. А. Толстая пишет сестре – о муже: «Его и всех нас ужасно поразила смерть Достоевского. Только что стал так известен и всеми любим, как умер. Лёвочку это навело на мысль о его собственной смерти, и он стал как-то сосредоточеннее и молчаливее»[1524]1524
Цит. по кн.: Л. Н. Толстой. Биография… Т. 2. Часть V. С. 380.
[Закрыть]. Если Толстой действительно не мерился с Достоевским жизнью, то теперь, во всяком случае, меряется смертью.
[Закрыть]
…Графиня Александра Андреевна тщательно переписала для Достоевского письмо Толстого. По рассеянности она вложила в копию и текст подлинника. Следовательно, за несколько дней до смерти оригинал толстовского письма лежал у него на столе.
Жизнь воистину сценарна. В последние дни Толстого на его столе оказался том «Братьев Карамазовых» – последнее его чтение. Навсегда покинув Ясную Поляну, Толстой просит послать ему вдогонку эту книгу, но так и не успевает её получить.
Они помнят друг о друге в свой последний час.
И тут на сцену вновь выступает Николай Николаевич Страхов.
За сутки до ухода из Ясной Поляны Толстой записывает в дневнике: «Видел сон. Грушенька, роман, будто бы, Ник. Ник. Страхова. Чудный сюжет». И – в записной книжке – уже в Оптиной пустыни: «Роман Стр(ахова) Грушеньк(а) – экономка»[1128]1128
Толстой Л. Н. ПСС. Т. 58. С. 123, 235.
[Закрыть]. Это последняя «творческая» запись Толстого.
Что Толстой видит во сне Грушеньку – неудивительно: ему снится героиня того самого романа, который он в эти дни перечитывает. Трудно усмотреть что-то исключительное и в том, что пригрезился покойный Страхов. И даже не столь поражает, что всё это фантастическим образом перемешалось: мало ли что бывает во сне.
Изумительно другое: то, что Толстой рассматривает своё сновидение как художественный сюжет.
Толстому снится роман между реальным лицом, его знакомым, и персонажем, сотворённым воображением Достоевского. «Жизнь» пересекается с «литературой» – возникает некая «третья» ситуация, на первый взгляд, совершенно неестественная. Ибо трудно вообразить более противоположных по натуре людей, чем «инфернальница» Грушенька и добропорядочный, бесстрастный, бестемпераментный Страхов.
Тем не менее Толстой не только готов облечь свои сновидческие образы в живую художественную плоть, но даже именует явившийся ему сюжет «чудным».
За много лет близкого общения со Страховым Толстой прекрасно изучил характер своего приятеля. Очевидно, не осталось для него вполне непроницаемым и страховское «подполье» (это тем вероятнее, что Страхов порой неосторожно «обнажался» перед своим яснополянским корреспондентом)[1129]1129
Страхов писал Толстому (17 ноября 1879 года): «Думаю, что я не какой-нибудь гадкий или преступный или отчаянно грешный человек. Я в известном отношении хуже – я человек безжизненный, в котором мало души, нет воли в смысле живых стремлений. Я во всех сферах неудавшийся, ни в чём не сформировавшийся, ни в какую форму не отлившийся человек… Ни один инстинкт не говорил во мне так сильно, чтобы определить мои поступки и образ жизни. Я правильно сделал, отказавшись, наконец, вовсе от жизни; я не умею жить и не хочу за это браться. Всего лучше это объяснить на отношениях к женщинам. Я ни за одною не волочился в настоящем смысле пристрастия, и никогда не собирался жениться. Две мои связи произошли от того, что того хотели эти женщины, а не я. Это стыдно сказать мужчине, и я за это наказан больше, чем стою»[1525]1525
Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 240.
[Закрыть]. Несмотря на подчёркнутую (почти демонстративную) откровенность этого письма, Толстой позволил себе в ней усомниться: «Вы не умели сказать то, что в вас, и вышло что-то непонятное»[1526]1526
Там же. С. 243.
[Закрыть].
[Закрыть]. Толстовский сон удивительным образом перекликается с неизвестной сновидцу, но памятной нам записью Достоевского – о «тайном сладострастии» Страхова («несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен»). Недаром в этом сне Страхов предстаёт своего рода Фёдором Павловичем Карамазовым, но – «подпольным», «зажатым» и оттого ещё более трагичным. И, может быть, сюжет представляется Толстому «чудным» именно благодаря точности психологического попадания.
Страхов приснился Толстому через четырнадцать лет после своей кончины и за несколько дней до его собственной. Достоевский видел Страхова за три дня до смерти: правда, не во сне, а наяву.
В воскресенье, 25 января, у Достоевских были гости: в их числе Николай Николаевич. Разговор зашёл о том самом толстовском письме, которое было получено от графини Александры Андреевны. Страхов, живо интересовавшийся всем исходившим из Ясной Поляны, стал просить у Достоевского это послание. Достоевский согласился – с тем, однако, чтобы Николай Николаевич непременно вернул письмо – через несколько дней.
Через несколько дней Достоевского не стало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.