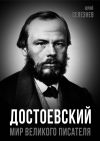Текст книги "Последний год Достоевского"
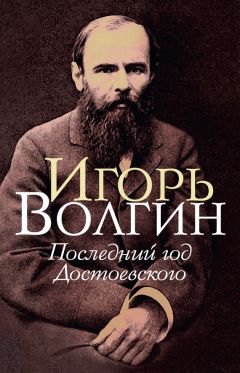
Автор книги: Игорь Волгин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 44 страниц)
Нет, слушатель 1880 года был не так прост. Произошло то, что должно было произойти. Несколько одновременно сработавших факторов дали непредсказуемый эффект.
Пушкинская речь – художественный концентрат всего того, что пытался выразить Достоевский в своём «Дневнике писателя». Это и есть «Дневник» – только художественно обобщённый, достигший своего собственного предела, к которому он всегда стремился (но, правда, не всегда достигал). Не выстраиваясь, не складываясь в строгую и законченную картину единого, внутренне непротиворечивого, рационалистически проработанного миропонимания, Пушкинская речь сохраняла поразительную целостность на ином уровне. Это – всеобъемлющее и мощное единство явленного в ней мирочувствования. Это – неделимость её категорического императива, её нравственного устройства, её могучего духовного подтекста. Это, наконец, сфокусированность всех периферийных и мировых линий в одной художественной точке – в Пушкине.
В Речи сказались характернейшие черты творческого гения Достоевского: его этический максимализм, его обострённое восприятие русской истории и русского человека, его скорбь и его мировой порыв.
Всего этого не могла не почувствовать аудитория.
«Мы менее чем кто-либо можем смотреть на речь Достоевского как на живую политическую программу живой политической партии… – замечает журнал «Мысль», – если на идеалы г. Достоевского смотреть… как на формулу, удовлетворяющую, главным образом, чувству или, вернее, потребности чувства, а именно чувства любви и уважения к своей родине, к своему народу, то это – почти единственный идеал, возможный для нашего времени…»[724]724
Мысль. 1880. Сентябрь. С. 90.
[Закрыть].
Но если бы Пушкинская речь была произнесена, скажем, годом раньше или годом позже, она не возымела бы такого действия. В 1880 году её собственный духовный заряд был умножен реальной общественной ситуацией. Её пафос оказался созвучен жгучему чувству исторического ожидания. Эта конгениальность и вызвала «резонансный эффект».
Можно предположить, что речь Достоевского отвечала ещё и более отдалённым историческим ожиданиям. Россия, «стеная и скорбя», вступала на мировую авансцену: ей было суждено остановить на себе «зрачок мира». Пушкинская речь прозвучала в момент перелома, на перепутье: у страны ещё был выбор. Трагедии XX века могло бы не быть. Судьба России сложилась не так, как мечтал Достоевский, а так, как он предчувствовал. Утешила бы его грандиозность этой судьбы?
«Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя – есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство, и не будет недоумений»[725]725
Переписка. С. 346.
[Закрыть].
Тем горше было отрезвление.
«Русский Мефистофель»
«Памятник Пушкина, – писал Орест Миллер, – собрал нас воедино лишь на минуту, и русскому Мефистофелю остаётся только весело потирать себе руки и приговаривать: «divide et impera»[726]726
Разделяй и властвуй (лат.).
[Закрыть][727]727
Русская мысль. 1880. Декабрь. С. 32.
[Закрыть]. «На другой день» стало очевидно, что праздник, по сути дела, только разгорячил страсти.
Первый русский «парламент» не оправдал надежд, которые на него возлагались. «Вдруг» выяснилось, что интеллигенция (как целое) не способна стать той исторической силой, которая могла бы возглавить национальное обновление.
Не потому ли в своём предсмертном «Дневнике» Достоевский обращает взор в другую сторону – туда, откуда, как он полагает, ещё можно ожидать спасения? «Народ» – последняя ставка автора Пушкинской речи[728]728
Ср. интересное замечание Л. Е. Оболенского: «…Русские либералы делятся на обожающих народ и обожающих Запад. Обожание здесь неизбежно, как в институтах и вообще в закрытых заведениях» (Мысль. 1880. Сентябрь. С. 92).
[Закрыть].
Сам Достоевский всю жизнь хотел, чтобы его услышали. В 1880 году наконец это произошло. И – тотчас же явились обвинения в кликушестве, юродстве и прочих устремлениях «всезаячьего» свойства.
При желании Достоевского можно было понять именно так.
Когда-то он писал, что, если бы во время лиссабонского землетрясения какой-нибудь местный лирик сочинил «Шёпот, робкое дыханье…», возмущённые лиссабонцы всенародно казнили бы сего незадачливого стихотворца (правда, добавляет Достоевский, впоследствии поставили бы ему на площади памятник). Теперь он сам невольно оказался в подобной роли: в паузе между взрывами народовольческих бомб призыв к нравственному совершенствованию мог показаться насмешкой.
Как же быть с Пушкинской речью?
Любая неоднозначная художественная структура поддаётся более или менее однозначной интерпретации. И «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Отцы и дети», и «Преступление и наказание» при желании могут быть истолкованы (и нередко истолковывались) как реакционные произведения. Устойчивость подобной репутации зависит не только от «внутреннего сопротивления» текста, но и от внешних факторов: в первую очередь от укоренённости той или иной точки зрения в историко-литературной традиции.
История восприятия Пушкинской речи поучительна и драматична. С восторгом принятая слушателями, она «на другой день» предстала совсем в ином качестве перед своими читателями. Едва появившись на свет, она сделалась козырем в политической борьбе.
Козырь этот был немедленно разыгран. Речь поспешили усыновить те, кто вовсе не обладал правом духовного отцовства.
Об этом стоит сказать подробнее.
Опасные игры
«…Во мне нуждаются… вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет…» – разъясняет Достоевский Анне Григорьевне ситуацию накануне праздника. «Наша партия» поминается неоднократно. Попробуем подсчитать: кто же конкретно к ней принадлежит.
Сам Достоевский называет только два имени: «Оппонентами же им (то есть либералам. – И.В.), с нашей стороны, лишь Иван Серг<еевич> Аксаков (Юрьев и прочие не имеют весу), но Иван Аксаков и устарел, и приелся Москве».
Итак, Юрьев и Аксаков. Не очень-то густо. Но даже эти двое – союзники, так сказать, официальные. Ни тот, ни другой не являются единомышленниками в полном смысле слова. Это, скорее, круг, близкий Достоевскому, тяготеющий к нему, но вовсе не «однопартийцы». И автор Пушкинской речи старается соблюсти по отношению к ним известную дистанцию.
Может быть, Катков? Он – «шеф», патрон, работодатель, его мнение уважаемо. Но он – «человек вовсе не славянофил»[729]729
Переписка. С. 328. Кстати, ни С. Юрьев, ни И. Аксаков отнюдь не считали себя единомышленниками Каткова. Достоевский прямо называет С. Юрьева «врагом» Каткова (Письма. Т. 4. С. 149); так оно и было (см. острейшую полемику первых месяцев 1880 г. между «Московскими ведомостями» и «Русской мыслью»). Ср.: «Восставать против Каткова, высказывать зловредность его направления и статей есть, по-моему, гражданский долг каждого из нас» (Письма А. И. Кошелева к И. С. Аксакову (1881–1883 гг.) // О минувшем. Санкт-Петербруг, 1909. С. 406).
[Закрыть]. Издатель «Русского вестника» ни разу не отнесён к «нашей партии».
Кто же остаётся? Да никого. При ближайшем рассмотрении выясняется, что в «нашу партию» практически входит один Достоевский.
Правда, отправляясь в Москву, он сообщает Победоносцеву: «Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз, в самом крайнем духе моих (наших, то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений…»[730]730
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 156.
[Закрыть]
Позволим себе в данном случае Достоевскому не поверить. И не потому, что он неискренен, – нет. Но с Победоносцевым у него особые игры (даже сама стилистика их переписки, тщательный подбор выражений, осторожная дозировка «добрых чувств» – всё это свидетельствует не столько о душевной близости, сколько о дипломатии, причём взаимной). Кроме того, не следует забывать, что в это время только что назначенный обер-прокурор Святейшего синода почти неизвестен политически: «совиные крыла» он «прострёт» над Россией несколько позже. И, пожалуй, трудно представить большую дистанцию, нежели та, которая отделяет пафос Пушкинской речи от «государственной программы» Победоносцева.
По окончании Пушкинского праздника Победоносцев сдержанно, не вдаваясь в подробности, поздравит Достоевского с успехом. И – вслед за поздравлениями пошлёт ему «Варшавский дневник» со статьёй Константина Леонтьева. Статья эта гневлива и сокрушительна. К. Леонтьев не только по пунктам уничтожает Речь с точки зрения своего – аскетического и безысходного – христианства, он лоб в лоб сталкивает её с другим публичным выступлением, состоявшимся почти в одно время с московскими торжествами, – в Ярославской епархии на выпуске в училище для дочерей священно– и церковнослужителей. «…В речи г. Победоносцева (оратором был именно он. – И.В.), – пишет Леонтьев, – Христос познаётся не иначе как через Церковь: “Любите прежде всего Церковь”. В речи г. Достоевского Христос… до того помимо Церкви доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе… приписывать Спасителю никогда не высказанные им обещания “всеобщего братства народов”, “повсеместного мира” и “гармонии”…»[731]731
Варшавский дневник. 1880. 12 августа.
[Закрыть]
К. Леонтьев подметил чрезвычайно любопытную вещь: в Пушкинской речи о Церкви не говорится ни слова (вспомним: «Церковь – весь народ» – положение, с которым вряд ли согласился бы автор «Варшавского дневника»). Та Церковь, над которой начальствует Победоносцев (то есть реально существующий институт), не играет в «пророчествах» Достоевского никакой роли. Впрочем, как и реально существующее государство. Достоевский в данном случае имеет дело с общественным, и только с общественным.
Мы уже говорили о том, что автор «Дневника писателя» предпринял последнюю в русской литературе попытку осуществить «идейное опекунство» над властью. Но почему сама тенденция оказалась столь живучей?
Русское самодержавие, как это ни странно, на протяжении веков так и не выработало своей собственной, адекватной себе и закреплённой «литературно» идеологии. Оно строит свою моральную деятельность на традиции и предании, на силе исторической инерции или, в лучшем случае, на эффектных формулах вроде уваровской. Как историческая данность оно вовсе не совпадает с тем, что «предлагали» ему – в разное время – Посошков, Державин, Карамзин, Пушкин, Гоголь и Достоевский.
В момент кризиса (а именно такой момент имеет место в 1880 году) могло казаться, что в силу собственной «безыдейности» власть примет и санкционирует одну из предлагаемых ей «чужих» идеологических доктрин. И славянофилы вроде Ивана Аксакова, и либералы «тургеневского» типа могли надеяться (и надеялись), что выбор падёт именно на них.
Мог надеяться на это и Достоевский. Он предлагает свою собственную «подстановку». Но всерьёз принять идеал Пушкинской речи означало бы для самодержавия изменить свою собственную историческую природу.
Российская монархия предпочла совсем иную программу – программу Победоносцева и Каткова. Она сделала это сразу же, как только почувствовала себя уверенней.
То, о чём говорил Достоевский в своём последнем «Дневнике» («позовите серые зипуны»), было дружно похоронено в 1882 году – не кем иным, как теми же Победоносцевым и Катковым: окончательный крах идеи Земского собора стал катастрофой и для «нашей партии» (если всё же причислить к ней И. Аксакова).
Достоевский до этого не дожил. Но сейчас, в 1880 году, он нужен Победоносцеву и нужен Каткову. Он – их формальный союзник, единственная серьёзная литературная сила с их стороны[732]732
Недаром накануне Пушкинского праздника охранительная пресса (как бы забегая вперёд) настойчиво сопрягает их имена. «…Такие люди, как Ф. М. Достоевский и М. Н. Катков, сумеют ответить тем, кто захочет проводить тенденции на празднике народном» (Берег. 1880. 2 июня). «Почитателям г. Достоевского, – замечает по этому поводу «Вестник Европы», – было очень неловко видеть его имя в этом союзе и в этой усмирительской роли» (Вестник Европы. 1880. Октябрь. С. 812).
[Закрыть]. Они ни в коем случае не желают обострять разномыслие. Более того: неприятие Речи слева как нельзя кстати для них.
Они спешат поставить на ней свою собственную мету.
Пушкинская речь появилась в «Московских ведомостях». И это во многом предопределило её дальнейшую судьбу. Широкой публике не было дела до того, что появилась она там почти случайно (после увиливаний Юрьева, первоначально хотевшего напечатать её в «Русской мысли»), что для Достоевского не последнюю роль в этой истории играли чисто материальные соображения. Да читатели и не желали знать таких подробностей. Появление Речи в газете Каткова воспринималось как политический жест, как акт идейной солидарности.
Репутация издания не могла не сказаться и на репутации Речи.
Орест Миллер заметит в «Русской мысли», что, хотя Пушкинская речь и появилась в «Московских ведомостях» («не берусь разгадать этого странного… факта»), её автор «в самом корне» отличается от своих издателей. «…Именно всечеловек, – добавляет Миллер, – всего менее и подходит к “Московским ведомостям”… Каков бы ни был этот язык (можно, если угодно, называть его даже юродствующим), но это, конечно, не язык “Московских ведомостей”».
Почему же тогда Катков взял «статью»? Он предложил Достоевскому напечатать её, ещё не слыша и не читая. После же грандиозного успеха Речи её публикация сделала бы честь любому изданию. «Они напечатали речь, – говорит О. Миллер, – но кто же бы отказался от речи Достоевского?»[733]733
Русская мысль. 1880. Декабрь. С. 31, 33.
[Закрыть]
Катков поспешил разыграть этот козырь. Но каково было его истинное отношение к тому, что он столь поспешно обнародовал?
Об этом сохранилось одно забытое, но в высшей степени выразительное свидетельство.
В 1903 году В. Розанов опубликовал замечания покойного К. Леонтьева на рукопись одной своей статьи. В этой статье Розанов цитировал опубликованные после смерти Достоевского далеко не лестные отзывы последнего в адрес Леонтьева (как раз по поводу его критики Пушкинской речи). Пытаясь оправдаться перед Розановым, Леонтьев спешит заметить, что в своём негативном отношении к Речи он не был одинок. «Катков заплатил ему (Достоевскому. – И.В.) за эту речь 600 р., но за глаза смеялся, говоря: «какое же это событие»[734]734
Из переписки К. Н. Леонтьева. С предисл. и примеч. В. В. Розанова // Русский вестник. 1903. Май. С. 176. К. А. Иславин писал Достоевскому: «Михаил Никифорович, просматривая корректуры вашего очерка, стеснялся изменять некоторые, как вы выражаетесь, «шероховатости слога и лишние фразы», вырвавшиеся у вас наскоро; он теперь даже жалеет, что не исправил их…» (НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 58). Вспомним, что в своё время Катков «запросто» позволял себе править текст «Преступления и наказания» (см. подробнее: Игорь Волгин. Пропавший заговор. Москва, 2000. С. 118–120.). Можно предположить, что сожаление Каткова распространялось не только на стилистические погрешности Речи. Ср.: «Но о парадоксах мы умалчиваем. Какое наше право не клонить головы перед кумиром дня?» (Хрущов И. Впечатления одного депутата на открытии памятника Пушкину // Берег. 1880. 10 июля).
[Закрыть].
Итак, круг замкнулся. Охранительный лагерь отнюдь не принимает Речь как свою. Потенциальным союзникам (да и то не всем) она нужна только как временное подспорье, как идущая в руки карта в их тактической игре. И когда К. Леонтьев обрушивается на Пушкинскую речь (он «чистый» идеолог, а не реальный политик, он может себе это позволить!), Победоносцев (осторожно, без комментариев) спешит довести его негодование до сведения Достоевского. А первый публикатор Речи Катков «за глаза» над ней смеётся. Для них всех Речь – «не событие».
Событием Пушкинская речь была для России.
«Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими», – говорит автор Речи. Слово «фантастический» произнесено вновь.
Фантастическим Алеко и Онегину, людям, порождённым фантастическим ходом отечественной истории, противополагается «русское решение вопроса». Но это решение, по собственному признанию Достоевского, тоже оказывается фантазией.
Крайности сходятся.
«Сон смешного человека», эта грустная и красивая утопия, названа «фантастическим рассказом». Но точно так же именуется и «Кроткая», в основе которой лежит реальнейшая бытовая драма.
Пушкинская речь имеет строгий жанровый подзаголовок: «Очерк». Её автор мог бы смело добавить: «фантастический».
«Если наша мысль есть фантазия, – ещё раз повторим слова Достоевского, – то с Пушкиным есть по крайней мере на чём этой фантазии основаться».
Пушкин – последний (и, может быть, единственный) аргумент Пушкинской речи. Ибо он – самое фантастическое из всего, что породила русская действительность. И тот же Пушкин – её высшая реальность.
«Тьмы низких истин…» – сказал Пушкин.
Глава XV. Развязка с Тургеневым
Вечные соперники
Лев Толстой в Москву не явился (как выразился современник, он «блистал» своим отсутствием). Был упущен великий шанс: историческое свидание трёх так и не состоялось. Оставались двое: они сошлись в Москве, не ведая, что сходятся в последний раз.
Имеет смысл остановиться на событиях «по второму заходу»: с точки зрения этого финала.
Оба они готовились самым тщательным образом: Тургенев уезжает в Спасское-Лутовиново, Достоевский – в Старую Руссу. Вдали от мирской суеты трудятся они над своими текстами: каждый отлично понимает, что именно его слово сойдётся со словом соперника один на один.
Да, именно им будут принадлежать главные роли. Уединясь – один в своем родовом поместье, другой – в недавно приобретённом (первом и единственном в жизни) собственном доме, – уединясь, они, очевидно, не могут целиком унестись в горние области духа: они не могут не думать о встрече.
Их недавние петербургские контакты – достаточно редкие – прошли сравнительно гладко: во всяком случае, не случилось ничего, подобного прошлогоднему «обеденному инциденту». В последний момент ситуация, правда, омрачилась историей с каймой – но тут формальным виновником представал автор «Замечательного десятилетия». («Приехал и Анненков, – сообщает Достоевский Анне Григорьевне, – то-то будет наша встреча».)
Возможная встреча с Анненковым волнует его исключительно в личном плане; диалог с Тургеневым – ещё и в общественном. Необходимо противостоять «враждебной партии», ибо она «(Тургенев, Ковалевский и почти весь Университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность». Тургенев окружён друзьями и единомышленниками: тем более трудной представляется задача.
«Интриги» продолжаются на самом празднике. Участники торжеств «случайно» сходятся у Тургенева, а его, Достоевского, на это предварительное совещание не приглашают: «Стало быть, меня прямо обошли».
Их первая встреча, надо полагать, произошла 3 июня. «Тургенев со мною был довольно мил…» – лаконически докладывает он Анне Григорьевне. Так; но отчего вдруг приятель Тургенева, Ковалевский («…большая толстая туша и враг нашему направлению»[735]735
Переписка. С. 326, 328, 337, 340.
[Закрыть]), столь пристально его разглядывает? Очевидно, не к добру[736]736
Ср. с малоизвестными воспоминаниями К. А. Тимирязева (о М. М. Ковалевском): «Живо помню, каким негодованием сверкали его всегда добрые глаза, когда он мне кивал головой на Достоевского, закончившего свою речь словами: «Что могу я прибавить к отзыву о Пушкине самого умного, лучшего из его современников – императора Николая?» Сказано это было, добавляет мемуарист, очевидно, для того, чтобы насладиться беспомощностью оппонентов – невозможностью для них «ответить на этот вызов» (См.: Тимирязев К. А. Избр. соч. Т. 2. Москва, 1957. С. 548). Заметим, что в Пушкинской речи нет ничего похожего на «процитированное» воспоминателем утверждение; ни малейшего намёка на него не обнаруживается также ни в одном известном источнике. Может быть, имелись в виду слова Достоевского, произнесённые на одном из обедов, и не имел ли в виду Достоевский фразу, приписываемую императору Николаю Павловичу, – о Пушкине как «умнейшем человеке в России» (если нечто подобное действительно было им произнесено)?
[Закрыть].
Сам Тургенев «довольно мил» – и это, по крайней мере, свидетельствует о том, что они разговаривают, общаются. Поэтому следует признать ошибочным утверждение одного из мемуаристов (Д. Н. Любимова, сына редактора «Русского вестника») о полном отсутствии между ними дипломатических отношений.
Впрочем, приводимый воспоминателем анекдот весьма характерен.
В Москве, пишет Любимов, много говорили «о невозможных отношениях между Достоевским и Тургеневым». Распорядители праздника были в отчаянии, «и Д. В. Григоровичу специально поручено было следить, чтобы они не встречались (в Петербурге, как помним, эти функции выполнял Я. П. Полонский. – И.В.). На рауте в Думе вышел такой случай. Григорович, ведя Тургенева под руку, вошёл в гостиную, где мрачно стоял Достоевский. Достоевский сейчас же отвернулся и стал смотреть в окно. Григорович засуетился и стал тянуть Тургенева в другую комнату, говоря: «Пойдём, я покажу тебе здесь одну замечательную статую». – «Ну, если это такая же, как эта, – ответил Тургенев, указывая на Достоевского, – то, пожалуйста, уволь…»[737]737
Этот «анекдот» по типу совершенно аналогичен другому, уже приводившемуся. На вечере 9 марта 1879 года Тургенев, уязвлённый враждебным отношением к нему Достоевского и Салтыкова, демонстративно замечает: «Здесь что-то холодно!»
[Закрыть][738]738
Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 161.
[Закрыть].
Даже если Любимов приводит подлинную фразу Тургенева, нельзя сомневаться, что произнесена она была за спиной адресата этой шутки: он вряд ли оценил бы тургеневский юмор.
Сам Достоевский тоже описывает «раут в Думе». «Подходил ко мне Островский – здешний Юпитер. Любезно подбежал Тургенев. Другие партии либеральные, между ними Плещеев и даже хромой Языков, относятся сдержанно и как бы высокомерно: дескать, ты ретроград, а мы-то либералы»[739]739
Переписка. С. 343.
[Закрыть].
Замечательно, что все перечисленные лица – самостоятельные «партии»: сколько людей, столько и партий.
Важны не столько убеждения, сколько сам человек.
Тургенев может быть или не быть с ним любезным. То или иное поведение – вопрос тактики. Но он уже не изменит своего мнения об авторе «Дыма». Оно сложилось прочно и – навсегда.
В декабре 1879 года говорено одному знакомому (последний занёс эти слова в свой дневник): «Он (то есть Иван Сергеевич) по самой своей натуре сплетник и клеветник… Он… всю мою жизнь дарил меня своей презрительной снисходительностью, а за спиной сплетничал, злословил и клеветал».
«Презрительная снисходительность» – вот обида, затаённая ещё с молодых лет и с годами только укрепившаяся в своей уязвлённой правоте. Конечно, теперь Тургенев не позволит себе явной бестактности. Однако за глаза он не стесняется в выражениях, именуя, например, «Подростка» кислятиной и больничной вонью, никому не нужным бормотанием и психологическим ковырянием.
«Кислятиной» роман Достоевского назван в 1875 году в письме к Салтыкову-Щедрину, вместе с Некрасовым публикующему этот роман в «Отечественных записках». Впечатление, производимое «Преступлением и наказанием», сравнивается с продолжительной холерной коликой. Тургенев жалуется Я. П. Полонскому: «Дают нам каких-то больных людей, грязных оборвышей, юродивых или просто безумных развратников; водят нас в какие-то лачуги, с удовольствием описывают вонь и грязь, при одной мысли о которой начинает тошнить, и приказывают нам всем этим интересоваться, любить этих уродливых людей. Да я просто ничего этого не хочу, мне ничего этого не надо…»[740]740
Опочинин Е. Н. Беседы с Достоевским (Записки и припоминания) // Звенья. Т. 6. Москва – Ленинград, 1936. С. 457.
[Закрыть]
Тургенев осторожен: имя Достоевского не названо (у Полонского в это время присутствует посторонний), однако все прекрасно понимают, о ком идёт речь.
Тургенев не приемлет Достоевского как художника, не отрицая, впрочем, его бесспорного литературного дара. Со своей стороны Достоевский, ценя Тургенева как писателя («А талантом его Бог не обидел: может и тронуть и увлечь»), ставит под сомнение то, что, по его мнению, должно составлять главную суть художества.
Он полагает, что даже в лучших вещах Тургенева присутствует некая преднамеренность. «Чувствуется, что он совсем не любит того, кого столь трогательным образом описывает. Словно игра одна актёрская: «Смотрите, мол, как я умею чувствовать».
Их мнения друг о друге пристрастны и несправедливы.
Уже одно то, как они говорят, затронув больную тему, выдаёт стойкую взаимную неприязнь. Достоевский «сильно нервничал, то двигая как бы непроизвольно руками, то передвигая бумаги на столе». «Только под конец, – замечает его собеседник, – несмотря на произносимые едкие слова, он говорил довольно плавно и спокойно, но с губ его не сходила ироническая усмешка». В свою очередь Тургенев судит о сопернике «громко, даже чуть-чуть с привизгом», тоном, в котором звучат «нотки личной обиды»[741]741
Там же. С. 458, 475, 476.
[Закрыть].
Да, в напряжённости и резкости их взаимоуничтожающих оценок заключено не одно лишь эстетическое отталкивание. Под подозрением находятся моральные качества оппонента.
Знал ли Достоевский о тургеневских отзывах? Несомненно: круг, где они произносились, достаточно узок, и к этому кругу принадлежат они оба. Более того: Достоевский убежден, что Тургенев является не только распространителем, но и источником порочащих его пересудов и клевет.
Но, может быть, подозрения Достоевского вызваны всё той же мнительностью и зиждутся на предположениях вовсе не основательных?
Это не совсем так.
19 июля 1880 года (то есть через месяц после Пушкинских торжеств) А. А. Киреев записывает в дневнике: «Тургенев – совершенный ramolli, делает гадости, позволяет всякой дряни (вроде редакции «Голоса») злоупотреблять его именем в борьбе с Достоевским, про которого эта партия чёрт знает что рассказывает»[742]742
Литературное наследство. Т. 86. С. 515.
[Закрыть]. В свете подобных свидетельств резкости и преувеличения со стороны Достоевского (а сторона эта порою действительно сильно преувеличивает) если и не извинительны, то, по крайней мере, понятны.
Их личное и идейное противостояние достигает на Пушкинском празднике своей высшей точки.
«Он со злобою удалился…»
Описывая «потрясающие, восторженные рукоплескания», которые раздались в честь избрания Тургенева почётным членом Московского университета, Страхов добавляет: «Сейчас же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тем пунктом, на который можно устремлять и изливать весь накопляющийся энтузиазм». Его чествовали как главного посланца русской литературы. «И так как Тургенев, – продолжает Страхов, – был на празднике самым видным представителем западничества, то можно было думать, что этому литературному направлению достанется главная роль в предстоявшем умственном турнире»[743]743
Биография… С. 307 (первая пагинация).
[Закрыть].
Когда после открытия памятника Тургенев садился в коляску, ему, прямо на площади, «сделали настоящую овацию, точно вся эта толпа безмолвно сговорилась и нарекла его наследником Пушкина»[744]744
Звенья. Т. 1. С. 467.
[Закрыть].
Сев в коляску, Тургенев проследовал с Тверской площади на Моховую, где его ожидал уже описанный нами министерский поцелуй.
Выше этой точки общественная температура вокруг Тургенева уже не поднималась.
Был ли Достоевский свидетелем тургеневского триумфа, всего на два дня опередившего его собственный, ещё более могущественный? Подобный вопрос никогда не возникал: присутствие Достоевского считалось само собой разумеющимся.
Позволим себе в этом усомниться.
Накануне открытия, сообщая Анне Григорьевне о предстоящем дне, он сетует на крайнюю уплотнённость программы, исполнение которой требует немалых физических усилий. «Представь себе, что открытие памятника будет 6-го числа, с 8 часов утра я на ногах. В два часа кончится церемония и начнётся акт в Университете». И добавляет в скобках: «но, ей-богу, не буду»[745]745
Переписка. С. 342.
[Закрыть].
«Не будет» не из-за неуважения к учреждению, а потому, что после этой церемонии предстоит ещё обед в Думе, а затем он, «усталый, измученный, наевшийся и напившийся, должен читать монолог Летописца (из «Бориса Годунова». – И.В.) – самый трудный к чтению, требующий спокойствия и обладания сюжетом».
В интервале между церемонией открытия и думским обедом он решает позволить себе небольшой роздых.
Это предположение подтверждается тем, что в письме от 7 июня, описывая предшествующий день, он ни словом не обмолвится об акте в Университете. Но зато подробно говорит о вечерних чтениях, где он выступал вместе с Тургеневым и был принят восторженно. Между тем по своей значимости университетский триумф Тургенева важнее вечерних чтений. И если всё же событие это осталось не отмеченным таким ревнивым наблюдателем, как Достоевский, то отсюда должно следовать, что он не присутствовал при сём лично[746]746
Заметим также, что присутствие Достоевского на университетском акте не отмечено также ни в одном из известных нам источников.
[Закрыть].
Относительно знаменитого думского обеда (где говорил Катков и закрывал свой бокал Тургенев) таких сомнений не возникает. Но попробуем взглянуть на эту трапезу ещё с одной стороны.
Неизвестный воспоминатель (наш знакомец Одиссей, поспешивший отметиться к двадцатипятилетию со дня смерти писателя), повествуя о думском обеде, замечает, что на нём Достоевский проявил «черту болезненного самолюбия, свойственную многим крупным талантам». В чём же, по мнению Одиссея, заключалась эта черта?
Распорядители застолья «отвели место Достоевскому за первым столом, но несколько подальше от центра. Он заплакал и категорически заявил, что не сядет ниже Тургенева, и тот любезно уступил ему место, подвинувшись к Стасюлевичу»[747]747
Петербургская газета. 1906. 29 января.
[Закрыть].
Это, пожалуй, слишком – даже для Достоевского. Представить автора «Карамазовых» проливающим слёзы из-за того, что его обошли местом, хотя и соблазнительно, но всё-таки трудно. Картина эта вызывает тем большее недоверие, что обозначенный в ней Стасюлевич, к которому якобы «подвинулся» Тургенев, мог в действительности находиться от него на некотором отдалении, а именно – в Петербурге.
Но если Одиссей самолично присутствовал на обеде, очевидно, его ретроспекции покоятся на какой-то фактической основе. Возможно, Достоевский и в самом деле был чем-то огорчён. Чем же?
На этот вопрос помогает ответить другой, гораздо более достоверный источник.
13 июня 1880 года, то есть всего через день после возвращения из Москвы в Старую Руссу, Достоевский отправляет следующее послание.
«Глубокоуважаемая Вера Николаевна, – пишет он. – Простите, что, уезжая из Москвы, не успел лично засвидетельствовать вам глубочайшее моё уважение и все те отрадные и прекрасные чувства, которые я ощутил в несколько минут нашего коротковременного, но незабвенного для меня, знакомства нашего»[748]748
Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. Москва,1951. С. 217.
[Закрыть].
У него случались такие внезапные приливы. Впервые увиденный им человек (особенно женщина) мог чем-то поразить его воображение. Какая-то неуловимая черта могла глубоко запасть ему в душу – и он отзывался благодарностью, симпатией, приязнью.
Так произошло и ныне. Вера Николаевна – жена Павла Михайловича Третьякова, основателя Третьяковской галереи (по его заказу Перов написал в своё время знаменитый портрет). Она отметила в дневнике: «На обеде… познакомилась с Достоевским… который сразу как бы понял меня, сказав, что он верит мне, потому что у меня и лицо и глаза добрые, и всё то, что я ни говорила ему, всё ему было дорого слышать как от женщины».
Его поражает доброта. В своем письме он называет тридцатишестилетнюю В. Н. Третьякову «прекрасным существом».
Вера Николаевна продолжает: «Собирались мы сесть вместе за обедом, но, увидев, что я имела уже назначенного кавалера, Тургенева, он со злобою удалился и долго не мог угомониться от этой неудачи»[749]749
Литературное наследство. Т. 86. С. 124.
[Закрыть].
Его можно понять. Только он ощутил прилив острого интереса к человеку, к женщине, которая среди окружавших его и не очень близких ему людей расположила его к себе с первого взгляда, только настроился на душевную беседу, как его соперник, вечный баловень судьбы, вновь заявил свое присутствие и лишил его этого невинного удовольствия.
Было отчего «со злобою» удалиться[750]750
В. Н. Третьякова говорит, что Тургенев был её «назначенным» кавалером. «Назначение», очевидно, исходило от одного из хозяев обеда – московского городского головы С. М. Третьякова, родного брата мужа Веры Николаевна (сам муж отсутствовал по болезни). Такое подчёркнутое внимание к почётному гостю могло лишний раз покоробить Достоевского (ведь для него самого не удосужились «назначить» даму).
[Закрыть].
Уж не эту ли сцену имеет в виду таинственный Одиссей? В его памяти могло сохраниться заметное постороннему глазу неудовольствие Достоевского, которое теперь, через двадцать пять лет, объясняется как следствие необходимости сесть «ниже» Тургенева.
Между тем автор «Дыма» занимал свою соседку беседою вполне светскою. Замечательно, что, поместившаяся рядом с Тургеневым (и, следовательно, напротив Каткова), она ни словом не упоминает о знаменитом тургеневском жесте с бокалом: эти материи её, очевидно, не интересуют.
С кем разговаривал в это время «удалившийся» Достоевский, мы можем только гадать. Но вскоре он был вознаграждён.
«Во время обеда, – пишет Вера Николаевна, – я вспомнила о Достоевском и желала дать ему букет лилий и ландышей с лаврами, который напоминал бы ему меня – поклонницу тех чистых идей, которые он проводит в своих сочинениях…» И, поднявшись из-за стола, она исполняет своё намерение.
«Он обрадовался им (цветам. – И.В.) потому, что я вспомнила о нём за обедом, сидевши рядом с его литературным врагом – Тургеневым».
Вера Николаевна тонко понимает ситуацию. И чисто по-женски пытается всё сгладить, утрясти, наладить, вернуть своему собеседнику хорошее расположение духа. Ей это наконец удается. «Он нервно мялся на одном месте, выговаривая всё своё удовольствие за внимание моё к нему…» Он намеревается поцеловать ей руку, хотя тут же замечает, что это не принято в большом собрании, «но всё-таки, пройдя шагов пять, поцеловал мне руку с благодарностью…»[751]751
Там же. С. 125.
[Закрыть].
Выше мы приводили слова его дочери о том, что он не любил оказывать женщинам подобные знаки внимания. По-видимому, бывали исключения.
Если иметь в виду, что обед в Дворянском собрании начался в шесть часов вечера и длился примерно до девяти и что значительную часть этого времени В. Н. Третьякова провела за столом рядом с Тургеневым, получается, что их общение с Достоевским было не столь продолжительным. И всё-таки он напишет ей о своём глубочайшем уважении, которое он «когда-либо имел счастье ощущать к кому-нибудь из людей»[752]752
Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. С. 217.
[Закрыть].
Уважение тоже бывает с первого взгляда.
Больше они никогда не встретятся. Но он этого не знает. И, поцеловав Вере Николаевне руку, он направляется в главное помещение Дворянского благородного собрания (известное ныне как Колонный зал Дома союзов), где нетерпеливо шумит публика, ожидающая своих любимцев.
Апофеоз при электрическом свете
Он проходит к эстраде, «странно съёжившись», может быть, чувствуя себя не очень ловко под взглядами сотен устремлённых на него глаз. В отличие, скажем, от Тургенева, который ощущал себя как рыба в воде и, по свидетельству очевидца, «стремился в этот вечер сосредоточить на себе внимание публики, преимущественно пред другими писателями, находившимися в зале…»[753]753
Литературное наследство. Т. 86. С. 502.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.