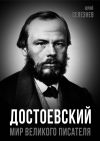Текст книги "Последний год Достоевского"
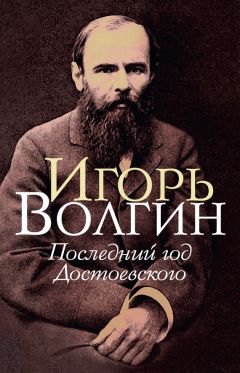
Автор книги: Игорь Волгин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 44 страниц)
У неё были причины для ревности.
Суета сует
Он приехал в Москву в 10 часов вечера 23 мая и уехал домой, в Старую Руссу, 10 июня в час дня. Он не знал, что это последний визит в город его детства – на родину. За тринадцать лет супружеской жизни (во втором браке) он покидал семью на столь длительный срок только для путешествий в Эмс, на воды. Анне Григорьевне, как мы уже говорили, очень хотелось сопутствовать ему в этой поездке. Однако когда были подсчитаны ресурсы, выяснилось, что и без того напряжённый семейный бюджет не выдержит чрезвычайных расходов. Встречались и другие препятствия. «После смерти нашего сына Алёши, – пишет Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович, всегда горячо относившийся к детям, стал ещё мнительнее насчёт их жизни и здоровья, и нельзя было и подумать уехать нам обоим, оставив детей на няньку… К тому же на подобное торжество надо было и мне явиться одетой в светлом, если и не роскошно, то все-таки прилично, а это увеличивало стоимость поездки» (Анна Григорьевна не знала, что смерть императрицы и официальный по этому случаю траур могли бы избавить её от последних забот).
Полагали, что он пробудет в Москве самое большее неделю. Но в связи с отсрочкой торжеств он оставался там восемнадцать дней (не считая дороги). За это время Анна Григорьевна натерпелась страху. Она опасалась, что с мужем случится в Москве припадок и он, «ещё не придя в себя, пойдёт по гостинице отыскивать меня, что там его примут за помешанного и ославят по Москве, как сумасшедшего». Она прекрасно знала, что в такие минуты его нельзя оставлять одного: после приступа он испытывал «мистический ужас», и присутствие близкого человека было ему необходимо. Анна Григорьевна даже подумывала, не поехать ли ей в Москву инкогнито и, нигде не показываясь, наблюдать здоровье мужа.
Впрочем, у неё имелись опасения и иного рода. Хорошо изучившая характер своего супруга, она пыталась по мере сил уберечь его от неприятных встреч и разговоров, прибегая порой для этого к маленьким хитростям. В гостях она просила хозяйку дома посадить мужа подальше от того или иного потенциально опасного посетителя. Под благовидным предлогом она отзывала мужа в сторону, если он начинал слишком уж горячиться.
Москва таила в себе угрозу. В ней собиралась «вся литература», причём в большинстве своём – враждебная (Анненков, Тургенев). Поэтому опасения, что мужа «могут раздражить, довести его до какого-нибудь безумного поступка»[581]581
Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 358, 362.
[Закрыть] (тургеневский обед ещё на памяти!) – все эти опасения выглядят не столь уж неосновательными.
Единственным утешением было то, что он обещал писать регулярно. И он сдержал слово: письма из Москвы отправлялись порой даже два раза в сутки.
Он написал ей тринадцать больших посланий (с припиской, имеющей характер самостоятельного письма, – четырнадцать)[582]582
Указанная приписка всегда печатается как дополнение к письму от 25 мая и датируется этим же числом. Такая датировка ошибочна (она вызвана опиской Достоевского в дате: «25 мая, 2 часа пополудни»). Из текста письма явствует, что оно написано днём 26 мая и представляет собой постскриптум к письму от 25/26 мая. В два часа пополудни 25 мая Достоевский не мог говорить об обеде в его честь, который намечался на пять часов того же дня, как о «вчерашнем».
После смерти мужа Анна Григорьевна хранила его письма в особой клеёнчатой сумке, поместив их – по времени написания – в отдельные бумажные пакеты. Московские письма 1880 г. находились в последнем пакете – одиннадцатом.
Не опубликовав при жизни ни одного его письма к ней, Анна Григорьевна прекрасно понимала им цену. В 1902 г. в тетради под заголовком «En cas de ma mort ou d’une maladie grave (В случае моей смерти или тяжёлой болезни – фр.)» она записала: «Письма Фёдора Михайловича ко мне, как представляющие собою чрезвычайный литературный и общественный интерес, могут быть напечатаны после моей смерти в каком-либо журнале или отдельною книгою… Если нельзя напечатать целиком, то можно бы было напечатать лишь письма, относящиеся к Пушкинскому празднику» (Красный архив. 1922. Т. 1. С. 367. См. также: Письма Достоевского к жене. Москва – Ленинград, 1926. С. 4–5).
[Закрыть]. Больше в эти дни он не писал никому.
«А письма ты должен о празднике писать подлинне́е, – просит Анна Григорьевна мужа, – слышишь ты, голубчик мой, а то подумай, я ничего о нём не узнаю, а ты так пишешь, как никто»[583]583
Переписка. С. 339.
[Закрыть].
Он действительно писал «как никто».
Трудно отделаться от чувства, что судьба имела свой тайный умысел, разлучая супругов на время московских торжеств. Будь они вместе, мы никогда бы не обрели возможность читать этот, как выражался его автор, «бюллетень», вводящий нас в самую гущу событий. Мы никогда бы не увидали совершающееся его глазами.
Он останавливается в гостинице «Лоскутная» на Тверской, твёрдо намереваясь покинуть Москву через день-два. И не без удивления убеждается, насколько за последнее время выросла его популярность. Его уверяют, что праздник переносится лишь на несколько дней, и умоляют остаться. Он говорит, что «Русский вестник» ждёт на июнь очередную порцию «Карамазовых», – ему отвечают, что готовы послать к Каткову специальную депутацию с просьбой об отсрочке. Он – как на последний довод – указывает на жену и детей – и слышит в ответ, что и к Анне Григорьевне будет отправлена коллективная телеграмма и даже (в случае надобности) опять-таки депутация всё с той же просьбой.
Об интригах, разумеется, предпочитают умалчивать.
Он посещает Каткова – главным образом для того, чтобы попытаться оттянуть публикацию романа до осени. В первый свой визит он «опрокинул чашку с чаем и весь замочился»; поэтому, повествуя о втором посещении, ставит в особенную себе заслугу, что «в этот раз я у него чаю не пролил…»[584]584
Там же. С. 319, 327.
[Закрыть].
Катков отменно любезен: потчует своего гостя дорогими сигарами, рекомендует ему лучшего в Москве зубного врача.
Его втягивает в себя предпраздничный водоворот; он принимает бесчисленных посетителей и сам отдаёт визиты; он участвует в приготовлениях и томится в ожиданиях. Самое удивительное, что среди всех этих хлопот он не оставляет надежды выкроить хотя бы несколько часов – и заняться романом («А Карамазовы-то, Карамазовы! Эх, в какую суетню въехал»). Но с горестью убеждается, что это физически невозможно.
Его везут в «Эрмитаж», где в его честь устраивают обед (кажется, он впервые в жизни удостаивается подобной чести). Его поражает московский размах («…не по-петербургски устраивают»): снимается отдельная зала, наличествуют «балыки осетровые l ½ аршина, полторааршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой». Он отдаёт должное утончённости стола и тому, что после обеда за кофеем и ликёром являются «две сотни великолепных и дорогих сигар». (Правда, позднее выяснится, что обед был по подписке, трёхрублевый, а «всю роскошь, цветы, черепаший суп, сигары, залу» и т. д. – всё это издатель «Русской мысли» и большой поклонник Достоевского В. М. Лавров прибавил уже «от себя».)
Радует не только стол: «Сказано было мне (с вставанием с места) 6 речей, иные очень длинные»[585]585
Там же. С 333, 322–323. Не исключено, что «интриги» коснулись и обеда (о чём Достоевский не подозревал). На это намекают слова Гл. Успенского: «…слух пошёл об обеде г. Достоевскому, обеде, который дают этому писателю почитатели, и почитатели не из числа главных действующих в обществе российской словесности лиц» (Успенский Г. ПСС. Т. 6. Москва, 1953. С. 415). Действительно, Достоевский называет только три более или менее значительных имени – И. Аксакова, С. Юрьева, Н. Рубинштейна (из двадцати двух присутствовавших).
[Закрыть].
Он отмечает все эти подробности потому, что пишет жене, которой всё это интересно и которой он желает зримо продемонстрировать, как его принимают и как потчуют. В информации такого рода «вставание с места» и продолжительность речей – момент существенный.
Трудно представить, чтобы, скажем, Л. Толстой в подобном тоне сообщал о своих успехах и приберегал для Софьи Андреевны такие подробности. Черепашьим супом автора «Анны Карениной» не удивишь. В своих романах он может описывать замечательные обеды, но ему не придёт в голову повествовать об этом в своих письмах. Для него это дело светское, следовательно, – привычное. Еда, которой могут его угостить московские друзья, именно еда – и ничего больше.
Для Достоевского разварная стерлядь и дорогие сигары – знак уважения к нему лично.
При этом он совершенно не опасается показаться смешным. С обезоруживающей, почти детской непосредственностью рассказывает он Анне Григорьевне о расточаемых в его адрес знаках внимания: жизнь не очень-то баловала его этим.
Простодушие – вот слово, которое применительно к Достоевскому встречается у нас уже не впервые. Эту свою черту он, очевидно, сознавал и сам. «…У Феди (сына. – И.В.) характер мой, – пишет он Анне Григорьевне, – моё простодушие. Я ведь этим только, может быть, и могу похвалиться, хотя знаю, что ты, про себя, может быть, не раз над моим простодушием смеялась»[586]586
Переписка. С. 225.
[Закрыть].
Его письма к ней покоряют не блеском ума (и вообще не литературным блеском, этим защитным цветом эпистолярного жанра). Их обаяние, может быть, как раз в их нелитературности, в незащищённости автора, безоглядно подставляющего себя ретроспективным насмешкам.
«Эти все московские молодые литераторы восторженно хотят со мной познакомиться»[587]587
Там же. С. 319–320.
[Закрыть], – сообщает он в Старую Руссу. Звучит совершенно так же, как тридцать пять лет назад, когда, упоённый внезапным успехом «Бедных людей», он поведал брату: «Всюду почтение неимоверное, любопытство насчёт меня страшное… Все меня принимают, как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать… откровенно тебе скажу, что я теперь почти упоён собственной славой своей…»[588]588
Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. I. С. 115, 116.
[Закрыть]
Такие признания встречаются у него только в начале и в конце пути: крайности сходятся. Его первый год в литературе и его последний год – «праздник жизни». «В середине» ничего подобного нет: там только будни – вечный, не приносящий ощутимого успеха труд, насмешки недавних друзей, разочарования, недовольство собой…
Но, несмотря на исполненную драматизма жизнь, каторгу, болезни, взлёты и падения, несмотря на возраст и опыт, обнаруживается мало изменившаяся душевная организация. Тогда, в молодости, то, что с ним совершалось, было искушением. Ему выпал успех, и он вёл себя, как положено по «сценарию». Он играл этот успех, внутренне ужасаясь, потому что прозревал в себе настоящего писателя и предчувствовал, какие муки принесёт ему это открытие. Он словно предвидел, что никогда не будет доволен собой, – и чем яснее он это сознавал, тем громче звучали его самовосхваления, тем лихорадочнее вёл он счёт своим действительным и мнимым заслугам.
Теперь он старый известный писатель. Но почему же в его письмах Анне Григорьевне наряду с откровенной гордостью (слишком откровенной, чтобы обратиться в гордыню) звучат и нотки плохо скрываемого удивления? Он искренне удивлён тем, что его так встречают, что посторонние люди узнают его в лицо, что его ценят и им дорожат. То, к чему Тургенев или Толстой отнеслись бы внешне спокойно как к чему-то вполне естественному и заслуженному, глубоко волнует его: он видит в этом неожиданную милость и перст судьбы.
«Он вовсе не знает своей цены», – приводились слова мемуаристки.
Он по-настоящему скромен, и эта внутренняя скромность проявляется уже на бытовом, житейском уровне. В «Лоскутной» его просят перейти в лучший номер: Дума «записала» его именно в нём. «Я удивился и спросил: почему знает Дума? – Да ведь вы же стоите на счёт Думы, ответил Юрьев. Я закричал…»
Он «закричал», ибо во всю свою жизнь никогда не жил на чужой счёт: он за всё привык платить сам. Юрьев «твёрдо» возразил ему, что все гости праздника стоят за счёт Думы и что, отказавшись, он тем самым оскорбит её. «Я решил, наконец, что если и приму от Думы квартиру, то не приму ни за что содержания». Он осведомляется у управляющего гостиницей, правда ли, что его счета оплачивает Дума, и, получив утвердительный ответ, заявляет, что вовсе этого не хочет. Но ему опять возражают, что в таком случае он обидит город Москву. «Что мне теперь, Аня, делать? Не принять нельзя, разнесётся, войдёт в анекдот, в скандал, что не захотел, дескать, принять гостеприимство всего города Москвы и проч.».
Его знакомые удивлены его щепетильностью. В конце концов он смиряется (он, рассчитывающий для поездки в Москву каждую копейку). Путешествие оказывается не столь накладным, но – «но зато как же это меня стеснит! Теперь буду нарочно ходить обедать в ресторан, чтоб, по возможности, убавить счёт, который будет представлен гостиницей Думе. А я-то два раза уже был недоволен кофеем и отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: ишь на даровом-то хлебе важничает»[589]589
Ср. рассуждения на эту тему П. Гайдебурова: «Я нахожу, что для меня это дорого (4-рублёвый номер в «Лоскутной». – И.В.), но мне деликатно намекают, что это не моя забота… Немножко стеснительно, но в то же время (не стану притворяться) очень приятно и даже трогательно… Узнавши, что я – гость, которому ни за что не придётся платить, я, естественно (как, вероятно, и все другие), старался довольствоваться самым необходимым; например, я привык пить за обедом порядочное красное вино, а тут требовал себе самого дешёвого, чтобы не вводить Думу в напрасные расходы»[1509]1509
Неделя. 1880. 15 июня.
[Закрыть].
[Закрыть][590]590
Переписка. С. 324.
[Закрыть].
Подобные опасения оказались не такими уж пустыми. Он, боявшийся из-за своей щепетильности «войти в анекдот», вошёл-таки в него – правда, через четверть века и в смысле, совершенно обратном предполагаемому.
Некий анонимный воспоминатель («Одиссей») помещал в 1906 году в бульварной «Петербургской газете» заметки из «Записной книжки» («Вытащена из моего собственного кармана», – игриво сообщал подзаголовок). В этих извлечённых из кармана историях нашлось место и для Достоевского.
Посетовав, что «такой-то великий человек был совершенным ребёнком в жизни», Одиссей в подтверждение своего тезиса сообщает следующее.
На Пушкинском празднике «все мы, представители тогдашней петербургской литературы и прессы, считались гостями города Москвы, пользовались помещениями в гостиницах, полным содержанием и экипажами в течение недели. Потом стали разъезжаться. Пора, дескать, гостям и честь знать… Один Ф. М. Достоевский остался на долгое время.
– Зачем я буду торопиться? Здесь так прекрасно, и город Москва так принимает меня любезно.
Город Москва был, конечно, рад, что он так понравился знаменитому писателю, и просил погостить сколько ему будет угодно»[591]591
Петербургская газета. 1906. 29 января.
[Закрыть].
Если бы нас не удерживал пиетет перед всегда почтенной неизвестностью (вдруг – что, впрочем, маловероятно – под маской Одиссея обнаружится лицо уважаемое!), мы назвали бы свидетельство таинственного воспоминателя совершеннейшей чепухой. Достоевский, буквально по минутам высчитывающий, когда он сможет вернуться к семье и «Карамазовым», не задержавшийся в Москве ни одного лишнего часа, под пером Одиссея предстаёт этаким парнасским ленивцем, у которого в запасе вечность.
Нет, в подобных случаях он бывал достаточно взросл: «детскость» его выражалась не в этом.
Она хотя бы в том, как популярно объясняет он Анне Григорьевне необходимость остаться и ждать открытия: «Если будет успех моей речи в торжественном собрании, то в Москве (а стало быть, и в России) буду впредь более известен как писатель (т. е. в смысле уже завоёванного Тургеневым и Толстым величия)». Мыслимое ли дело, чтобы те же Тургенев и Толстой так беззастенчиво, так ребячески-откровенно признавались в подобных помыслах и приводили подобные аргументы! Да они постеснялись бы употребить само это слово «величие» – и вовсе не потому, что не смели соотнести себя с таким высоким понятием. Достоевский упоминает о «величии» буднично, с естественностью человека, отнюдь не снедаемого тайным жаром честолюбия: слову не придаётся никакого особого смысла. Это фразеология мальчишки, запальчиво доказывающего окружающим, что и он ничуть не хуже других.
Но кроме соображений престижного порядка он приводит в пользу своего дальнейшего пребывания в Москве и иные доводы. «Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы»[592]592
Переписка. С. 327–328.
[Закрыть].
Битва между тем приближалась.
Потомки Пушкина и другие
Накануне открытия, 5 июня, Московская городская дума устроила приём депутаций.
В зале, убранной зеленью и цветами, красовались три портрета: благополучно царствующего государя, его дяди – Александра I и его прабабки – Екатерины II. Не хватало одного изображения – родителя нынешнего монарха (кстати, портреты тех же особ – опять-таки в отсутствие Николая Павловича – будут фигурировать и завтра на акте в университете: подобная избирательность вряд ли была случайной).
Впрочем, императорский дом был представлен не одними лишь живописными полотнами: в зале присутствовал его высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский – августейший председатель комитета по сооружению памятника. «Весело и радостно было уже видеть, – говорит в частном письме И. Аксаков, – члена царской фамилии и носителей высшей власти сидящими (несколько смиренно и даже сконфуженно) под огромным бюстом Пушкина… Это у нас новое зрелище: явление силы нравственной, смирившей силу внешней государственной власти»[593]593
Русский архив. 1891. Кн. II. Вып. 5. С. 92.
[Закрыть].
Депутации входили в залу одна за другой и заявляли свои чувствования. Однако и здесь наблюдались проблемы. «От православного духовенства, – меланхолически замечает «Неделя», – не было ни одного депутата. Из всех иноверных исповеданий только московский раввин явился представителем своих единоверцев на общерусском празднестве»[594]594
Неделя. 1880. 8 июня.
[Закрыть].
Один депутат (от Московского юридического общества) привлёк всеобщее внимание. Это была дама: доктор прав Лейпцигского университета, тридцатишестилетняя А. М. Евреинова – первая русская женщина с таким учёным званием. «Одета она была прилично, – не без некоторого удивления отмечает агент тайной полиции, – хотя, разумеется, не в трауре (объявленном по случаю кончины государыни. – И.В.), а вся в белом, но манеры её мало женственны; развязности нигилистки, впрочем, не было заметно»[595]595
Октябрь. 1937. № 1. С. 274.
[Закрыть].
Присутствовали все дети Пушкина: Александр Александрович, командир нарвского гусарского полка; Григорий Александрович, отставной военный, «псковский землевладелец»; дочери – Наталья Александровна, графиня Меренберг, морганатическая жена немецкого принца Николая Нассауского, и Мария Александровна Гартунг.
Красавица Наталья Александровна не оставила равнодушным никого – даже упомянутого тайного соглядатая. «Её изящная манера себя держать, непринуждённость любезных ответов… очертание носа, живость и блеск глаз многим старикам напоминали одновременно и её отца и её мать», – добросовестно доносит агент, утруждая начальство явно избыточной информацией. И, словно спохватившись, добавляет: «В субботу она уезжает»[596]596
Там же. С. 275.
[Закрыть].
О Наталье Александровне – правда, без лирических подробностей – упоминает и Достоевский. «Видел (и даже говорил) с дочерью Пушкина (Нассауской)»[597]597
Переписка. С. 343.
[Закрыть], – кратко извещает он Анну Григорьевну.
Он ничего не говорит о второй дочери – Марии Александровне, хотя, казалось бы, именно она должна была заинтересовать его в первую очередь.
Мария Александровна была вдовой генерал-майора Гартунга. Её мужа в 1877 году присяжные признали виновным в подлогах и мошенничестве. Во время суда, в ожидании приговора, генерал выстрелил себе в сердце. Он оставил записку, в которой категорически отрицал свою вину.
Достоевский подробно писал о самоубийстве Гартунга в «Дневнике писателя».
Через много лет Л. Толстой в «Живом трупе» воспроизведёт некоторые подробности этой трагедии.
Аристократическая внешность Марии Александровны («породистые» завитки на затылке) в своё время поразила Толстого: старшая дочь Пушкина послужила «физическим» прототипом для изображения Анны Карениной.
Странные встречи случались на Пушкинском празднике.
Хотя церемония в Думе прошла гладко, главные опасности были ещё впереди. «Говорят, – замечает «Берег», – что для депутатов от газет и журналов сделана одна хоругвь. Один шутник говорит, что представители разных “литературных групп” на площади пред лицом Пушкина изорвут эту хоругвь в клочки и здесь же передерутся»[598]598
Берег. 1880. 5 июня.
[Закрыть].
В тот же день Достоевский пишет Анне Григорьевне: «И вообще здесь уже начинается полный раздор. Боюсь, что из-за направлений во все эти дни, пожалуй, передерутся… Послезавтра… обед человек в 500 с речами, а может быть, и с дракой»[599]599
Переписка. С. 343.
[Закрыть].
Это письмо написано в гостинице «Лоскутная» в 8 часов вечера 5 июня (то есть накануне открытия): оно передаёт крайнее возбуждение автора. Но имеется ещё одно свидетельство – «со стороны», – запечатлевшее Достоевского примерно за час до написания им вышеуказанного письма. Свидетельство это, принадлежащее П. А. Гайдебурову и носящее вполне дневниковый характер, до сих пор не было замечено.
«Вечером (5 июня. – И.В.) захожу к Достоевскому и вижу, что он в ужаснейшем состоянии: весь как-то подёргивается, в глазах – беспокойство, в движениях – раздражительность и тревога. Я знал, что он человек в высочайшей степени нервный и впечатлительный, страстно отдающийся всякому чувству, но в таком состоянии я, кажется, никогда ещё его не видел. “Что с вами, Фёдор Михайлович?” – “Ах, что это будет, что это будет!” – восклицает он в ответ с отчаянием. “Да что такое? В чём дело?” Он не говорит ничего определённого, но я и без него отлично знаю, в чём дело. Я стараюсь, однако же, успокоить и уверить, что не будет ничего, что всё обойдётся прекрасно. Когда уверяешь другого в чём-то таком, в чём сам не уверен, а только хочешь увериться, то всегда делаешь это с особенным азартом, и чем меньше веришь сам, тем сильнее уверяешь другого. Не знаю, удалось ли мне уверить Достоевского, но он, по-видимому, несколько успокоился, а сам я ушёл от него ещё более встревоженный, чем пришёл»[600]600
Неделя. 1880. 15 июня. Хотя статья не подписана, автором её несомненно является П. А. Гайдебуров. Ср.: «Пришёл домой… в надежде… просмотреть мою статью (то есть будущую Речь. – И.В.), затем приготовить рубашку, фрак к завтраму, а затем пораньше лечь спать. Но пришёл Гайдебуров…» (Переписка. С. 343)
[Закрыть].
Две фигуры в белом
…С утра 6 июня накрапывал дождик; затем перестал, но погода оставалась серенькой. «Четыре фотографа, – сообщает журнал «Будильник», – ещё с раннего утра установили, в разных пунктах, свои аппараты…»[601]601
Будильник. 1880. 9 июня.
[Закрыть] Депутаты в чёрных фраках с белыми бутоньерками (на которых стояли золотые буквы А.П.) спешили в верхнюю церковь Страстного монастыря, где Московский митрополит Макарий служил панихиду.
«Почему-то, – замечает Страхов, – нельзя было совершить окропление памятника Святою водою, как это принято при всяких сооружениях»[602]602
Биография… С. 306 (первая пагинация).
[Закрыть]. Об этом же пишет и Глеб Успенский: «…поговаривали в народе, что едва ли митрополит разрешит святить статую, так как, что ни говори, Пушкин-то он Пушкин, а всё-таки он истукан, статуй, идол… человек не на коне, не с саблей, а просто со шляпой в руке…»[603]603
Успенский Г. ПСС. Т. 6. С. 410. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания и других современников. Ср.: «Остаётся доселе непонятным лишь одно – отчего религиозное освящение не коснулось самого открытия памятника» (Открытие памятника Пушкину в Москве (записки депутата) // Древняя и новая Россия. 1880. Июнь. С. 5.)
[Закрыть] Может быть, дело было не только в шляпе…
…Молодая жена А. С. Суворина, тронутая прекрасной службой, дивным пением певчих, молилась за Пушкина со слезами на глазах. Вдруг кто-то тронул её за плечо. «Я чуть-чуть оглянулась, думая, что это, как обычно, передают свечу к Образу. Смотрю – пустая рука. Взглянула вверх, – о ужас – вижу Фёд<ор> Мих<айлович>, как всегда, с блестящими проникновенными глазами смотрит мне в глаза и шепчет: “У меня к Вам большая просьба… Обещайте только её исполнить”».
Он повёл смущённую Анну Ивановну в притвор, повторяя: «Обещаете?» Ей подумалось, что он сейчас попросит подвезти его в экипаже, и она (уже с улыбкой) сказала, что с удовольствием исполнит его желание. «Он взял мою руку, крепко сжал в своей и сказал: “Так вот что! Если я умру, вы будете на моих похоронах и будете за меня молиться, как вы молились за Пушкина! Я всё время наблюдал за вами, будете? Обещаете?”» И, не слушая её сконфуженный лепет, повторил сурово: «Вы обещаете?»[604]604
Цит. по кн.: Достоевский и его время. Ленинград, 1971. С. 297.
[Закрыть]
Она – обещала.
Он вышел на площадь, расцвеченную красными, белыми и синими флагами, заполненную депутациями городских цехов и делегатами с венками в руках. Громадная толпа глухо гудела в ближайших улицах; люди усеяли крыши (окна, выходящие на площадь, сдавались по цене от 20 до 50 рублей). Под звон колоколов и звуки гимна парусиновая пелена, колеблемая ветром, медленно упала к ногам монумента.
Тут следует остановиться и вспомнить.
Несколько месяцев назад он тоже стоял на площади – в пятидесятитысячной толпе, собравшейся, правда, совсем по иному поводу. Это было 22 февраля: казнили Млодецкого.
Две толпы, два события, внешне ничем не связанные друг с другом, знаменуют собой крайние точки незабываемого 1880 года. В феврале – один из последних всплесков кровавой волны затихающего правительственного террора; в июне – неистовое ликование, клики восторга, объятия и слёзы: первый всплеск иной, закипающей волны – того желанного единения, которое, как мнилось, уже близко, уже грядёт, уже «у дверей».
Тогда, на Семёновском плацу в Петербурге, и теперь – на Тверской площади в Москве, высились фигуры в белых балахонах: но тогда – балахон надевали, теперь – снимали, и он медленно падал, обнажая «благородный медный лик» того, чьё имя должно было, словно по волшебству, прекратить вековые распри.
«Ещё свежо рисуются воображению убийства и покушения фанатиков, ещё не заглажено мрачное впечатление виселицы»[605]605
Новое время. 1880. 7 июня.
[Закрыть], – писало «Новое время» на следующий день после открытия памятника.
Пушкинский праздник был пиром духа, но – пиром во время чумы. И всё же (как думалось) он мог знаменовать исцеление.
Накануне праздника были помилованы приговорённые к смертной казни Адриан Михайлов (тот самый кучер, который правил Варваром в момент покушения на Мезенцова) и О. Веймар. Это решение расценивалось как важный политический жест. «В этом помиловании он (русский человек. – И.В.) почерпнёт главную уверенность в прочности государственного строя… В таком успокоении лучший залог борьбы со всякими преступными замыслами»[606]606
Голос. 1880. 17 мая.
[Закрыть], – радовался «Голос». Ему вторила «Неделя»: «Мы считаем знаменательным… что памятник… открыт в начале того десятилетия, когда обещают замириться у нас внутренние тревоги, так сильно смущавшие русское общество в течение последних годов»[607]607
Неделя. 1880. 8 июня.
[Закрыть].
Вспомним оптимизм Тургенева в его апрельском письме к Стасюлевичу. «Враждебный элемент» устранялся в Москве потому, что он «устранялся» и в Петербурге: только что по настоянию Лорис-Меликова был уволен в отставку «министр народного помрачения» – Д. А. Толстой. «Представьте, кому ни скажешь, кому ни покажешь телеграмму – первым делом все крестятся, – сообщает Тургенев о реакции москвичей. – Вот ненавидим был человек! Но каким образом это случилось? Как рухнул этот столб?! – Подробностей, ради Бога, подробностей!»[608]608
М. М. Стасюлевич и его современники… Т. 3. С. 179. Ср. собственное признание Лорис-Меликова: «Всем памятно, как в Зимнем дворце целовались у заутрени, приветствуя друг друга словами: «Толстой сменён, воистину сменён!» (отставка совпала с Пасхой. – И.В.) // Каторга и ссылка. 1925. № 2 (15). С. 122.
[Закрыть]
Отставка Толстого была косвенным ударом и по Каткову: он сразу оценил этот шаг и отозвался в своей газете сдержанно-негодующей статьёй.
Место Толстого на посту министра просвещения занял А. А. Сабуров, а на посту обер-прокурора Синода – К. П. Победоносцев (вряд ли Лорис-Меликов мог предположить, что именно этот последний свалит его самого и всю его систему ровно через год – в апреле 1881-го).
Сабуров «по должности» представлял правительство на московских торжествах. «…Новый министр Народного Просвещения, сам лицеист, выпросился на этот день у Государя в Москву»[609]609
Русский архив. 1891. Кн. II. Вып. 5. С. 93.
[Закрыть], – свидетельствует И. Аксаков. П. А. Висковатов (родственник Сабурова) говорил Достоевскому, что министр «читал некоторые места Карамазовых, буквально плача от восторга»[610]610
Переписка. С. 332.
[Закрыть].
Сразу же после открытия памятника состоялся торжественный акт в университете, на котором присутствовал и Сабуров. «Министр народного просвещения, – спешит наябедничать петербургскому начальству агент-осведомитель, – заставил себя долго ждать и вошёл лишь через полчаса, уже после того, как все заняли места, не исключая в том числе и его высочества принца Ольденбургского»[611]611
Октябрь. 1937. № 1. С. 275.
[Закрыть].
Во время церемонии Тургенев был избран почётным членом Университетского совета. Это была самая крупная победа западников на Пушкинском празднике.
«…Мы слышали, например, из вполне достоверного источника, – писал «Вестник Европы», – что два месяца назад избрание московским университетом одного из его новых почётных членов было делом весьма проблематическим – казалось возможным не получить утверждение выбора (Д. А. Толстой скорее всего не утвердил бы. – И.В.); но обстоятельства быстро переменились – и новый министр народного просвещения самым торжественным образом приветствовал избрание Тургенева»[612]612
Вестник Европы. 1880. Июль. С. 28–29.
[Закрыть].
Что же произошло в университетском зале днём 6 июня?
Когда крупная фигура Тургенева поднялась со своего места, раздался вопль восторга. Новый министр, повествует «Неделя», «с приветливой улыбкой на симпатичном, ещё совсем молодом лице (Сабурову – сорок два года. – И.В.)… делает несколько шагов к Тургеневу, который и со своей стороны старается пробраться к нему сквозь стулья. Вот они подошли друг к другу, министр протягивает Тургеневу руку – и публично, перед всей этой возбужденной толпой, целует его три раза»[613]613
Неделя. 1880. 15 июня.
[Закрыть]. (Здесь, правда, закрадывается одно подозрение: не был ли этот поцелуй вынужденным, причём не только в общественном, но и в прямом физическом смысле? Не сам ли Иван Сергеевич, по своему обыкновению, подставил щёку неопытному представителю власти?)
Министерский поцелуй означал нечто большее, нежели оценку художественных заслуг Тургенева. Он как бы символизировал официальное признание тех интересов, за которые либеральное общество ратовало последние четверть века. Он мог означать, что отныне власть намерена опереться на либеральные круги, ибо правительственное лобзание адресовалось человеку, «которого, – с укором писала «Неделя», – иные выставляли прежде каким-то вождём антиправительственной интеллигентской оппозиции»[614]614
Там же.
[Закрыть].
Как же повёл себя в подобной ситуации редактор «Московских ведомостей»?
Incident Katkoff
«Катков, – напишет в одной ныне забытой статье В. В. Розанов, – создал государственную печать в России и был руководителем газеты, которая, стоя и держась совершенно независимо от правительства, говорила от лица русского правительства в его идеале, в его умопостигаемом представлении».
Розанов полагает, что именно Катков в большей степени, чем сама власть, защищал национальные интересы России. Ибо власть «была в сущности «расхищена»: и каждый ковал своё личное благополучие, ковал торопливо и спешно, из того кусочка «власти», который временно попал в его обладание». Редактор «Московских ведомостей» как бы осуществлял московскую цензуру над всей петербургской администрацией – во имя своего главного дела: «Дело это – единство и величие России». Розанову, писавшему о мистической роли государства, была близка такая позиция. Он говорит, что только в Москве, вдали от мелочной и своекорыстной петербургской бюрократии, которая в общем боялась Каткова, «вблизи Кремля и московских соборов, – могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая»[615]615
Ветлугин В. <В. В. Розанов> Суворин и Катков // Колокол. 1916. 11 марта.
[Закрыть].
Розанов не вполне прав: можно указать на одно исключение.
В эти июньские дни Катков испытывает небывалую растерянность. Это потом, через год-два, он настолько осмелеет, что, оказываясь порой большим католиком, чем папа, будет «громить» правительство справа и менять неугодных ему министров. Сейчас же, летом 1880 года, реальная власть (вернее, влияние на реальную власть) ускользает из его рук. Не в силах предугадать истинные намерения правительства, он делается расчётливее и осторожнее: он предпочитает тактику выжидания.
Между тем его противникам мнится, что он готов дать решительный бой.
«Драка», которой так опасался Достоевский, грозила вспыхнуть в тот же день 6 июня на обеде, который Московская городская дума давала гостям.
Утром этого дня Тургенев посылает М. М. Ковалевскому следующую записку: «Любезнейший Максим Михайлович, вчера было решено соборне, чтоб нам всем идти непременно – иначе может показаться, что мы трусим, – но если Катков что-нибудь себе позволит, мы все встанем и удалимся»[616]616
Тургенев И. С. СС. Т. 12 (Письма). С. 270.
[Закрыть].
Это уже настоящая война – с рекогносцировкой, выработкой общей тактики и т. д. То, что предлагается, тоже большое новшество для отечественных застолий: так фракция – в знак протеста – покидает парламентскую (здесь: обеденную) залу.
Позднее Е. А. Штакеншнейдер со слов В. П. Гаевского сообщит Достоевскому дополнительные подробности об этих предобеденных манёврах: «…Тургенев ни за что не хотел идти на обед, чтобы не встретиться с Катковым, и пошёл только, когда его друзья ему обещали, что при первой неприятности, которую ему сделает Катков, они все вместе с ним выйдут из залы»[617]617
РО ИРЛИ. № 29906. Ср.: Материалы и исследования. Т. 5. С. 266.
[Закрыть].
Думский обед запомнился надолго.
П. Гайдебуров, накануне пытавшийся успокоить Достоевского, сам пребывал сегодня в величайшем волнении: «…несмотря на страшную жару, я вздрагивал от холода. Ведь слова, одного слова, одного неподходящего звука достаточно, чтобы испортить это настроение, а затем погубить и весь праздник… Неужели такой звук раздастся!»[618]618
Неделя. 1881. № 24. 15 июля.
[Закрыть]
Сабуров, как ему и полагалось, провозгласил первый тост за здоровье государя («радушно, но не восторженно»[619]619
Октябрь. 1937. № 1. С. 276.
[Закрыть], – спешит отметить тонко чувствующий агент III Отделения).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.