Текст книги "Тяжесть и нежность. О поэзии Осипа Мандельштама"
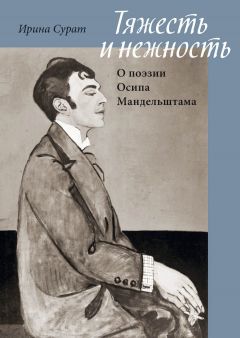
Автор книги: Ирина Сурат
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
В стихах о «ясной догадке», в первом катрене второй части эта интуиция находит выражение в евангельской теме распятия и воскресения. С пересечением границы между жизнью и смертью, совпадающей с границей между первой и второй частями, зримая сладкая походка конкретной женщины распадается на отдельные, гулко звучащие шаги женщин особого призвания. Быстрая походка изменилась, замедлилась, шаги теперь звучат гулко, так как раздаются уже не здесь, «точка зрения поэта – из-под земли»[503]503
Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 58.
[Закрыть]. Шаг приравнен к рыданию – с учетом богородичного подтекста «сырой земли» это рыдание соотносится с темой оплакивания (ср. канон «Не рыдай мене мати, зрящи во гробе, <…> восстану бо и прославлюся…»[504]504
Ср. у Ахматовой в «Распятии» вариации этого ирмоса, взятого эпиграфом: «А Матери: “О, не рыдай Мене…”»; «Магдалина билась и рыдала».
[Закрыть]), но в первую очередь со скорбным шествием жен-мироносиц ко гробу и с плачем Марии Магдалины у пустого гроба (а также, может быть, и с плачем Хромоножки, пропитывающей своими слезами землю и обретающей в этой земле «великую радость»). В стихотворение, написанное сразу после Пасхи, входит пасхальный сюжет с резким переходом от оплакивания к торжеству. Последующие два стиха алогичны, последовательность евангельских событий в них как будто нарушена: «Сопровождать воскресших и впервые / Приветствовать умерших – их призванье». «Парадоксальные строки <…> кажутся просто ошибочно записанными»[505]505
Видгоф Л.М. Осип Мандельштам – Наталья Штемпель – Воронеж. Три героя двух новых книг // Сохрани мою речь. Вып. 5/1. М., 2011. С. 85. Надежда Яковлевна эту мнимую ошибку поправила в своем пересказе: «Он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать – воскресшего».
[Закрыть] – но оба автографа отчетливо фиксируют именно это сочетание.
Парадокса нет, так как событие смерти уничтожено воскресением, и в онтологическом вневременном измерении бытия царит другая логика: умерших приветствуют, потому что они воскресли – с точки зрения вечности событие смерти вторично, так что, если вернуться к поэтике, принцип снятых противоречий очевиден и здесь. Тема Марии Магдалины продолжена: это ведь она первой приветствовала умершего и воскресшего. Говоря об источниках, следует иметь в виду, что для Мандельштама зрительный образ зачастую был актуальнее словесного, так что и за этими стихами можно видеть собирательный сюжет и образ жен-мироносиц, известный поэту по европейской живописи и русской иконописи и не менее значимый, чем подтексты собственно книжные, словесные.
«Впервые» – это слово, интонационно усиленное, подчеркнутое рифмой, возвращает к последнему стиху первой части, к теме вечного начала – уничтожение смерти в евангельском сюжете происходит впервые и навсегда, «и это будет вечно начинаться». «Ясная догадка» сначала «хочет задержаться» в быстрой походке подруги, затем явственно проступает в гулких рыдающих шагах жен-мироносиц; вечное начало открывается в женщине – сначала в одной конкретной живой и зримой женщине, затем в женщинах евангельских, первыми увидевших воскресшего. Для Мандельштама в этом сюжете существенна первопричастность женщины к двуединой тайне смерти и вечного рождения, но важно и другое – общая крестная судьба и общее воскресение.
Если это «любовная лирика», как сказал Наталье Штемпель Мандельштам, то в каком-то особом смысле она любовная[506]506
Ср. у Надежды Яковлевны: «Прекрасные стихи Наталье Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташе высокое и просветленное чувство будущей жизни» (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 257).
[Закрыть]. М.Л. Гаспаров назвал это стихотворение «целомудренно-любовным»[507]507
Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 58.
[Закрыть], а С.С. Аверинцев счел его «едва ли не самым строгим и высоким образцом любовной лирики нашего столетия»[508]508
Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Сочинения. Т. 1. С. 61.
[Закрыть], и действительно, оно отличается от таких открыто-чувственных мандельштамовских стихов, как «Я наравне с другими…» (1920) или «Мастерица виноватых взоров…» (1934). Мысль поэта обращена к женскому началу жизни, и в свете открывающегося знания меняется взгляд на привычные, естественные вещи: «И ласки требовать от них преступно…» – не для того они рождены и призваны. В сильном слове «преступно» высвечивается, благодаря раскрывающемуся дальше контексту («поступь», «недоступно»), его внутренняя форма, как будто речь идет о зримой черте, которую герой теперь не может переступить. В стихах 5–8 второй части женщина предстает в целостности своего двуединого телесно-духовного образа; напряжение между телесным и духовным изначально есть, но здесь же оно и снимается – расставаться с реальной, чувственно воспринимаемой женщиной «непосильно», но расставание временно, это мы уже знаем (сравним с ранним: «Кто может знать при слове “расставанье”, / Какая нам разлука предстоит» – «Tristia», 1918). Условно-поэтическое «ангел» и рядом «червь могильный» подключают и сталкивают контрастно две традиционные лирические темы – обожествления женщины и посмертного тления тела, причем последнюю Мандельштам доводит до предела резкости, не просто упоминая червей (как Державин или в новое время Ходасевич и Георгий Иванов), а говоря о превращении женщины, ее плоти, в могильного червя.
Последующее «очертанье» вводит и традиционную и одновременно лично-мандельштамовскую тему посмертной тени («Слепая ласточка в чертог теней вернется…», «Когда Психея-жизнь спускается к теням…», «Родная Тень в кочующих толпах…»), хотя в воронежских стихах 1937 года тень возникает уже как знак сомнительности и зыбкости собственного бытия («Слышу, слышу ранний лед…», «Еще не умер ты, еще ты не один…» – ср. со словами из письма Ю.Н. Тынянову от 21 января 1937 года: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень»). В стихах к Штемпель посмертное бытие обозначено даже не тенью, но «очертаньем» – еще более зыбким, чем тень, и хранящим при этом абрис, контур отбираемого смертью реального облика. Из этого облика вновь поэт выделяет походку, но теперь она воспринимается как «поступь» – в самом слове есть твердость и торжественность, но это не походка так изменилась, а взгляд на нее, изменилось отношение и видение поэта.
«Что было поступь» – станет недоступно…» – при теме смерти и расставания с женщиной слово «недоступно» нам сигналит вновь о пушкинском подтексте[509]509
Впервые на эту связь указано в статье: Рейнольдс Э. «Есть женщины, сырой земле родные…» // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования, материалы. С. 456.
[Закрыть]:
Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала…
Увяла, наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта над нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть
И равнодушно ей внимал я.
При первом восприятии (а на нем зачастую и останавливается процесс проникновения в этот текст) кажется, что «недоступная черта» отделяет живых от мертвых, что событие пушкинской элегии – смерть некогда любимой женщины. Но это не так. Смерть любви – вот что герой-поэт в себе обнаруживает и что его так поражает, смерть любви, случившаяся еще до смерти возлюбленной и независимо от нее. На это откликается мандельштамовское стихотворение, откликается не прямо, но прежде чем попробовать расслышать этот отклик, обратим внимание на скопление временных наречий на малом пространстве текста: «Сегодня ангел, завтра – червь могильный, / А послезавтра – только очертанье…» и, наконец: «Что было поступь – станет недоступно…» Станет – когда? Всегда, в неопределимой време́нной перспективе, разомкнутой в бесконечность.
В связи с этим хочется вспомнить дневниковую запись о. Александра Шмемана от 13 апреля 1973 года: «Вечность – не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь – это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. “Анамнезис”: все христианство – это благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь»[510]510
Шмеман А. прот. Дневники. 1973–1983. М., 2005. С. 25.
[Закрыть].
Стихотворение Мандельштама – как будто иллюстрация к этим мыслям: вечность предстает здесь не отменой времени, а собиранием его, время не исчезает в «луговине той», но присутствует в своей полноте. Переживание вечности дано в этих стихах как переживание любви, и «недоступная черта» пролегает не там, где у Пушкина. Недоступна станет походка-поступь, с любования которой начались стихи, там она станет недоступна чувственному восприятию, это вызывает сожаление, но перекрывается другим переживанием и знанием: «Цветы бессмертны, небо целокупно…»
Эти два простых предложения (в одном автографе они разделены запятой, в другом – точкой) – две части одного высказывания, итог и кульминация лирического сюжета, здесь каждое слово имеет историю и собирает в пучок множественные смыслы[511]511
«Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося “солнце”, мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить – значит всегда находиться в дороге» («Разговор о Данте», 1933).
[Закрыть]. «Цветы бессмертны» – сложная автоцитата, отсылка к двум зеркальным мотивам двух стихотворений 1920 года: «Бессмертник не цветет» («Я слово позабыл, что я хотел сказать…») и «Все цветут бессмертные цветы» («В Петербурге мы сойдемся снова…»). В первом случае нецветущий бессмертник дополняет картину беспамятства и мертвенной пустоты Эреба; во втором «бессмертные цветы» появляются рядом все с теми же «блаженными женами», а дальше, через строфу – «бессмертных роз огромный ворох / У Киприды на руках». Второй пример отвечает первому, а воронежская элегия отвечает им обоим – такова вообще внутренняя связанность поэтического мира Мандельштама. «Цветы бессмертны» – прозрачное иносказание бессмертной любви, но в такой форме оно здесь неслучайно. Образ Натальи Штемпель, каким он видится по воспоминаниям о ней, был в сознании окружавших ее людей связан с цветами. Она настолько любила цветы, что об этом специально говорят мемуаристы: «У Натальи Евгеньевны всегда были цветы, иногда для них ваз не хватало. Больше всего нравились ей полевые цветы, радовалась ромашкам, василькам и первым фиалкам, подолгу их из рук не выпускала»[512]512
«Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. С. 286.
[Закрыть]; «Зная неизменную любовь хозяйки дома к цветам, как и каждый год, гости приносили букеты самых лучших цветов <…> Розы и гвоздики, георгины и хризантемы, астры и лилии, гладиолусы и циннии, садовые ромашки и колокольчики неизменно заполняли все комнаты квартиры Натальи Евгеньевны в день ее рождения»[513]513
Там же. С. 264.
[Закрыть].
И Мандельштам, конечно, приходил к ней с цветами[514]514
Там же. С. 222.
[Закрыть] и гулял с ней в Ботаническом саду, и в тот же день, что и стихотворение о «пустой земле», 4 мая 1937 года, он написал цветочное стихотворение-загадку:
На меня нацелилась груша да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет меня без промаха.
Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, —
Что за двоевластье там? В чем соцветьи истина?
С цвету ли, с размаха ли бьет воздушно-целыми
В воздух убиваемый кистенями белыми.
И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется – смешана, обрывчива.
Загадку без труда разгадала Надежда Яковлевна: «Это о нас с Вами, Наташа»[515]515
«Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. С. 65.
[Закрыть].
Конечно, связь цветов с любовью, женщиной, красотой – константа мирового искусства, но от этого мандельштамовский образ, поддержанный конкретным поэтическим и биографическим контекстом, не теряет свойства личной тайнописи. Высказывание бытийного характера, по виду условно-декларативное, оказывается вместе с тем и заветным сообщением – собственно, так же, как пушкинское «цветет среди минутных роз / Неувядаемая роза».
«Небо целокупно» – еще одна декларация и еще одна загадка. «Бессмертные цветы по семе “вечное, нетленное” у Мандельштама есть близнец целокупного неба», – пишет М.С. Павлов[516]516
Павлов М.С. К теме движения в поэзии Мандельштама: семантика шага в стихах к Н.Е. Штемпель // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. С. 180.
[Закрыть], и это очевидно так. Но что значит «целокупно»? Двумя месяцами раньше Мандельштам уже употребил это сочетание в «стихах о неизвестном солдате»:
Неподкупное небо окопное —
Небо крупных оптовых смертей, —
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте…
Как показали А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский, «целокупное небо» содержит «двуязычную тавтологию», «так как одним из мотивирующих оснований для появления эпитета целокупный служит латинское caelum ‘небо’»[517]517
Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Калька или метафора? Опыт лингвокультурного комментария к «Стихам о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама // Вопросы языкознания. 2011. № 6. С. 107.
[Закрыть]. И обратно – латинское caelum обнаруживает в себе целое, так что получается и небо небес и апофеоз полноты, целостности.
Если в «Стихах о неизвестном солдате» небо – один из главных образов, основное поэтическое пространство, то в элегии о «пустой земле» взгляд переводится на небо внезапно, как будто соединяя, сшивая с небом все земное и подземное. Здесь завершается тема земли, сквозная в мандельштамовской лирике, но здесь же завершается и тема неба – они завершаются вместе, сходятся в этом стихотворении. Мандельштам начал поэтический путь с недоверия к небу, с программного отталкивания от него («Мы будем помнить и в летейской стуже, / Что десяти небес нам стоила земля»). По словам Надежды Яковлевны, «небо никогда не было для Мандельштама обиталищем Бога, потому что он слишком ясно ощущал его внепространственную и вневременную сущность. Небеса, как символ, у него встречаются очень редко, может, только в строчке: “что десяти небес нам стоила земля”. Обычно же это – пустые небеса, граница мира, и задача человека внести в них жизнь, дав им соразмерность с делом его рук – куполом, башней, готической стрелой»[518]518
Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 203.
[Закрыть]; последние слова отсылают к одному из восьмистиший («Он также отнесся к бумаге, / Как купол к пустым небесам») и к «Утру акмеизма» («Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической колокольни – злая, потому что весь ее смысл – уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто»). И в другом месте Надежда Яковлевна пишет: «Верность земле и земному сохранилась у О.М. до последних дней, и воздаяния он ждал “только здесь на земле, а не на небе“, хотя и боялся не дожить до этого…»[519]519
Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 315.
[Закрыть].
Но в воронежских стихах 1937 года прорастает иное отношение к небу – в них неба много, и это уже не то условно-символистское, холодное, пустое и чуждое небо, которому так решительно предпочитались земля и земное, а близкое, свое, лично переживаемое пространство – «раздвижной и прижизненный дом»; оно переживается и непосредственно, и в образах Данте и Леонардо в нескольких подряд стихотворениях марта 1937 года, параллельных «Стихам о неизвестном солдате», – М.Л. Гаспаров определил их как «небольшой цикл визионерски напряженных стихов о небесах»[520]520
Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 57.
[Закрыть] («Я скажу это начерно, шепотом…», «Небо вечери в стену влюбилось…», «Заблудился я в небе – что делать?» в двух вариантах, «Может быть, это точка безумия…», «Не сравнивай: живущий несравним»). В воронежских тетрадях, в обратной перспективе всей мандельштамовской лирики можно увидеть процесс примирения с небом, соединения земли и неба в личном, внутреннем опыте. И вот последнее воронежское стихотворение, начавшись темой «пустой земли», заканчивается «целокупным небом» – образом полноты и бесконечности бытия, открывающегося в любви, в женщине.
«И все, что будет, – только обещанье», – это опять заставляет вспомнить слова из мандельштамовского письма жене от 2 мая 1937 года: «Мы вместе бесконечно, и это до такой степени растет, так грозно растет и так явно, что не боится ничего».
С точки зрения вечности «все» и «ничего» – одно и то же, конечное на фоне бесконечного, временное на фоне бессмертия.
Стихотворение, действительно, читается как завещательное (хотя в последующие месяцы, в Москве и Савелове, вплоть до ареста, тоже писались стихи). Смерть реальна и близка, финал открыт, завещание не подводит итогов, а спокойно, с доверием распахивает «двери в будущее» («Разговор о Данте»). «Радостное предчувствие» будущего («Слово и культура») всегда было свойственно Мандельштаму, здесь же прови1дение поэта уходит дальше и дальше – в немыслимое сверхбудущее[521]521
Положения этой статьи были существенно дополнены О.А. Седаковой, показавшей глубокую связь стихотворения с итальянской поэтической традицией; см: Седакова О.А. Прощальные стихи Мандельштама. «Классика в неклассическое время» – https://www. olgasedakova.com/Poetica/1584/search
[Закрыть].
Словесная живопись
На бледно-голубой эмали
На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.
Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, —
Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.
1909
Стихотворение отчетливо делится на две части (граница проходит посередине второй строфы), и в нем два изображения – одно отражается в другом. В первом стихе как будто бы назван материал, на который наносится рисунок – «эмаль», но тут же оказывается, что речь идет о природе, о реальном, не нарисованном вечере, реальных ветках берез, а бледно-голубая эмаль – метафора неба. Стирая границу между рукотворным и нерукотворным, Мандельштам описывает небо и деревья как картину, произведение искусства; в другом стихотворении того же 1909 года встречаем вариацию этой темы и повторение приема: «На темном небе, как узор, / Деревья траурные вышиты».
К ним примыкает третье:
Истончается тонкий тлен —
Фиолетовый гобелен,
К нам – на воды и на леса —
Опускаются небеса.
Нерешительная рука
Эти вывела облака,
И печальный встречает взор
Отуманенный их узор.
Недоволен стою и тих
Я, создатель миров моих, —
Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса.
1909
И здесь небеса и облака предстают изображенными чьей-то рукой[522]522
Ср. в более поздних стихах: «На мягком сланце облаков / Молочный грифельный рисунок» («Грифельная ода», 1923).
[Закрыть], причем во всех трех случаях поэт соотносит увиденное не с живописью, а с произведением прикладного искусства – расписанной тарелкой, вышивкой, гобеленом. У читателя первого стихотворения картина веток на фоне голубого неба может вызвать в памяти «Цветущие ветки миндаля» Ван Гога, или «Акации весной» Михаила Ларионова, где ветки акаций создают на голубом небе тончайший сетчатый узор, – кажется, что эта известная картина наиболее точно соответствует мандельштамовской словесной живописи, но поэт обращает нас к узору на «фарфоровой (в первых публикациях «на фаянсовой» – И.С.) тарелке» и его возводит в перл создания.
Тема узора устойчиво звучит в стихах Мандельштама 1909–1911 годов – впоследствии она из лирики исчезает. Три примера мы уже привели, приведем и другие: «На стекла вечности уже легло / Мое дыхание, мое тепло. / Запечатлеется на нем узор, / Неузнаваемый с недавних пор. / Пускай мгновения стекает муть – / Узора милого не зачеркнуть» («Дано мне тело – что мне делать с ним…», 1909), «Узоры острые переплетаются…» («Когда удар с ударами встречается…», 1910), «Листьев сочувственный шорох / Угадывать сердцем привык, / В темных читаю узорах / Смиренного сердца язык» (1910), «И бытия узорный дым / На мраморной сличаю плит1 е» («Мне стало страшно жизнь отжить…», 1910), «И кружева не нужен смысл узорный…» («О небо, небо, ты мне будешь сниться!», 1911, опущенная строфа). Последние три примера прямо говорят о том, что узор в этих ранних стихах – это метафора самого бытия, его связей и смысла, это рисунок жизни, в который поэт вглядывается внимательно, силясь его прочувствовать, разгадать, отобразить.
Этот контекст подсказывает нам, что и в стихотворении «На бледно-голубой эмали…» узор имеет такое же символическое значение. «Отточенный и мелкий», то есть тщательно прорисованный Создателем, он отражается в зеркале 2–3-й строф, в работе «художника милого», наносящего рисунок на тарелку, при этом, как отметил М.Л.Гаспаров, «в I строфе небо уподоблено “эмали” искусства, в III-й – стекло (фарфор?) искусства “тверди” неба»[523]523
Гаспаров М.Л. Статьи для «Мандельштамовской энциклопедии» // М.Л. Гаспаров. О нем. Для него: Статьи и материалы. М., 2017. С. 18.
[Закрыть]. Небо опрокинуто на тарелку, тарелка отражается в небе, сама структура несет мысль о взаимоотражении искусства и жизни.
Если выйти за пределы текста и вообразить тарелку, какую мог иметь в виду Мандельштам, а он, как правило, имеет в виду что-то конкретное, то естественным образом представляется фарфор с синей или голубой росписью – это соответствует зеркальной композиции стихотворения. Возможно, перед его внутренним взором стояла тарелка дельфтского фарфора с синими ветками деревьев; в России такой тип рисунка, восходящий к китайским образцам монохромной росписи, начали копировать с середины 1720-х годах на фаянсовой фабрике Афанасия Гребенщикова, позже «кобальтовую роспись» практиковали на заводе Гарднера и заводах Кузнецова – их продукцию мог непосредственно видеть и иметь в виду Мандельштам.
Образ фарфоровой тарелки, с которой сравнивается небо, оказался значимым в перспективе дальнейшего развития русской поэзии. Искусствовед и критик Эрих Голлербах писал в эссе «Поэзия фарфора» (1920-е годы): «Глубокое понимание мистики вещей, одушевленности “предметов внешнего мира”, к которому предыдущее поколение относилось если не с пренебрежением, то все же без любви, впервые проявилось в поэзии Иннокентия Анненского, а затем в “акмеизме” Н. Гумилева и О. Мандельштама. У Мандельштама есть стихотворение, вскользь упоминающее о “фаянсовой тарелке”. В свое время многим казалось новым и неожиданным после туманов символизма это пристальное и бережное внимание к вещи как таковой, к конкретному рисунку, вычерченному на фаянсовой тарелке. Поэт чувствует в работе художника “сознание минутной силы, забвение печальной смерти”, т. е. ту, хотя бы призрачную и краткую победу над темным временем и косным веществом, которая сообщает художественному произведению своеобразную одушевленность» (ГРМ, ф. 32, ед. хр. 75, л. 3)»[524]524
Цит. по: Мандельштам О.Э. Камень. С. 289 (комм. А.Г. Меца).
[Закрыть].
Это суждение перекликается с мыслями Мандельштама, развернутыми в статье «О природе слова» (написана и впервые опубликована в 1922 году): «Урок творчества Анненского для русской поэзии – не эллинизация, а внутренний эллинизм, адекватный дух русского языка, так сказать, домашний эллинизм. Эллинизм – это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм – это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку <…> Эллинизм – это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. <…> В эллинистическом понимании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно, и символом. Спрашивается, нужен ли поэтому сугубый, нарочитый символизм в русской поэзии? Не является ли он грехом против эллинистической природы нашего языка, творящего образы, как утварь, на потребу человека?».
Яркий пример такого «домашнего эллинизма» – стихотворение «Кому зима – арак и пунш голубоглазый…» (1922), но и в стихах 1909 года «утварь» уже становится символом, тарелка становится метафорой неба – можно видеть, что эстетическая доктрина Мандельштама выросла постепенно из его собственной поэтической практики.
Третья, последняя строфа отдана образу «художника» – по словам М.Л. Гаспарова, он «сближается с образом Бога»[525]525
Гаспаров М.Л. Статьи для «Мандельштамовской энциклопедии» // М.Л. Гаспаров. О нем. Для него: Статьи и материалы. С. 18.
[Закрыть], или, говоря осторожнее, мандельштамовский художник подражает Творцу, отражает его в себе, при этом художник неожиданно назван «милым», сила его минутна, он не побеждает смерть, а только забывает о ней – Мандельштам утверждает силу искусства мягко, по-домашнему, без пафоса и без метафизики. Есть в этих стихах и третий художник – сам поэт, создающий свой словесный рисунок на эмали небес. Отождествление лирического я с рисовальщиком или живописцем органично для Мандельштама – вспомним его «Оду» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…», 1937) или «Как светотени мученик Рембрандт…» (1937), или стихотворение «На доске малиновой, червонной…» (1937), но важнее тут широкое значение слова «художник», важнее, что эти ранние стихи уже говорят о формировании мандельштамовских представлений о художнике вообще. Впоследствии он развернет противопоставление моцартианского и сальерианского типов: «На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира» («О природе слова»). Если мыслить в этой парадигме, то «художник милый» не идеалист-мечтатель, не небожитель – скорее ремесленник, небо свое рисующий на тарелке.
Эти темы и образы, по-видимому, произвели впечатление на Георгия Иванова и стали поводом к созданию стихотворения «Старинный сервиз» (1914)[526]526
Наблюдение А.Ю. Арьева, предположившего, что Г.Иванов узнал стихи Мандельштама до публикации: Иванов Г. Стихотворения. СПб.-М., 2009. С. 524 (комм.).
[Закрыть]:
Кофейник, сахарница, блюдца,
Пять чашек с узкою каймой
На голубом подносе жмутся
И внятен их рассказ немой:
Сначала – тоненькою кистью
Искусный мастер от руки
Чтоб фон казался золотистей,
Чертил кармином завитки.
Иванов подхватывает тему, раскрывает ее возможности, домысливает судьбу расписных чашек, которые оказываются у него долговечнее человеческой жизни, и в последних строфах дает образец искусной словесной росписи:
А на кофейнике пастушки
По-прежнему плетут венки;
Пасутся овцы на опушке,
Ныряют в небо голубки.
Пастух не изменяет позы,
И заплели со всех сторон
Неувядающие розы
Антуанеты медальон.
Однако эта «соревновательная реминисценция»[527]527
Определение А.Ю. Арьева. Там же.
[Закрыть] имеет и другой контекст – в не меньшей мере стихотворение Георгия Иванова связано с пассеистскими опытами раннего Андрея Белого и стилизациями под XVIII век Михаила Кузмина[528]528
За это соображение благодарю Павла Успенского.
[Закрыть]. На этом фоне мандельштамовский свернутый экфрасис выглядит как совсем простое и лаконичное, но очень емкое поэтическое высказывание.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































