Текст книги "Тяжесть и нежность. О поэзии Осипа Мандельштама"
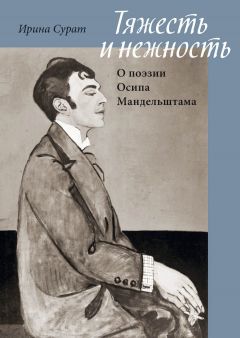
Автор книги: Ирина Сурат
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Еще одна деталь в портрете умирающего – «Два сонных яблока у века-властелина» – продолжает историю одного из устойчивых и заветных мандельштамовских образов. «Два сонных яблока» – это и реализация языковой метафоры «глазное яблоко», и развитие заложенной в этом образе темы времени, остановленного или идущего вспять («Вот дароносица, как солнце золотое…», «С веселым ржанием пасутся табуны…», 1915); она закреплена паронимическим созвучием «век – веки» – здесь Мандельштам, как и во многих других случаях, доверяется языку, следует собственно языковым подсказкам, используя их в развитии образа. Но главная семантическая составляющая образа яблок в этих стихах – это тема власти земной и духовной, тема «державного яблока» как атрибута власти, которая у Мандельштама берет свое начало в двух названных стихотворениях 1915 года. «В «1 января 1924» и в «Современнике» «державное яблоко» превращается в «сонные яблоки» умирающего, теряющего свою власть «века-властелина». А еще яблоко – это символ распрей («яблоко раздора»), войн и революций («А небо будущим беременно», «Париж», 1923), так что в образе обреченного революционного века и эта деталь неслучайна. Все смысловые оттенки символа сходятся к главной теме «Современника», но проясняются эти оттенки только в широком контексте мандельштамовской поэзии, обладающей связанностью цельного текста.
Так или иначе, герой этого стихотворения – время, воплощенное в системе образов, как индивидуальных, так и традиционных («река времен»), а сам поэт предстает здесь свидетелем времени. По сравнению с «1 января 1924» в «Современнике» возрастает и подчеркивается персональность этого свидетельства – сравним в «1 января 1924»: «Кто веку поднимал болезненные веки – / Два сонных яблока больших, – / Он слышит вечно шум, когда взревели реки / Времен обманных и глухих»; в «Современнике»: «Я с веком поднимал болезненные веки – / Два сонных яблока больших, / И мне гремучие рассказывали реки / Ход воспаленных тяжб людских». Во втором варианте строфы возникают два местоимения первого лица – об одном мы уже говорили, другое не менее значимо: мне «рассказывали реки», не кто-то, а лично я свидетельствую о болезнях и умирании века – по праву самого близкого родства. Поэт не объективный хроникер истории и не примазавшийся к ней «современник». Он связан с веком близко, кровно, связан личной ответственностью и величайшей жалостью – эта тема еще раньше прозвучала в стихотворении «Век».
В третьей строфе обращает на себя внимание прилагательное «воспаленный» («Ход воспаленных тяжб людских»); оно редко у Мандельштама – и вот встречается одновременно в этом стихотворении и дважды – в «Прибое у гроба» в отношении Ленина: «Мертвый Ленин в Москве! Как не почувствовать Москвы в эти минуты! Кому не хочется увидеть дорогое лицо, лицо самой России? <…> Высокое белое здание расплавлено электрическим светом. Три черных ленты спадают к ногам толпы. Там, в электрическом пожаре, окруженный елками, омываемый вечно-свежими волнами толпы, лежит он, перегоревший, чей лоб был воспален еще три дня назад… <…> И мертвый – он самый живой, омытый жизнью, жизнью остудивший свой воспаленный лоб».
Это слово связывает метафорическое смертное ложе века, описанное в стихах, и гроб с телом Ленина, описанный по свежим впечатлениям в этом очерке – оно является одновременно определением «тяжб людских», т. е. войн и революций, и деталью облика того, кто был для поэта самим воплощением революции[227]227
Ср. в «Шуме времени»: «Революция – сама и жизнь, и смерть и терпеть не может, когда при ней судачат о жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, но она не примет ни одной капли влаги из чужих рук. Природа – революция – вечная жажда, воспаленность…»
[Закрыть].
У Мандельштама было циклическое представление о времени – «Всё было встарь, всё повторится снова…». Так и в этом стихотворении время идет по кругу, и поэт говорит о том, что он уже как будто видел сто лет назад: «Сто лет тому назад подушками белела / Складная легкая постель / И странно вытянулось глиняное тело: / Кончался века первый хмель». Исследователи, отсчитав сто лет назад от 1924 года, назвали множество имен тех героев истории и поэтов, к которым можно прямо или косвенно отнести эти стихи. С подачи Н.И. Харджиева более или менее принятым оказалось мнение, что здесь, «вероятно, имеется в виду Д. Байрон (1788–1824), принимавший участие в войне за независимость Греции и умерший во время похода»[228]228
Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1978. С. 285 (комм.).
[Закрыть]. Но будь то смерть Байрона или Наполеона, или реминисценция из стихотворения Лермонтова «Памяти Одоевского» или из гумилевских «Туркестанских генералов», увиденные здесь О. Роненом[229]229
Ronen Omry. An approach to Mandel’ŝtam. P. 342–346.
[Закрыть]. Как все это связано с центральной темой стихотворения, как вписывается в его художественную логику? Или мы приписываем Мандельштаму полную произвольность ассоциаций и не ставим вопрос, почему мысль поэта вдруг обращается к какому-то факту в истории, почему его память привносит в текст тот или иной образ из общедоступного багажа мировой поэзии?
«Сто лет тому назад» – автореминисценция из стихотворения 1917 года «Кассандре», в котором революционное настоящее России соотносится с ее прошлым столетней давности: «Больная, тихая Кассандра, / Я больше не могу – зачем / Сияло солнце Александра, / Сто лет тому назад сияло всем?»[230]230
В последних изданиях поэзии Мандельштама эта строфа неправомерно исключается из текста со ссылкой на сложную цензурную историю стихотворения.
[Закрыть] Относительно «солнца Александра» на сегодня, с учетов всех аргументов, можно сказать, что это «одновременно, по принципу наложения»[231]231
Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Мандельштам Осип. Сочинения. Т. 1. С. 36.
[Закрыть], солнце Александра Пушкина и Александра I, причем имплицитно здесь присутствует чрезвычайно значимый для Мандельштама образ погасшего или ночного солнца – ср. с пушкинским стихом «Померкни, солнце Австерлица!» («Наполеон», 1921) и с мандельштамовской фразой из «Шума времени»: «Ночное солнце в ослепшей от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица!» Так что образ «ночного солнца», прежде всего относящийся к Пушкину в поэзии Мандельштама, оказывается косвенно связан со всей александровской эпохой и персонально с Александром I. Но вспомним уже цитированное из «Прибоя у гроба»: «Революция, <…> вот самая великая твоя очередь, вот последняя твоя очередь к ночному солнцу, к ночному гробу…»
Все эти тонкие словесные связи и переклички ведут нас к одной мысли: Мандельштам, хороня революцию в лице Ленина, отсчитывает назад революционный век России к его исходной точке – к смерти императора Александра I в 1825 году, именно о ней он и говорит в 4-й и 5-й строфах стихотворения. Первый революционный хмель – это декабризм, последний – ленинская революция, и вот «глиняное тело» века «странно вытянулось» между двумя этими событиями российской истории[232]232
В неопубликованных пояснениях Н.Я. Мандельштам к этим стихам найдено подтверждение нашему толкованию: «В четвертой строфе имеется в виду смерть Александра I, который умер в Таганроге в походных условиях. С его смертью кончился “века первый хмель”» // Комментарии Н.Я. Мандельштам к стихам О.Э. Мандельштама в записи В.М. Борисова. Публикация Сергея Василенко // «Сохрани мою речь…» Мандельштамовский альманах. Вып. 6 (в печати).
[Закрыть].
«Хмель» декабризма Мандельштам передал в стихотворении «Декабрист» 1917 года в образе голубого горящего пунша, заимствованного из пушкинского «Медного всадника», там же есть и тема «похода мирового» русской армии во время войны с Наполеоном, то есть, как писал Жирмунский, воссоздано «настроение <…> зарождающегося русского либерализма»[233]233
Цит. по: Мандельштам Осип. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 558.
[Закрыть]. В 4-й и 5-й строфах «Современника» Мандельштам отсылает к этому пучку мотивов. Первый этап либерализма, первый революционный хмель кончился со смертью Александра I и последовавшей сразу за тем декабрьской катастрофой. Восприятие Мандельштамом фигуры Александра I было в немалой степени обусловлено тем воздействием, какое оказали на него в юности исторические сочинения Мережковского, в частности – роман «Александр I» (1911–1912, отд. изд. 1913) из трилогии «Царство Зверя». Следы чтения этого романа, как и пьесы «Павел I» и романа «Антихрист (Петр и Алексей)», заметны в ряде стихов Мандельштама, о чем уже не раз писалось[234]234
Ronen Omry. An approach to Mandel’ŝtam. P. 86; Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. С. 496–504.
[Закрыть]; самый очевидный и яркий пример – стихотворение «Заснула чернь! Зияет площадь аркой» (1913), которое вообще не поддается прочтению без учета трилогии «Царство Зверя».
Александра I в одноименном романе Мережковского постоянно мучит страх мятежей и заговоров, тайных обществ, страх возмездия за отцеубийство 11 марта 1801 года – от этих страхов, по сюжету романа, он и умирает, причем умирает «на узкой железной походной кровати»[235]235
Мережковский Д.С. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. С. 530.
[Закрыть], с которой не расставался всю свою жизнь. Эта самая походная кровать лейтмотивом проходит через весь роман, приобретая значение мрачного символа крови и насилия как движущих факторов русской истории; в этом качестве походная кровать переходит и в следующий роман трилогии – «14 декабря», связывая в одну цепь судьбы трех российских императоров – Павла I, Александра I и Николая I[236]236
«Узкая походная кровать неуютно поставлена рядом с книжным шкапом; кожаный матрац набит сеном; к такому спартанскому ложу приучила его бабушка» (Мережковский Д.С. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. С. 26.
[Закрыть]. Впервые она упоминается в седьмой главе первой части романа «Александр I»: «Лег. Постель односпальная, узкая, жесткая, походная, с Аустерлица все та же: замшевый тюфяк, набитый сеном, тонкая сафьянная подушка и такой же валик под голову»[237]237
Мережковский Д.С. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. С. 159.
[Закрыть]. На этой постели он переживал все свои страхи – по ночам ему казалось, что его ждет судьба отца и повторение страшной ночи 11 марта. Незадолго до смерти Александр I попадает в комнату Павловского дворца, где хранились вещи убитого императора Павла I: «…там узкая походная кровать. Государь побледнел, и зрачки его расширились, как зрачки мертвеца, видящие то, чего уже никто не видит; вдруг наклонился и как будто с шаловливою улыбкой поднял одеяло. На простыне темные пятна – старые пятна крови.
Услышал шорох: рядом стоял Саша (будущий император Александр II – И.С.) и тоже смотрел на пятна; потом взглянул на государя и, должно быть, увидел в его лице то, что тогда, в своем страшном сне – закричал пронзительно и бросился вон из комнаты.
Над обоими, над сыном и внуком Павловым, пронесся ужас, соединивший прошлое с будущим»[238]238
Там же. С. 384.
[Закрыть].
Дальше по сюжету Александр заболевает в Таганроге, болеет на той же «узкой походной кровати, на которой он всегда спал»[239]239
Там же. С. 518.
[Закрыть], долго и подробно описывается процесс умирания императора; после смерти «обмытый, убранный, в чистом белье и белом шлафроке, он лежал там же, где умер, в кабинете-спальне, на узкой железной походной кровати. В головах – икона Спасителя, в ногах – аналой с Евангелием. Четыре свечи горели дневным тусклым пламенем, как тогда, месяц назад, когда он читал записку о Тайном Обществе. В лучах солнца (погода разгулялась) струились голубые волны ладана»[240]240
Мережковский Д.С. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. С. 530.
[Закрыть]. Последующие страницы посвящены манипуляциям с телом (бальзамирование и т. п.), которое не раз описывается как «что-то длинное, белое»[241]241
Там же. С. 531. 532.
[Закрыть], со всеми подробностями, да еще и с замечанием, что «все части могли бы служить образцом для ваятеля»[242]242
Там же. С. 533.
[Закрыть] («странно вытянулось глиняное тело»), – так что эти финальные, невольно врезающиеся в память эпизоды романа, с учетом всего его сюжета и вообще художественной историософии Мережковского, могли отозваться в 4-й и 5-й строфах «Современника». Другое дело, что в поэтической ткани стихотворения эти мотивы преображаются и вступают в совершенно новые художественные связи, но сама историческая аналогия сегодняшнему дню России могла быть подсказана давним впечатлением от чтения Мережковского. Отдаленным намеком на такую аналогию звучат уже приведенные нами слова Мандельштама о похоронах Ленина (в передаче Надежды Яковлевны): «Мы возвращались пешком домой, и Мандельштам удивлялся Москве: какая она древняя, будто хоронят московского царя»[243]243
Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 214.
[Закрыть]. Мысль его искала закономерностей и повторов в происходящем.
«Давайте с веком вековать» – в контексте всего сказанного это звучит обреченно – давайте умирать вместе с этим веком, который начался декабристским хмелем и умирает сегодня на наших глазах. По сути это та же клятва верности, какая звучит в «1 января 1924», – верности веку-зверю с разбитым позвоночником, веку, с которым поэт связан кровным родством и который еще не обернулся для него «веком-волкодавом», как будет через несколько лет.
Если теперь вернуться к параллельному «Прибою у гроба», то придется снова убедиться, насколько этот небольшой газетный очерк оказывается семантически сложным текстом. О.А. Лекманов заметил в нем «неожиданную автоцитату из стихотворения «Нет, не луна, а светлый циферблат…» – «“Который час?”, его спросили здесь – / А он ответил любопытным: “вечность”» – «Который час? Два, три, четыре? Сколько простоим? Никто не знает. Счет времени потерян. Стоим в чудном ночном человеческом лесу»[244]244
Лекманов О.А. Осип Мандельштам: Жизнь поэта. С. 139.
[Закрыть]. Если осмыслить это наблюдение, то цепь наших рассуждений замкнется – ведь в опущенном, но подразумеваемом здесь ответе «вечность» заключена мысль о той самой исторической вечности России, о которой думает Александр I, герой все того же одноименного романа Мережковского: «Часы опять пробили. “Который час? – Вечность. – Кто это сказал? Да сумасшедший поэт Батюшков, – намедни Жуковский рассказывал… Час на час, вечность на вечность, рана на рану – 11-е марта… Нет, не надо, не надо”…»[245]245
Мережковский Д.С. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. С. 134.
[Закрыть]. Именно к этому внутреннему монологу царя у Мережковского (а не к мемуару немецкого врача Батюшкова, напечатанного на немецком языке в юбилейном издании его сочинений 1887 года[246]246
Мандельштам О.Э. Сочинения. В 2 т. Т. 1. С. 460 (комм. П.М. Нерлера); Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 533 (комм. А.Г. Меца).
[Закрыть]) текстуально восходит мандельштамовское стихотворение 1912 года «Нет, не луна, а светлый циферблат…»[247]247
Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. С. 499.
[Закрыть], и скорее всего Мандельштам в «Прибое у гроба» вспоминает не столько свое стихотворение, декларирующее отход от символизма, сколько этот эпизод из романа Мережковского о переворотах как двигателе российской истории («ход воспаленных тяжб людских»).
Очерк «Прибой у гроба» заканчивается темой жизни после смерти: «И мертвый – он самый живой, омытый жизнью, жизнью остудивший свой воспаленный лоб»; тема эта постоянно звучала в газетной риторике тех траурных дней («Ленин – нетленен!») и в художественных произведениях о смерти Ленина[248]248
В этом отношении интересен очерк М. Булгакова «Часы жизни и смерти», написанный и опубликованный в те же дни, – в нем нет этой обязательной, казалось бы, темы ленинского бессмертия, зато в самом конце неожиданно возникает аналогия Ленин – Христос: «К этому гробу будут ходить четыре дня по лютому морозу в Москве, а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда».
[Закрыть]. Мандельштам воплотил ее в центральном образе очерка – образе прибоя у гроба: толпы людей предстают ему волнами жизни, омывающими гроб вождя и как бы обеспечивающими ему бессмертие. Но ведь и в конце стихотворения о «современнике» звучит та же тема жизни после смерти: «Век умирает – а потом…» – и дальше возникает удивительный образ засмертного свечения: «Два сонных яблока на роговой облатке / Сияют перистым огнем». Какая-то высшая жизнь как будто пробивается сквозь смерть. В сочетании с яблоками и облаткой как атрибутом причастия, это сияние напоминает о мандельштамовском стихотворении 1915 года «Вот дароносица, как солнце золотое…» или «Евхаристия» – с его темой приобщения к вечности и с образом чудесных эманаций в заключительных стихах: «И на виду у всех божественный сосуд / Неисчерпаемым веселием струится». Веселие или свечение исходит от золотого сосуда евхаристии, уподобленного яблоку в начале стихотворения, и символизирует прорастание временного в вечное. Что-то подобное происходит и в финале «Современника» – тело века умирает, но его сонные яблоки излучают вневременный свет.
Итак, мы попытались прочитать стихотворение о «современнике» в контексте времени и в системе устойчивых образов и мотивов мандельштамовской поэзии. Стало ли оно в результате предложенных расшифровок богаче смыслами, или, напротив, потеряло свою магическую выразительность? Актуальное начало не очевидно в этих стихах – напитав текст, оно осталось за кадром. И все-таки хочется думать, что благодаря комментарию стихотворение обрело семантическую цельность, и этот критерий можно выдвинуть как определяющий для анализа. Интертекстуальный анализ, для которого поэзия Мандельштама стала в свое время испытательным полигоном, часто имеет своим результатом деконструкцию вместо реконструкции, груду обломков вместо целого. Гораздо продуктивнее для понимания оказывается, как правило, подключение собственного мандельштамовского контекста, что обусловлено особой связанностью его художественного мира. А вообще-то именно Мандельштам, как ни странно это звучит, устойчив к аналитическому комментарию, – при любом прочтении, при любой привязке к актуальному контексту его стихи сохраняют свою музыкальную целостность. Авторское чтение «Современника», донесенное до нас восковым валиком фонографа, прекрасно передает эту вневременную музыкальную природу стихотворения – вечное существует в нем поверх современного и как будто независимо от него. Отчасти и об этом говорит Мандельштам в самом начале: «Нет, никогда, ничей я не был современник…», но не забудем, что через семь лет он не менее запальчиво скажет в стихах прямо противоположное: «Пора вам знать, я тоже современник…»
Цыганка
Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу – изба, вошел в сенцы —
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка…
У изголовья вновь и вновь
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок;
Она сидела до зари
И говорила: «Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок».
Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба – еж брюхатый;
Хотели петь – и не смогли,
Хотели встать – дугой пошли
Через окно на двор горбатый.
И вот проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,
И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.
Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.
1925
Стихотворение было трижды напечатано при жизни поэта, с небольшими разночтениями; в публикации журнала «Новый мир»[249]249
Новый мир. 1927. № 6. С. 80.
[Закрыть] имело название «Цыганка», снятое в сборнике «Стихотворения» 1928 года. Сохранилась запись авторского чтения, сделанная С.И. Бернштейном 27 марта 1925 года, прочитанный вариант совпадает с текстом первой публикации в журнале «Ленинград» (1925, № 20, 6 июня); есть автограф первых 7-ми стихов, продолженный рукой Надежды Яковлевны, на бланке журнала «Новый мир»[250]250
ГЛМ, ф. 49, оп. 2, е.х. 56.
[Закрыть], где текст разбит на две самостоятельные части, – это последнее обстоятельство значимо, и мы к нему еще вернемся.
«Цыганка» оказалась на периферии исследовательского внимания. В отличие от других стихов Мандельштама, многим из которых посвящены десятки статей, «Цыганка» специальным образом рассмотрена лишь в одной работе – в статье С.Г. Шиндина «Стихотворение Мандельштама “Сегодня ночью, не солгу…”: опыт “культурологической” интерпретации», опубликованной в 1997 году[251]251
Натура и культура: Славянский мир. М., 1997. С. 146–164.
[Закрыть] и вошедшей в расширенном виде в недавнюю его работу «Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. III»[252]252
Toronto Slavic Quarterly. № 59. Winter 2017. С. 38–59. http://sites.utoronto.ca/tsq/59/Shindin_59.pdf
[Закрыть]. Имея в виду эту недоизученность, М.Л. Гаспаров в своем связном комментарии к лирике Мандельштама отметил: «Загадочным остается стихотворение “Сегодня ночью, не солгу…”»[253]253
Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. С. 773.
[Закрыть]; хорошо если стихотворение останется загадочным после всего, что здесь будет о нем сказано, если же оно покажется менее загадочным, значит, наш разговор пошел вразрез с его семантикой и поэтикой. Но саму эту загадочность мы попытаемся описать и осмыслить.
«Цыганка» – редкий у Мандельштама случай сюжетной лирики; стихотворение строится как рассказ о происшествии, и говорящий настаивает на его правдивости: «не солгу», – но за этим обещанием сразу же следует деталь неправдоподобная: «по пояс в тающем снегу», и эта деталь переводит рассказ из реальности в пространство тяжелого, вязкого сна. В стихотворении есть и другие маркеры сна, но границы его не объявлены, поэтическая реальность двоится, расплывается, время перебивается с настоящего на прошедшее в пределах одной поэтической фразы: пили чернецы – балует цыганка, вскидывает бровь – разговор ее был жалок – герой стихотворения то оказывается внутри сна, то рассказывает о нем.
Сюжет сна постепенно раскрывается как условно фольклорный, сказочный или балладный: герой попадает в чужое, нечистое пространство, где с ним происходит что-то странное, темное, смутное. Поиск конкретного фольклорного источника здесь обречен на провал, зато в ряде мотивов просматриваются связи с фольклоризованными литературными текстами, хорошо известными Мандельштаму, – это сон Татьяны из пятой главы «Евгения Онегина»[254]254
Отмечено в комментарии М.Л. Гаспарова – там же.
[Закрыть] и пушкинская баллада «Жених», где героиня рассказывает страшную правду под видом сна. Татьяна, напомним, во сне тоже вязнет в снегу («снег рыхлый по колено ей»), тоже попадает – не в избу, но в шалаш – на странную трапезу и хочет скорее вырваться оттуда; Наташа, героиня «Жениха» рассказывает, как во сне зашла в избу и тоже видела нехорошую трапезу («За стол садятся не молясь и шапок не снимая»); и там и там фигурирует нож – им совершается преступление, убийство; у Мандельштама нож упомянут, но оставлен без употребления, – на фоне двух этих подтекстов, да и сам по себе нож воспринимается как деталь тревожная, как знак возможного насилия. Надо ли говорить, что герой этих стихов не отождествляет себя с пушкинскими героинями? Речь не об этом, а о типологически сходных фольклоризованных сюжетных ситуациях, вмещенных в раму сна. Еще один пушкинский подтекст «Цыганки» – сцена «Корчма на литовской границе из «Бориса Годунова»[255]255
Там же, со ссылкой на Ю.Л. Фрейдина.
[Закрыть] с чернецами-пьяницами и угощающей их хозяйкой, но в этом случае важен не сюжет, а сама простонародная атмосфера и драматизм пушкинской сцены. Все названные подтексты и ассоциации создают смысловой объем «Цыганки», связывают ее с поэтической традицией, обогащают и усложняют восприятие текста.
«Чай с солью пили чернецы» – никакие бытовые объяснения[256]256
«…Речь у Мандельштама идет о бытовой детали, типичной – преимущественно до революции – для обихода бедного люда, когда вместо дорогого и потому не всегда доступного сахара, чай, особенно в деревнях, пили вприкуску с солью, во время постов тоже не полагалось есть сахар (ели так называемый постный сахар). Возможно, что чернецы постились и потому обходились вместо сахара солью, или были настолько неимущи, что отказывали себе в сахаре» (Полякова С.В. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб., 1997. С. 162). Полемику с этим толкованием см.: Шиндин С.Г. Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. III // Toronto Slavic Quarterly. № 59. Winter 2017. С. 44.
[Закрыть] не отменяют художественного значения этого мотива в образной структуре стихотворения. Чай с солью – питье заведомо непривлекательное, неправильное, невкусное; в связи с этой деталью можно вспомнить яркий эпизод из пушкинского «Путешествия в Арзрум», из его 1 главы – рассказ о посещении калмыцкой кибитки: «Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак <…> В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже»[257]257
Это и некоторые другие наблюдения содержатся в беседе в Живом журнале по адресу: https://k-elisseef.f livejournal.com/14105.html
[Закрыть]. У Мандельштама явной оценки нет, но так или иначе «чай с солью» звучит парадоксально – это резкий вход в перевернутый, изнаночный мир сна.
Столь же странным и недолжным кажется соседство чернецов и цыганки, их непонятные занятия, их сомнительная связь. Цыганка – центральный образ стихотворения, давший ему название в одной из публикаций, она наделена речью и портретными чертами, в отличие от всех, кто здесь присутствует вместе с рассказчиком. Цыганская тема у Мандельштама проходит пунктиром через ряд произведений 1920–1930-х годов; в его стихах цыганка либо танцует («С миром державным я был лишь ребячески связан….», 1931, «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето», 1931), либо гадает («Как по улицам Киева-Вия…», 1937) – в нашем стихотворении она скорее всего гадает, но прямо это не сказано; она «бал1 ует» с чернецами – слово столь же туманное, сколь и выразительное. Без прямого дополнения оно означает не только «шалить, дурить, проказничать», но также и «разбойничать, грабить» – это значение зафиксировано в толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова 1935 года издания с пометой «обл.»[258]258
Толковый словарь русского языка в 4 томах / Ред. Д.Н. Ушаков. Т. 1. М., 1935. Ст. 83.
[Закрыть], т. е. имеет разговорный или просторечный характер. Других случаев подобного словоупотребления у Мандельштама не находится, но вот пример из Цветаевой:
………………………………………
Ветер – висельник и ветреник, —
В кулачке тебя держу!
Полно баловать над кручами,
Головы сбивать снегам, —
Ты – моей косынкой скрученный
По рукам и по ногам!
За твои дела острожные, —
Расквитаемся с тобой, —
Ветер, ветер в куртке кожаной,
С красной – да во лбу – звездой!
«Ветер, ветер, выметающий…», 1920
В цветаевском поэтическом иносказании о красных и белых «баловать» определенно означает «разбойничать» и даже «убивать»; в «Цыганке» этого значения нет, но есть оттенок дурного, нечистого и при этом не конкретизированного действия. «У изголовья вновь и вновь / Цыганка вскидывает бровь…» – она что-то навязывает, что-то вымогает[259]259
Через несколько лет Мандельштам напишет в «Четвертой прозе» резкие слова о «вороватой цыганщине писательского отродья», о метафорическом «скрипучем таборе немытых романес», пытавшихся научить его «своему единственному ремеслу, единственному занятию, единственному искусству – краже».
[Закрыть], смысл ее действий не прояснен, что вполне отвечает ситуации сна. Упоминание «изголовья» – еще один маркер сна и двуслойной структуры текста: герой одновременно существует внутри сюжета и видит себя спящим, рассказывая сон.
В связи с образом цыганки в этих стихах нужно учесть одно указание Надежды Яковлевны: вспоминая о любви Мандельштама к первоизданиям поэтов XIX века, она в их числе называет Александра Полежаева и говорит, что Мандельштам особо отмечал его «Цыганку»[260]260
Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 287.
[Закрыть]. В стихотворении Полежаева дан яркий, детализированный эротический портрет цыганки, завершается оно темой «лукавого сна» и «приворотной травы» – темой чар; у Мандельштама цыганка обрисована скупо, мы видим только вскинутую бровь и слышим обрывок речи, портрета нет, есть расплывчатое видение, при этом все дальнейшее, что рассказано в третьей, центральной строфе, как-то связано с цыганкой, с ее «баловством» и вымогательством, с подразумеваемым, но не названным гаданием.
«Того, что было, не вернешь» звучит как строка из романса и как вердикт гадалки, этим стихом отрезано прошлое, проведена граница между «тем, что было» и новым бытием, над которым герой не властен; ср. в более позднем тексте: «Нельзя было ничего наверстать и ничего исправить: все шло обратно, как всегда бывает во сне» («Египетская марка», 1927). «Дубовый стол, в солонке нож» – ряд простых реалий продолжен образом неожиданным, нарушающим порядок вещей: «И вместо хлеба – еж брюхатый». Мандельштам мог знать, что у цыган принято есть ежей – жареных или тушеных, но в любом случае «еж брюхатый» на столе – знак абсурда, искажения реальности[261]261
Указание на конкретный литературный источник «ежа» не кажется убедительным – см.: Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 588 (комм. А.Г. Меца); возражения см.: Шиндин С.Г. Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. III // Toronto Slavic Quarterly. № 59. Winter 2017. С. 44–45.
[Закрыть]. Важно, что он замещает хлеб, – в поэтической семантике Мандельштама хлеб связан с главными вещами и ценностями, такими, как слово, вера, правда, дом, – с сущностными основами жизни, так что подмена хлеба во сне героя – это какая-то трещина в бытии, вытеснение чего-то жизненно важного чем-то бессмысленным, абсурдным.
В мире сна человек лишен своей воли, он не может кричать, бежать, делать то, что он хочет. Вспомним, как у Пушкина:
И страшно ей: и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
не может…
В «Цыганке» происходит что-то подобное: «Хотели петь – и не смогли, / Хотели встать – дугой пошли / Через окно на двор горбатый»[262]262
Напомним, что в сцене в корчме из «Бориса Годунова» Григорий Отрепьев спасается через окно; другая параллель к этой строфе – в стихотворении Николя Гумилева «У цыган» из сборника «Огненный столп»: «Хочет встать, не может…».
[Закрыть]; самое интересное и существенное зафиксировано в грамматической структуре этих стихов, вызывающей вопрос: кто хотел петь? кто хотел встать – они или мы? рассказчик наблюдает все это со стороны, или он тоже оказался во власти темных сил? Ответ не вполне очевиден, подлежащего нет, и значимым оказывается само исчезновение первого лица: в начале стихотворения отчетливо выражено Я рассказчика – теперь же оно растворено, видимо, герой разделяет с присутствующими их обезличенное состояние, их обезволенные действия в искаженном, «горбатом» пространстве сна.
Собственно, на этом сюжет сна обрывается, и что там случилось с героем, так и остается не проясненным. Можно предположить, что он вместе с чернецами пил нехорошее питье и ел дурную еду вместо хлеба, и через эту еду прошло действие чар. Но никаких оснований, подтверждающих или опровергающих это предположение, в тексте стихотворения нет, а есть то, что Савелий Сендерович, исследуя морфологию народной загадки, назвал «смысловым зиянием»[263]263
Сендерович С.Я. Морфология загадки. М., 2008. С. 35–39.
[Закрыть], не предполагающим заполнения, отгадки, в отличие от «опущенных звеньев», которыми, по собственному его признанию, мыслил Мандельштам[264]264
Герштейн Э.Г. Мемуары. С. 19.
[Закрыть] и которые могут быть восстановлены в читательском восприятии.
В автографе-списке «Цыганки» на бланке «Нового мира», напомним, последние две строфы отделены графически от первых трех, и это отражает смысловую структуру стихотворения: граница сна проходит между 3-й и 4-й строфой, но граница неявная, не объявленная – реальность проступает постепенно в ощущении точного времени («проходит полчаса»), в нарастающих утренних звуках, в деталях. Пояснение к одной из них дала Надежда Яковлевна: «Теплеют медленно ладони» – у М. было больное сердце. При пробуждении у людей с плохим сердцем всегда холодные ладони, которые лишь постепенно теплеют»[265]265
Пояснения Н.Я. Мандельштам к стихам О.Э. Мандельштама в записи В.М. Борисова. Публикация Сергея Василенко // «Сохрани мою речь…» Мандельштамовский альманах. Вып. 6 (в печати).
[Закрыть].
Выход из морока в реальность передан в стихотворении как постепенный переход от черного к белому цвету: ночью, чернецы, черного овса – сумрак – с водою разведенный мел – молочный день. Ночь рассеивается, сумрак сменяется белесым, но еще не белым цветом разведенного мела, а затем и цветом молока, то есть тоже не совсем белым, почти белым. В слове «молочный» совмещены два значения – «белый, как молоко» и «только народившийся», ср.: «детское молочное пьянино» в других стихах («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето», 1931). Мандельштам тонко разбирал оттенки цветов, ощущал и называл их часто по веществам, им соответствующим: «янтарь и мясо красных глин», «желтая мастика», «сахар жженый», все это – обозначения цвета, таких примеров у него немало. Так и здесь «мел» и «молочный» присутствуют именно как два оттенка белого. В «Цыганке» других цветов нет, только черный и белый – это вообще самые частые цветовые определения у Мандельштама, при всем богатстве его палитры, и черный – на первом месте по частоте, а белый, с большим отрывом, – на втором.
Завершает картину утра «золотушный грач», оставляющий ощущение болезненности, слабости – это переживается как послевкусие сна. Наступившая реальность кажется более зыбкой и призрачной, чем сон, обладающий качеством реальности.
«Цыганка» написана на пороге молчания – с 1925 года до осени 1930 года Мандельштам стихов не писал, обстоятельства его жизни в конце 1920-х были особенно драматичны. И само пороговое положение стихотворения, и проведенная в нем черта («того, что было, не вернешь») заставляют задуматься о том, как оно связано с действительностью и в каких проекциях выразилось в нем самоощущение поэта. С.Г. Шиндин находит в «Цыганке» параллели с историей литературно-артистического кабаре «Бродячая собака», а также «реализацию «универсальной культурной модели “пира во время чумы” и прощание с «уходящей исторической эпохой»[266]266
Шиндин С.Г. Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. III //Toronto Slavic Quarterly. № 59. Winter 2017. С. 50, 59.
[Закрыть], т. е. так или иначе видит в этих стихах отражение прошлого. Между тем стихотворение самой своей поэтикой сопротивляется собственно «прочтению», то есть всякой попытке привязать его сюжет к реальным обстоятельствам места и времени. Оно содержит не только сон о гадании, но и «гадание на сон», подобное тому, какое описал Пушкин в пятой главе «Евгения Онегина», только Татьяна у Пушкина гадает сознательно, вступая при этом «в общение с нечистой силой»[267]267
Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Л., 1980. С. 266.
[Закрыть], – она пытается истолковать свой сон как предвестие судьбы; у Мандельштама же сон просто предъявлен рассказчиком, как и наступающая за ним размытая реальность.
Эти два примера из Пушкина и из Мандельштама иллюстрируют типологию культурных моделей сна, предложенную М.Ю. Лотманом в статье «Сон – семиотическое окно»[268]268
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 223.
[Закрыть]: у Пушкина описан «сон-предсказание – окно в таинственное будущее», у Мандельштама – «сон как путь внутрь самого себя». Вообще сон «индивидуален, проникнуть в чужой сон нельзя», он непересказуем, он «обставлен многочисленными ограничениями, делающими его чрезвычайно хрупким и многозначным средством хранения сведений. Но именно эти “недостатки” позволяют приписывать сну особую и весьма существенную культурную функцию: быть резервом семиотической неопределенности, пространством, которое еще надлежит заполнить смыслами. Это делает сон идеальным ich-Erzählung’ом, способным заполняться разнообразным, как мистическим, так и эстетическим истолкованием»[269]269
Там же. С. 225, 226.
[Закрыть]. Определение семиотической сути сна как открытого окна возможностей довольно точно соответствует лирическому сюжету «Цыганки» с его открытым финалом, с выходом из загадочного сна в неопределенность, в смутность нового дня, глядящего в окно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































