Текст книги "Тяжесть и нежность. О поэзии Осипа Мандельштама"
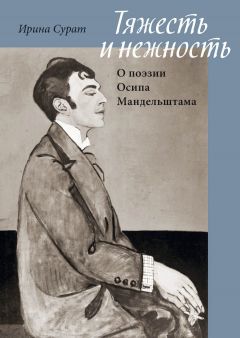
Автор книги: Ирина Сурат
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Мученик Рембрандт
Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.
Простишь ли ты меня, великолепный брат
И мастер и отец черно-зеленой теми, —
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме —
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.
4 февраля 1937
Это стихотворение обычно относят к числу темных, непонятных – главным образом из-за двух деталей, не слишком поддающихся толкованию: «око соколиного пера» и «жаркие ларцы у полночи в гареме» – кажется, что именно в них, в этих образах, таится смысловой ключ, отгадка, но поиск конкретных живописных источников заводит исследователей в тупик. В этом, как и в других подобных случаях стоит прислушаться к Надежде Яковлевне, она писала: «…“ключи” к стихам не нужны, потому что они не запечатанные ларцы. Думая о стихах, надо отвечать не на вопрос «о чем?», а на вопрос “для чего?” или “зачем?” Стихотворение воспринимается как целое, когда смысл и слова неразделимы, а позже раскрываются мелкие подробности, детали, углубляющие основной смысл. Если же читатель не видит целостного смысла – с одного или двух чтений, – то не лучше ли ему перейти на более доступное чтение и отложить книгу стихов? Я допускаю повторные чтения, потому что весь путь поэта и цельные книги помогают понять отдельные стихи и строчки. Когда раскрыт весь поэт, открываются отдельные этапы и, наконец, происходит проникновение в отдельное слово, которое было “потеряно”, упущено читателем, а затем выступило в осязаемой выпуклости. Это и называется “понимающим исполнением”»; «Стихи не викторина и не загадка, имеющая отгадку. И у каждого поэта есть свой мир и своя внутренняя идея или тема, которая строит его как человека. Стихи не случайность, а ядро человека, который отношением к слову стал поэтом»[635]635
Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 556–557.
[Закрыть]. Примерно так же формулировал исследовательскую стратегию и Бродский: «предложить сначала какую-то гипотезу: о чем это стихотворение?», а потом уже «подносить это самое замечательное увеличительное стекло» к деталям[636]636
Павлов М. Бродский в Лондоне, июль 1991 // Сохрани мою речь. Вып. 3/2. М., 2000. С. 30.
[Закрыть]. Следуя этой стратегии, зададимся сначала вопросом: о чем это стихотворение, как оно связано с «внутренней идеей» поэта, с его «миром», с «ядром человека»?
Прежде всего требует пояснения сама тема Рембрандта – Надежда Яковлевна связала ее появление с одной картиной из экспозиции Воронежского музея изобразительных искусств: «Рембрандтовская маленькая Голгофа, как и греческая керамика черно-красного периода – остаток богатств Дерптского университета – находились тогда в воронежском музее, куда мы постоянно ходили»[637]637
Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 244–245.
[Закрыть]; и в комментарии к этим стихам: «Картина Рембрандта находилась в Воронеже, сейчас она, кажется, в Эрмитаже. ОМ часто ходил ее смотреть»[638]638
Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 403.
[Закрыть]. Речь идет о картине, которую и сегодня можно увидеть в воронежском музее, на ней изображено шествие на Голгофу, несение креста, а на золоченой раме написано крупно: «REMBRANDT». Мандельштамы не могли тогда знать, что автор ее не Рембрандт, а Якоб Виллемс де Вет Старший (ок. 1610 – ок. 1671), но это обстоятельство не существенно для понимания стихов. Можно себе представить, что переживал перед этой картиной поэт, еще недавно писавший: «Вхожу в вертепы чудные музеев, / Где пучатся кащеевы Рембрандты, / Достигнув блеска кордованской кожи, / Дивлюсь рогатым митрам Тициана / И Тинторетто пестрому дивлюсь…» – и вот теперь изолированный в воронежской глуши, отлученный от музеев, от мировой культуры и так тосковавший по ней. Мы говорили уже, что по приезде из ссылки Мандельштамы первым делом побежали в музей смотреть европейскую живопись, что посылаемые ему в ссылку альбомы только раздражали его качеством репродукций, а тут перед ним был подлинный, как тогда полагали, Рембрандт!
Но в стихах Мандельштам говорит не с автором именно этой картины, а с Рембрандтом, каким он его помнил прежде всего по Эрмитажу и по московскому Музею изобразительных искусств, с Рембрандтом вообще, с «мучеником светотени». Тема светотени – главная в стихах, она задана сразу, при этом Рембрандт назван не мастером светотени, а «мучеником» ее, – таким образом эстетическое понятие переводится в религиозно-личный план, возникает тема страстей, объединяющих поэта и художника. Словом «мученик» активируется христианский контекст, прорастающий дальше в развитии стиха. «Я глубоко ушел в немеющее время» – поэтическая речь рождается на такой глубине, где «шум времени» не слышен, где разговор с эпохой уже невозможен, это глубина большого времени, столь характерная для Рембрандта[639]639
Другое понимание «немеющего времени» см.: Павлов М.С. О.Мандельштам. «Как светотени мученик Рембрандт» (Анализ одного стихотворения) // Филологические науки. 1991. № 5. С. 21–22.
[Закрыть], есть она и на воронежской картине его ученика де Вета, давшей импульс стихам. На этой глубине, уходящей в вечность, в этом измерении жизни поэт чувствует себя распятым – «резкость моего горящего ребра» отсылает к одному из моментов Голгофы: «…придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Ин. 19: 33–34). Переходя на язык живописи, поэт выхватывает из мрака одну деталь, и она как будто горит во тьме, как это бывает у Рембрандта. Она горит в двух смыслах сразу: светится и одновременно выдает жгучую боль[640]640
Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 98.
[Закрыть]. «По мнению А.А. Морозова, это стихотворение в значительной мере строится на обыгрывании части “брандт” в фамилии Рембрандт. Действительно, через все стихотворение подспудно проходит тема горения…»[641]641
Золян С., Лотман М. Исследования я в области семантической поэтики акмеизма. Таллинн, 2012. С. 45.
[Закрыть]. Имеется в виду немецкое brand – «пожар, горение, обжиг, гангрена, жар, зной», такое сгущение поэтической семантики за счет межъязыковой интерференции – любимый мандельштамовский прием, особенно в 30-е годы.
Мучеником светотени оказывается и сам поэт, он попадает в пространство рембрандтовской живописи, в евангельский сюжет, он говорит с креста, смотрит оттуда и в открывающейся картине фиксирует две подробности при огромном объеме невысказанного. Вторая такая подробность – спящая стража, нам на нее указано мельком, она как будто раздваивается, размывается: «Не охраняется ни сторожами теми, Ни этим воином, что под грозою спят» – взгляд рассеянно скользит с «тех» на «этого» с тем, чтобы оставив их без внимания, сосредоточиться на важном.
Относительно «сторожей» предлагались разные объяснения. В.В. Мусатов: «По общепринятому мнению, эти стихи были написаны под впечатлением от полотна “Шествие на Голгофу” <…> Но на полотне Якобса Виллемса нет никакого “горящего ребра”, ибо Христос изображен там одетым. Нет там, естественно, ни сторожей, ни воинов, которые “под грозою спят”. А кроме того, сюжет мандельштамовского стихотворения говорит не о шествии на Голгофу, но о самой Голгофе – с “прободением” ребер и римским воином, охраняющим Распятье (ср. в “Скрябине и христианстве”: “Римский воин охраняет распятье: сейчас потечет вода… ”), наконец, со сторожами, приставленными к Иисусову гробу. В этом стихотворении контаминированы мотивы Евангелия от Иоанна, где есть “прободение” (Ио, 19, 34), и Евангелия от Матфея со сторожами при гробе (Мф, 27, 66). Мандельштам, сведя вместе эпизоды распятия, снятия с креста и положения во гроб, опустил эпизод шествия на Голгофу»[642]642
Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев, 2000. С. 508–509.
[Закрыть].
Этот анализ побуждает сказать несколько слов о свойствах поэтической речи. Возражая насчет Христа одетого, исследователь исходит из того, что поэт воспроизводит в стихах какое-то впечатление и, воспроизводя его, должен быть точным. Между тем поэзия заканчивается там, где поэт «воспроизводит», «отражает» или «контаминирует», и начинается там, где он создает что-то новое, неслыханное, небывалое. К Мандельштаму это относится в полной мере, отражающих стихов у него почти нет, и в этом стихотворении, вспоминая о Рембрандте, он не воспроизводит какой-то сюжет, а создает свою картину, а рембрандтовскую – правит.
Другая интерпретация привязывает «сторожей» к теме политических репрессий: «…тело поэта не охраняется сейчас воинами (в отличие от недавнего времени, когда он ехал в сопровождении конвойных в Чердынь), как тело Христа на Голгофе. Необычный порядок слов затуманивает смысл предложения, которое следует читать так: резкость ребра не охраняется ни этим современным воином, то есть стрелком МВД, ни теми, кто некогда сторожил тело Христа. Трудно с уверенностью сказать, описываются ли последние часы жизни Христа, или момент, предшествующий воскресению, когда воины, сторожащие по приказу Пилата могилу, еще спят беспечным сном. Такая деталь, как спящие воины, свидетельствует в пользу второго эпизода…»[643]643
Полякова С.В. Осип Мандельштам: наблюдения, интерпретации, заметки к комментарию С. 87–88.
[Закрыть]. Мы видим, что исследователь идет обратным ходом, склеивая осколки, пытаясь извлечь смысл стихотворения из его предполагаемых источников, культурных и биографических, – в результате получается закрывающая интерпретация, а не чтение стихов как нового, на глазах рождающегося слова поэта о себе и мире.
В двух строках о «сторожах» и «воине» главное – не идентификация носителей воинствующей силы, а отрицание их власти, это стихи о свободе от времени, от «сторожей» и «воинов» – о последней свободе крестного страдания. И поэт здесь не «описывает» тот или иной эпизод Евангелия, он «прямо говорит о себе – “резкость моего горящего ребра” – и о своей Голгофе, лишенной всякого великолепия» – так пояснила эти стихи Надежда Яковлевна[644]644
Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 244.
[Закрыть]. Если сравнить их с ранними мандельшта-мовскими стихами о распятии («Как венчик, голова висела / На стебле тонком и чужом»)[645]645
«Неумолимые слова…», 1910. Сравнение см.: Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 98.
[Закрыть], то лаконичная суровость этой поэтической живописи станет еще очевиднее. Но главное отличие состоит в том, что Голгофа здесь переживается от первого лица.
Рембрандт тоже помещал себя внутрь евангельских сюжетов как участника событий («Снятие с креста», 1634, «Воздвижение креста», 1633); известны его слова: «Был ли я там? Ну конечно, раз я это написал!». Он изображал себя рядом с крестом, но не на кресте – для художника той эпохи это было невозможно. А для Мандельштама и других поэтов XX века такой преграды уже не существует.
Надежда Яковлевна напомнила о связи главного поэтического мифа Мандельштама – «черное солнце», «похороны солнца» – с центральным событием Евангелия: «Но как можно забывать основной образ тьмы, которая настала в шестом часу “и продолжалась до часа девятого”, и “померкло солнце”…»[646]646
Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 119.
[Закрыть], – пеняла она толкователям «черного солнца», искавшим его истоки у Жерара де Нерваля и в других более или менее близких Мандельштаму литературных текстах. Стихи о Рембрандте неочевидным образом продолжают и завершают ту же устойчивую мандельштамовскую тему: «гроза» сигналит о ней в первой строфе, а во второй эта тема развернута в плане живописи – яркие, горящие образы Рембрандта ставятся под сомнение в виду обступающей тьмы.
Поэт просит прощения у художника за свой упрек и при этом говорит с ним на равных, как брат, как мастер с мастером и как мученик с мучеником – тут важно уловить связь между первой и второй строфой, во всех известных нам толкованиях стихотворения она игнорируется. Поэт говорит с художником de profundis – из той глубины «немеющего времени», в которую оба они погружены. Первое слово этого обращения и есть самое важное – это слово «великолепный», именно на него отозвалась Надежда Яковлевна в своем комментарии к стихам. Известно, что у Рембрандта было пристрастие к предметам роскоши, в его коллекции, помимо произведений искусства, были меха и кружево, атлас и парча, камзолы с золотым шитьем, тюрбаны, драгоценности, жемчуг, различный антиквариат, оружие и страусовые перья, старинные музыкальные инструменты, инкрустированные золотом, пергаментные манускрипты – все это переносилось на его полотна, и даже на картинах с евангельским сюжетом можно видеть такие диссонирующие детали, как, скажем, роскошный расшитый плат на эрмитажном «Снятии с креста» или тюрбан с пером на «Воздвижении креста», хранящемся в Мюнхенской Старой пинакотеке. Называя Рембрандта «великолепным братом», Мандельштам наверняка имеет в виду именно это великолепие – тот самый «блеск кордованской кожи», о котором он упоминал в более ранних стихах в связи с Рембрандтом, его невероятное мастерство в изображении предметов материального мира. Называя его тут же «отцом черно-зеленой теми», он говорит уже о другом – о способности Рембрандта передавать метафизическую глубину библейского времени, библейских сюжетов, глубину человеческого образа, часто выхваченного из тьмы, при этом слова о «черно-зеленой теми» могли быть непосредственно подсказаны колоритом воронежской картины де Вета Старшего[647]647
Отмечено в ст.: Лангерак Т. Анализ одного стихотворения Мандельштама («Как светотени мученик Рембрандт») // Russian Literature 1993. № XXXIII. С. 291.
[Закрыть].
Когда Рембрандт разорился, коллекция его ушла с молотка, и предметы роскоши исчезли с его картин, их не с чего было писать, сам же он умер в нищете, после него остались лишь Библия, кисти и краски – таковы общеизвестные обстоятельства его биографии, Мандельштам не мог их не знать[648]648
Некоторые детали стихотворения позволяют предположить, что Мандельштам, в частности, читал и помнил, главу о Рембрандте из брошюры А.В. Луначарского «Барух Спиноза и буржуазия», опубликованной впервые в 1933 году в журнале «Новый мир»: в ней Луначарский называет Рембрандта «братом» других тогдашних художников и говорит о драматической природе его дарования: «Для Рембрандта, выходца из мужиков, на короткое время поднятого судьбой на вершину успеха, блеска и счастья и потом вновь сброшенного в нищету, для Рембрандта, чутко всматривавшегося в лохмотья нищего, в морщины старухи, в гримасы горя и боли, мир никогда не казался спокойным, устоявшимся. Глубоко поразившая его, очаровавшая и как бы ужаснувшая борьба света и тени, единственная свидетельница о бытии для глаза художника, продолжалась для него как борьба светлых и счастливых сил, светлых моментов с темными, порочными, угрожающими» («Новый мир», 1933, № 1, с. 171).
[Закрыть].
К характерным рембрандтовским образам роскоши, блеска, красоты, богатства принадлежат и две детали стихотворения Мандельштама – «око соколиного пера» и «жаркие ларцы у полночи в гареме», однако попытки привязать их к конкретным картинам не слишком помогают прочтению. Томас Лангерак нашел эти детали на картине «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (1660) из коллекции московского Музея изобразительных искусств и заключил, что Мандельштам в стихах проводит границу между новозаветными и ветхозаветными картинами Рембрандта: «картины первой категории вызывают сочувствие к беззащитному, страдающему человеку; мучения, изображаемые на них, не являются бессмысленными, но включают в себя возможность преодоления поглощающей силы “немеющего времени”. На картинах второй категории изображается жестокий, восточный мир Ветхого Завета, они беспокоят зрителя, внушают ему страх. Опальный поэт, только что попытавшийся сочинить оду Сталину с тем, чтобы спасти себе жизнь, предпочитает, конечно, первую сторону живописи Рембрандта»[649]649
Лангерак Т. Анализ одного стихотворения Мандельштама («Как светотени мученик Рембрандт»). С. 293–294.
[Закрыть]. Омри Ронен, принимая привязку Лангерака, развернул тему в сторону восприятия мандельштамовской поэзии современниками: «Именно это выставленное напоказ богатство, по-видимому, смущает посетителей музея, и поэт, извиняясь, говорит об этом Рембрандту. Мандельштам болезненно сознавал, что новому поколению не нужны его дары[650]650
Ронен О. Чужелюбие. Третья книга из города Энн. СПб., 2010. С. 73–74.
[Закрыть]. И еще определеннее социальную тему сформулировала С.В. Полякова: «Если в первой строфе автор сближал себя с Рембрандтом, то во второй – он противопоставил себя ему (не только себя, но и своих современников). Столь любимая Рембрандтом роскошь <…> Мандельштаму, в многотрудной и скудной своей жизни понявшему подлинную ценность вещей и смотревшему на мир, как большинство его современников-интеллектуалов, глазами нестяжателя и дервиша (это, может быть, самое важное отличие психологии современного русского, прошедшего такие жизненные испытания, которые открыли ему разницу между подлинной и мнимой ценностью вещей), кажутся напрасно искушающими (не к добру, без добра) племя, взволнованное “мехом сумрака”, то есть людей, охваченных темными, непраздничными, отягощающими заботами»[651]651
Полякова С.В. Осип Мандельштам: наблюдения, интерпретации, заметки к комментарию. С. 89–90.
[Закрыть]. В том же духе писал об этом М.Л. Гаспаров: «…поэт из “роскошной бедности, могучей нищеты” со смущением упрекает брата-художника, что его пышность без нужды искушает нынешний трудно живущий народ»[652]652
Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 98.
[Закрыть].
Читатель может сам почувствовать, соответствуют ли эти толкования впечатлению от стихов Мандельштама, в особенности от его финального образа, если понимать его точно: речь идет не о зверином мехе (см. выше у С.В. Поляковой) и не о мешках для вина или воды, а о кузнечных мехах, раздувающих пламя, «метафора в последнем стихе основана на подразумеваемой игре слов “племя – пламя”»[653]653
Ронен О. Чужелюбие. Третья книга из города Энн. С. 74.
[Закрыть]. Также надо уточнить и значение слова «племя» – ничто ведь не указывает на какую-то его социальную определенность («нынешний трудно живущий народ»), скорее наоборот – контекст стихотворения, тема Голгофы, тема глубокого «немеющего времени» подсказывают значение более общее – «племя людей», как в стихах 1931 года («За гремучую доблесть грядущих веков…»), людей вообще, в их число входит и сам поэт. «Племя» оказывается на месте «пламени», ожидаемого рядом с кузнечными мехами, «пламени» нет, есть только «мехи сумрака» – так замыкается в этих стихах тема рембрандтовской «черно-зеленой теми». «Мехи сумрака» – дыхание вечности, идущее от картин Рембрандта, то невидимое, что хранит его густая тьма.
С этой точки можно вернуться к «оку соколиного пера» и к «жарким ларцам у полночи в гареме». Уже сама фактура этих образов указывает на их условность, собирательность – яркое око ведь бывает не на соколиных перьях, а на павлиньих, их-то много на картинах Рембрандта, а «жаркие ларцы» и тем более «гарем» никак не соотносятся с сюжетом «Артаксеркса, Амана и Эсфири», где есть просто ларь, на котором сидят, совсем не «жаркий», и уж тем более нет гарема. Зато эти горящие во тьме «ларцы», в сочетании со словом «гарем», звучание которого поддерживает тему горения, символизируют все соблазны жизни сразу, все внешнее, яркое, дорогое, притягательное, бренное, сомнительное с точки зрения вечности. Как точно сформулировала Ольга Седакова в отношении Рембрандта, «тьма ставит видимое под вопрос»[654]654
Седакова О. Путешествие с закрытыми глазами. Письма о Рембрандте. СПб., 2016. С. 53.
[Закрыть] – вот, собственно, об этом и говорит Мандельштам, опираясь на самого Рембрандта, на заключенное в его картинах слово о мире, в котором граничат временное и вечное и свет поглощается тьмой. Эти образы Мандельштам создает, а не списывает с конкретных картин, он создает в стихах сам образ рембрандтовской живописи – так же, как в других стихах он создает образ музыки Моцарта и Шуберта, а не заимствует детали из их творчества и биографии («И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…», 1933).
Все стихотворение растет и строится как личное мучительное переживание рембрандтовского мира светотени – преходящего блеска и великолепия жизни перед лицом вечности и тьмы; оно строится зрением, взглядом, как произведение живописи, и потому кажется уместным еще раз напомнить в качестве комментария к нему слова Мандельштама о восприятии живописи из «Путешествия в Армению»:
«Стояние перед картиной, с которой еще не сравнялась телесная температура вашего зренья, для которой хрусталик еще не нашел единственной достойной аккомодации, – все равно что серенада в шубе за двойными оконными рамами.
Когда это равновесие достигнуто – и только тогда – начинайте второй этап – реставрация картины, ее отмыванье, совлеченье с нее ветхой шелухи, наружного и позднейшего – варварского слоя, который соединяет ее, как всякую вещь, с солнечной или сумеречной действительностью.
<…> Путешественник-глаз вручает сознанию свои посольские грамоты. Тогда между зрителем и картиной устанавливается холодный договор, нечто вроде дипломатической тайны.
И тут только начинается третий и последний этап вхождения в картину – очная ставка с замыслом»[655]655
Цит. по: Мандельштам О. Шум времени. С. 205.
[Закрыть].
Если счистить все, что соединяет мандельштамовскую поэтическую живопись «с солнечной или сумеречной действительностью», то на очной ставке с замыслом проступает главная, невыговоренная мысль этих стихов – мысль о смерти, представшая поэту в образах глубинно родственного ему художника, брата-Рембрандта.
На доске малиновой, червонной
На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной —
Втридорога снегом напоенный,
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный
И перегоревший в сахар жженый.
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона,
Не раскаркается здесь веселая, кривая
Карличья в ушастых шапках стая, —
И, меня сравненьем не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая…
6 марта 1937
Начинается это стихотворение так же, как стихи о фарфоровой тарелке: «На бледно-голубой эмали» – «На доске малиновой, червонной»; сразу назван цвет и материал основы, на которую наносится изображение, таким образом задается восприятие стихотворения как словесного рисунка, растущего на наших глазах. Доска – важная деталь, смысл ее обнаруживается в последующих отсылках к фламандцам, к Брейгелю, писавшему свои картины цикла «Времена года» маслом на дубовых досках[656]656
Ср. комментарий М.Л. Гаспарова: «Описание эстетизированного вида Воронежа <…>, как бы написанного на иконной доске…» (Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. С. 802).
[Закрыть].
Для цвета основы Мандельштам подбирает оттенки красного, как живописец их подбирает на своей палитре; если слово «червонный» в его поэзии встречается один единственный раз (и еще дважды «червленый» в переводах), то «малиновый» имеет у Мандельштама свою историю. Как правило, ощущение цвета идет у него от вещества или материала (например: «янтарь и мясо красных глин»), но в случае с малиновым это личное ощущение, похоже, связано не столько с ягодой малиной, сколько с поэтическим образом из стихотворения Анны Ахматовой: «Черных ангелов крылья остры, / Скоро будет последний суд. / И малиновые костры, / Словно розы, в снегу растут» («Как ты можешь смотреть на Неву…», 1914) сама Ахматова считала эти стихи источником мандельштамовского «Как черный ангел на снегу…» (1914?)[657]657
Ахматова А.А. Листки из дневника // Ахматова А.А. Сочинения. Т. 2. С. 202–203.
[Закрыть]. Малиновый цвет приходит в поэзию Мандельштама как цвет огня на снегу – с малиной ассоциируется горение, пылание: «Пылает на снегу аптечная малина» – это сказано о стеклянных красных шарах, выставленных в витринах аптек («1 января 1924»), то же и в прозе: «И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек» («Шум времени», 1923).
И в воронежском стихотворении «на доске малиновой, червонной» постепенно проступает тема горения, тема огней на снегу – проступает картина зимнего Воронежа, каким однажды его увидел Мандельштам: «Как-то ранней весной, в самых первых числах марта, когда везде еще лежал снег (в том году его было очень много), Осип Эмильевич зашел к нам, и мы пошли гулять. Были уже сумерки. Мы дошли до конца улицы Каляева, на которой я жила, и остановились на крутой горе; улица спускалась вниз, на Степана Разина, а напротив поднималась тоже крутая и высокая гора, так начиналась Логовая. В синих сумерках на горе и внизу загорались огоньки окон. “На доске малиновой, червонной <…>” Так запечатлел Осип Эмильевич кусочек моего города в стихотворении, которое он прочитал на другой день», – вспоминала Наталья Евгеньевна Штемпель[658]658
«Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. С. 40–41.
[Закрыть].
В другом месте, комментируя эти стихи, Наталья Евгеньевна отметила еще одну особенность воронежского пейзажа: «По склонам вниз, к реке, нагромождаясь и набегая друг на друга, спускались одноэтажные домики. Они-то и придавали городу особый колорит и живописность»[659]659
Осип Мандельштам в Воронеже. М., 2008. С. 70.
[Закрыть].
Из этих впечатлений Мандельштам создает свою картину, в которой пространство слоится, плоится складками («полу-город, полуберег») и как будто сбегает с «горы крутопоклонной» (вариация известного топонима – Поклонная гора была и в Москве, и в Петербурге) вниз, к замерзшей воде. С точки, указанной Натальей Штемпель, была видна не только гора, но и река[660]660
Приношу благодарность Александру Романовскому за фотографии современного Воронежа и ценные пояснения к ним.
[Закрыть], зимой там катались на коньках – всем этим объясняется отрицательное сравнение с фламандской, или в другом варианте текста – голландской живописью: «Не ищи в нем зимних масел рая» – призыв парадоксален, потому что приметы того, чего искать не надо, даны с большой точностью. «Зимние масла рая» – обобщенный образ определенного рода живописи, представленного прежде всего картинами Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу»[661]661
На эту картину Брейгеля в связи со стихотворением Мандельштама указано в кн.: Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама: субъектный подход. С. 49.
[Закрыть] и «Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц» – обе написаны маслом по дереву в 1565 году. Мандельштам оригиналов Брейгеля не видел, но «Зимний пейзаж…» он наверняка знал в прекрасной, точной копии Питера Брейгеля младшего (1620-е годы), находившейся с 1924 в экспозиции Государственного музея изящных искусств, впоследствии – Государственного музея изобразительных искусств в Москве. Также можно вспомнить эрмитажные зимние пейзажи Мастера из Антверпена (предположительно Гейсбрехт Лейтенс) с конькобежцами и птицами, или того же «фламандского уклона» картину Хендрика Аверкапа «Сцена на льду», тоже с птицами. Однако в наибольшей мере формуле «зимних масел рая»[662]662
Ср. в более раннем стихотворении: «И масло парижских картин» («Я пью за военные астры…», 1931).
[Закрыть] отвечает именно Брейгель – и «Охотники на снегу», и особенно «Зимний пейзаж с конькобежцами» с его жемчужной палитрой, пухлыми шапками снега на домиках и на берегах реки и с бесконечной глубиной пространства. Другое понимание «зимних масел рая» как «заумной находки, в которой латентно покоятся клады русских городских ассоциаций, – иконные ряды, где торгуют лампадным маслом, льняное масло монастырских поварен…»[663]663
Полякова С.В. Осип Мандельштам: наблюдения, интерпретации, заметки к комментарию С. 101.
[Закрыть] – уводит далеко в сторону от темы стихотворения. «Зимних масел рая» – не заумь, а словосочетание с небольшим грамматическим сдвигом, что вполне характерно для Мандельштама, соединявшего слова не по существующим правилам сочетаемости и грамматики, а как будто впервые.
На первом плане «Зимнего пейзажа с конькобежцами и ловушкой для птиц» хорошо видны «ушастые шапки» на головах катающихся, а птицы написаны так, что они соотносятся и смешиваются с маленькими темными фигурками людей на льду, так и Мандельштам сливает птиц и конькобежцев в одну метафору: «Не раскаркается здесь веселая, кривая / Карличья в ушастых шапках стая…». И все-таки здесь, как и в других подобных случаях, он не воспроизводит конкретную картину, а собирает обобщенный визуальный образ и ему противопоставляет свой словесный рисунок – «зимним маслам рая» Мандельштам противопоставляет теплые цвета разных оттенков, обогащенные темой горения, – «красные угли», «желтую мастику», «перегоревший сахар жженый». Сочетание этих огней и красок с белым снегом создает яркую, с любовью написанную картину, которую сам поэт называет «рисунком» и дарит ее тому… той… Благодаря комментарию Натальи Евгеньевны Штемпель, можем предположить, что стихотворение обращено именно к ней: «Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный…» – словесная живопись материализуется, картина превращается в то, что можно срезать, в бумажный листок, и ему передаются и чувства автора. Стих про рисунок очень плотный, в ней совмещены и дорога, и влюбленность, и жест дарения – прощальный жест, понятный в контексте биографии Мандельштама, которому предстояло вскоре, по окончании срока ссылки, покинуть Воронеж.
Смысл этого жеста поясняется сравнением в двух последующих стихах – рисунок сопоставлен с «лапой клена», т. е. с кленовым листком, похожим на лапу, на ладонь; «сухую, но живую» – пронзительная, лично звучащая деталь. Листок улетает, его уносит дым – Мандельштам слегка раскачивает синтаксис за рамки грамматической нормы: «срежь рисунок», как «дым уносит», – здесь как будто пропущено «унеси», «срежь и унеси», и эта легкая неправильность «утепляет» поэтическую речь, придает ей характер спонтанного разговора. В последних стихах взгляд переводится с картины города, с «рисунка» на уносимый дымом листок, похожий на ладонь, – красивый визуальный образ с нотой прощальной грусти; ходули-столбы дыма, убегающего вверх, оставляют ощущение мимолетности увиденного, сказанного, пережитого.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































