Текст книги "Тяжесть и нежность. О поэзии Осипа Мандельштама"
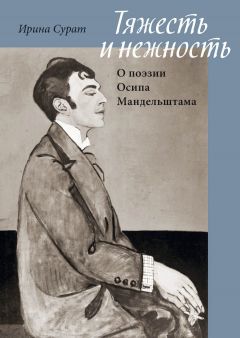
Автор книги: Ирина Сурат
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Петербургский сюжет
О Мандельштаме не скажешь, что он, как Пушкин, принадлежит прежде всего Петербургу: его бездомность обернулась в поэзии необозримыми пространствами без границ – пространствами, которые он по большей части биографически не обжил, но которые создал или пересоздал силою поэтического воображения и слова. «Мне все равно, когда и где существовать!»[8]8
Из ранних редакций стихотворения «Адмиралтейство» (1913).
[Закрыть] – в том смысле, что существовать поэту можно всегда и везде, независимо от реального пространства и времени, все и всегда ему открыто и доступно: Египет, Эллада, Рим, Иудея, Византия, Париж, Лондон, Кёльн, Реймс, Шотландия, Финляндия, Армения, Крым, Тифлис, Москва, Киев, Сибирь, Урал, Воронеж, Задонск, Тамбов… Мы только не знаем, вошел ли в стихи Мандельштама Дальний Восток, ставший его могилой, – вряд ли вошел… И все же именно Петербург, в котором поэт не родился, не умер и по существу не так уж много прожил, именно Петербург составил в его творчестве не просто особую тему, но большой историософский и глубоко интимный сюжет, связавший в одно историю города, страны и его личную судьбу.
Петербургский текст Мандельштама драматически изломан в тех же точках, что и вся его жизнь, он развернут во времени от ранних, первой половины 1910-х годов, акмеистических опытов познания тогда живого и любимого города, через страшный для всех петербуржцев год 1921-й – до воронежских ссыльных видений 1937-го. К петербургскому сюжету многое стянуто, многое в нем отразилось, и в частности, с ним сплетен у Мандельштама сюжет пушкинский, также завершившийся в его лирике зимой 1937 года, в дни всероссийского «юбилея» – столетия пушкинской смерти.
Самые ранние стихи Мандельштама не локализованы в пространстве – петербургская тема и топика проступает в них постепенно, выплывает из еще символистского тумана к 1912–1913 годам, параллельно с архитектурными образами других городов: в 1913 году в публикации «Гиперборея» и одновременно в первом издании «Камня» оформляется первый «петербургский цикл» или, скорее, подборка – «Петербургские строфы» (1913), «В душном баре иностранец…» (1913), «Лютеранин» (1912); позже этот ряд будет дополнен «Адмиралтейством» (1913), которое для этого условного цикла может считаться центральным, ключевым стихотворением. К ним примыкают не допущенные во второе издание «Камня» военной цензурой «Заснула чернь» (1913) и «Дворцовая площадь» (1915), а также «На площадь выбежав, свободен…» (1914), где петербургская тема спорит с римской и сквозь «рощу портиков» Казанского собора просвечивает колоннада римского Сан-Пьетро. («Тютчевское» стихотворение «Лютеранин» внешне с Петербургом не связано, но недаром Мандельштам публикует его в этом ряду – по связи неочевидной, глубинной оно впоследствии отзовется в более поздних его петербургских стихах.)
Мандельштамовский Петербург периода «Камня» – совсем не тот сырой и серый, смертельно больной, обреченный и проклятый «город на болоте»[9]9
«Город на болото» – «клише символистского сознания» (Тименчик Р.Д. «Поэтика Санкт-Петербурга» эпохи символизма/постсимволизма // Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам. XVIII. Тарту, 1984. С. 121. Ср. позже у Бориса Пильняка: «страшный город на гиблых болотах с гиблыми туманами и гнилыми лихорадками» (Пильняк Борис. Повесть Петербургская, или Святой Камень-город. Москва-Берлин, 1922. С. 73.).
[Закрыть], каким он предстал после Достоевского у символистов – в романе Дмитрия Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)» (1904–1905, отд. изд. 1905, 1906, 1907), в стихотворении Зинаиды Гиппиус «Петербург» (1909), в романе «Петербург» Андрея Белого (1911–1912). Петербург символистов – это город, основанный Антихристом и несущий на себе его печать:
Твое холодное кипенье
Страшней бездвижности пустынь.
Твое дыханье – смерть и тленье,
А воды – горькая полынь.
Как уголь дни – а ночи белы,
Из скверов тянет трупной мглой,
И свод небесный, остеклелый
Пронзен заречною иглой.
………………………………
Как прежде, вьется змей твой медный,
Над змеем стынет медный конь…
И не сожрет тебя победный
Всеочищающий огонь.
Нет, ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг.
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк.
Зинаида Гиппиус, «Петербург»
В отличие от этого «проклятого города», Петербург раннего Мандельштама – город многоликий, прекрасный и благословенный прежде всего потому, что он – пушкинский. Мандельштамовский пушкиноцентризм сказался и в этой теме. Если для символистов genius loci Петербурга – Медный Всадник[10]10
«Медный всадник – это genius loci Петербурга» – Анциферов Н.П. Душа Петербурга (1922) //Анциферов Н.П. «Непостижимый город…» Л., 1991. С. 35.
[Закрыть], Антихрист на апокалиптическом коне, строитель города смерти, автор «проклятой ошибки», то для Мандельштама genius loci Петербурга – Пушкин, последний солнечный певец этого города, так высоко прославивший его в знаменитом «“люблю”-фрагменте Петербургского текста»[11]11
Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003. С. 9.
[Закрыть], во вступлении к «Медному Всаднику». В 1910–1920-х годах Пушкин казался «последним певцом светлой стороны Петербурга»[12]12
Анциферов Н.П. «Непостижимый город…» С. 66.
[Закрыть], и Мандельштам в начале своего «петербургского текста» с некоторым усилием прорывается к тому вечному, сияющему пушкинскому городу – прорывается сквозь новую реальность, историческую и литературную.
Так и устроены его «Петербургские строфы» – как два кадра на одном негативе: сквозь «мутную метель» пробивается солнце, сквозь город моторов, сквозь запах бензина проступает Петербург «Онегина» и «Медного Всадника», грамматическое настоящее время перемежается с прошедшим:
Н. Гумилеву
Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.
Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна – как броненосец в доке —
Россия отдыхает тяжело.
А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.
Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска,
На площади Сената – вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка.
Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.
Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений – бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!
«Желтизна», которая всю жизнь будет сопровождать петербургскую тему у Мандельштама («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 1930, «Нынче день какой-то желторотый…», 1936), объясняется не только тем, что Николай I предпочитал желтый цвет при окраске правительственных зданий в Петербурге[13]13
Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 537 (комм. А.Г. Меца).
[Закрыть]. Грязно-желтые петербургские туманы прочно окрасили литературный образ города в романах Достоевского («Подросток», «Преступление и наказание»), Мережковского («Петр и Алексей», «Александр I»), а ближайший для Мандельштама поэтический источник этой желтизны – стихотворение Иннокентия Анненского «Петербург» (1910) (листок с этим стихотворением Мандельштам вырвал из «Аполлона» и с ним «не расставался в течение всей своей жизни»[14]14
Лекманов О.А. Осип Мандельштам. М., 2009. С. 29.
[Закрыть]):
Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты…
Эта самая желтизна в сочетании с пушкинской «мутной метелью», отсылающей сразу и к «Бесам», и к «Метели», рассеивается в первой же строфе, чтобы ввести нас в картину Петербурга почти пушкинского, где «правовед опять садится в сани» так же, как столетием раньше садился в них Евгений Онегин («Уж тёмно: в санки он садится. / “Пади, пади!” – раздался крик; / Морозной пылью серебрится / Его бобровый воротник» – «Евгений Онегин», 1 – XVI). «Опять» – ключевое слово в этой картине. По видимости – но только по видимости – оно сближает мандельштамовское стихотворение со стихами Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» (1912) с их темой бесконечной, бессмысленной и безысходной повторяемости бытия, отраженного в воде петербургских каналов. Для Блока эта повторяемость мертвенна – для Мандельштама она радостна и желанна, историческое и литературное время для него циклично, и если все повторяется – значит продолжается жизнь. «Все было встарь, все повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг» – это будет сказано позже, в 1918 году («Tristia»), с почти буквальной цитатой из Блока («И повторится всё, как встарь»), но с противоположным знаком, а чуть позже Мандельштам сформулирует это как творческий принцип: «Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер. Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова, и волосы, и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, – глубокая радость повторенья охватывает его, головокружительная радость <…> Так и поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином» («Слово и культура», 1921, курсив наш – И.С.).
«Глубокая радость повторенья», «выпуклая радость узнаванья» пушкинского города в его непреходящих чертах чувствуется в петербургских стихах Мандельштама периода первого «Камня», и потому многочисленные пушкинские реминисценции так естественно входят в ткань этих стихов – ведь имена вещам уже были даны, и теперь их можно только с радостью повторять. «Онегина старинная тоска» сегодня та же, что была сто лет назад, «а над Невой – посольства полумира» те же, что в пушкинском «Пире Петра Первого» («Над Невою резво вьются / Флаги пестрые судов»)[15]15
Е.А.Тоддес слышит здесь отголоски стихов «Медного Всадника»: «Все флаги в гости будут к нам» и «На лик державца полумира» – Тоддес Е.А. К теме: Мандельштам и Пушкин // Тоддес Е.А. Избранные труды по русской литературе и филологии. М., 2019. С. 506.
[Закрыть]. Повторяется и сама петербургская история: «На площади Сената – вал сугроба, / Дымок костра и холодок штыка» – эти две строки устроены так, что описывают с равной точностью и зиму 1913-го и 14 декабря 1825 года[16]16
На декабристскую тему здесь впервые указала Л.Я. Гинзбург, см.: Мандельштам О.Э. Камень. Л., 1990. (Литературные памятники). С. 271.
[Закрыть], и прошедшего между ними столетия словно и не было. Кажется, что примерно то же ощущение испытывает и герой «Петербурга» Андрея Белого, преследуемый Медным Гостем из «Медного Всадника»: «Александр Иванович, Евгений, впервые тут понял: столетие пробежал понапрасну: от декабря к октябрю: а за ним громыхало без всякого гнева – по деревням, городам, по подъездам, по лестницам; он – прощенный; все бывшее совокупно с навстречу идущим – лишь призрачные прохождения мытарств до трубы»[17]17
Белый Андрей. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 215.
[Закрыть], но опять здесь у Мандельштама не сходство, а отталкивание от символистской исторической эсхатологии – его собственное эсхатологическое мироощущение на тот момент еще не оформилось, не созрело, история предстает ему единой, непрерывной и цикличной, она все время возвращается, как солнце, «обуянное жаждой возвращения» и главное в ней не эволюция, не прогресс, а связь явлений («Слово и культура», «О природе слова», 1921–1922).
«Петербург» Андрея Белого как будто наследует образам «Медного Всадника», но пушкинские цитаты и эпиграфы звучат в нем диссонансом, этот контраст входит в замысел, в поэтику и семантику романа. В «Петербургских строфах» Мандельштама пушкинское присутствие органично, оно освещает настоящее и связывает его с прошлым. Литературные подтексты «Петербургских строф» открывают большую историческую перспективу вперед и назад – предчувствие близкой войны дает себя знать в образе «броненосца в доке», с которым сравнивается Россия, но этот же образ, с учетом его литературной генеалогии, уводит в далекое прошлое, в Россию петровскую, к самому началу ее имперской истории. Укажем на один из источников петербургских образов Мандельштама и вообще петровской темы в его стихах – роман Д.С. Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)» из трилогии «Христос и Антихрист». Вот, в частности, вид Адмиралтейства глазами Петра: «Игла Адмиралтейства в тумане тускло рдела от пламени пятнадцати горнов. Недостроенный корабль чернел голыми ребрами, как остов чудовища»[18]18
Мережковский Д.С. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 593.
[Закрыть]. Две мандельштамовские строчки, близкие по времени, восходят к этому образу: «Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, / Я изучал твои чудовищные ребра…» («Notre Dame», 1912) и «Чудовищна, как броненосец в доке, – / Россия отдыхает тяжело» («Петербургские строфы»); ср. также описание спуска корабля у Мережковского и у Мандельштама в «Шуме времени» (1923–1924): «Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Когда же появилось в клубах дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огнями, плывшее по Неве от Петропавловской крепости к Летнему саду морское чудовище с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями, – им почудилось, что это и есть предреченный в Откровении Зверь, выходящий из бездны»[19]19
Там же. С. 364.
[Закрыть] – «Помню также спуск броненосца “Ослябя”, как чудовищная морская гусеница выползла на воду, и подъемные краны, и ребра эллинга». Литературные впечатления вместе с детскими воспоминаниями входят в «Петербургские строфы» метафорой корабля-государства и связывают воедино петербургскую историю – ее петровское начало с мандельштамовской современностью.
«И государства жесткая порфира, / Как власяница грубая, бедна» – образ сложный, с поворотом от имперской темы к «неожиданному мотиву покаяния»[20]20
Комм. М.Л. Гаспарова в изд.: Мандельштам Осип. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 744.
[Закрыть]; тут, конечно же, и пушкинское соположение столиц в «Медном Всаднике» («И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная вдова»), и снова отголоски романа Мережковского, символической сцены, к которой нам придется еще возвращаться: «Присутствовали в Адмиралтействе при спуске большого семидесятипушечного корабля. Царь, одетый как простой плотник, в красной вязаной фуфайке, запачканной дегтем, с топором в руках, лазил между подпорками под самый киль…»[21]21
Мережковский Д.С. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 404. Этот эпизод медленного спуска тяжелого корабля следует учитывать и при анализе стихотворения «Сумерки свободы» (1918).
[Закрыть] «Власяница грубая» как символ покаяния исторического и личного через много лет превратится у Мандельштама в «железную рубаху» и вместе с петровской темой и топором всплывет в стихотворении «Сохрани мою речь навсегда…» (1931): «Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе / И для казни петровской в лесу топорище найду»[22]22
О «железной рубахе» Мандельштам мог прочитать тоже у Мережковского – в романе «Александр I» говорится про архимандрита Фотия: «…Носил железные вериги, спал в гробу» (о том, как Фотий спал в гробу, подробно рассказывается в главе первой части третьей – ср. мандельштамовское «В Петербурге жить – словно спать в гробу» – «Помоги, Господь, эту ночь прожить…», 1931); см.: Мережковский Д.С. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. С. 145, 235.
[Закрыть]. В «Петербургских строфах» речь идет не о себе, а об империи, и эта бедная власяница сближает государство и «чудака Евгения», который «бедности стыдится», – сближает их общей бедностью и как будто снимает традиционные петербургские оппозиции и контрасты[23]23
См. об этом: Ронен Омри. Оправдание Петербурга у акмеистов // Эткиндовские чтения II–III. Сб. ст. по материалам Чтений памяти Е.Г. Эткинда. СПб., 2006. С. 155.
[Закрыть]. Вместе с тем, как показал М. Алленов, жесткая и бедная «порфира» дает вполне точное изображение Дворцовой площади, здания которой, символизирующие мощь и величие государства, были тогда выкрашены в кирпично-красный цвет, так что Мандельштам называл их «красной подковой» («Когда октябрьский нам готовил временщик…», 1917, «Кровавая мистерия 9-го января», 1922)[24]24
Алленов М.М. Тексты о текстах. М., 2003. С. 250–251.
[Закрыть].
Сам контраст «порфиры» и «бедности» внутри одного образа – тоже пушкинский («Город пышный, город бедный…»[25]25
Наблюдение М. Алленова: Там же. С. 250.
[Закрыть]), Пушкин присутствует во всем этом стихотворении, как он присутствует для Мандельштама во всем Петербурге и во всей русской культурной истории, составляя ее солнечный центр.
Однако в третьей строфе он присутствует особым образом, неявно, но абсолютно возвышаясь над панорамой «правительственных зданий», Невы, Дворцовой площади, площади Сената, Тучкова буяна («склад пеньки»). Адмиралтейство в сиянии не просто реминисценция пушкинского образа из Вступления к «Медному Всаднику» («и светла / Адмиралтейская игла»); этот центральный стих – «Адмиралтейство, солнце, тишина!» (с выразительным после тишины восклицательным знаком) – составляет «солярную вертикаль»[26]26
Здесь и далее цитируем указанную книгу М. Алленова – с. 258–259, 265, 243.
[Закрыть] всей картины, «кульминацию всех свето-цвето-пространственных характеристик этого мира», он знаменует «запредельный взлет ввысь в архитектуре стихового пространства и в траектории стихотворного сюжета» и, учитывая все солнечные пушкинские ассоциации, символизирует здесь Пушкина самого. Адмиралтейство как «солярный символ города, его архитектурное солнце» совмещается с Пушкиным – солнечным центром мандельштамовского поэтического мира. «Тишина и статика “солярной вертикали” <…> ставит Адмиралтейство вне событийного ряда, где “правовед садится в сани”, северный сноб таскает обузу тоски по Адмиралтейскому бульвару и чудак Евгений “бензин вдыхает и судьбу клянет”. Адмиралтейство, стало быть, пребывает там, где “событий рассеивается туман”», то есть, добавим от себя, принадлежит вечности, как и Пушкин. При «символически значимом отсутствии» Медного Всадника в панораме «Петербургских строф», Адмиралтейство становится историко-культурным, эмоциональным, поэтическим центром образа города в этих стихах Мандельштама – образа, столь непохожего на Петербург символистов, гибельный и гибнущий.
Особый разговор – «чудак Евгений» в последней из «петербургских строф». Давно замечено, что помещая героя «Медного Всадника» в современный контекст, Мандельштам называет его так, как Пушкин называет неоднократно другого Евгения – Онегина[27]27
Ронен Омри. Оправдание Петербурга у акмеистов. С. 157.
[Закрыть]: «Что он опаснейший чудак», «Чудак, попав на пир огромный», «Чудак печальный и опасный», «Иль корчит так же чудака?», «Мой неисправленный чудак». В романе в стихах это слово употреблено Пушкиным восемь раз, а в «Медном Всаднике» «чудака» нет вообще. Мандельштамовский перенос неслучаен – в 1927 году в статье «Яхонтов» он снова называет героя «Медного Всадника» «чудаком» и заодно поясняет причину: «Наши классики – это пороховой погреб, который еще не взорвался. Чудак Евгений недаром воскрес в Яхонтове; он по-новому заблудился, очнулся и обезумел в наши дни». (Актер Владимир Яхонтов, друг Мандельштама, читал со сцены классику, лучшей его работой Мандельштам назвал в той статье композицию «Петербург», «сплетенную из обрывков “Шинели” Гоголя, “Белых ночей” Достоевского и “Медного Всадника”».) Итак, Евгений не просто продолжает свои скитания в мандельштамовском Петербурге – он «обезумел» «по-новому», и слово «чудак» говорит о труднопостигаемом, парадоксальном инобытии героя на новом витке петербургской истории. Классика не наследуется как родовая вотчина – в художественном мире Мандельштама она порой взрывается как «пороховой погреб».
И в то же время в «чудаке Евгении» слышится что-то личное, автор «Петербургских строф» вжился в него больше, чем в других героев – «правоведа» или «северного сноба». На это Надежда Яковлевна Мандельштам дала свою отповедь: «Кто выдумал, что он олицетворил себя в строчках: “Чудак Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет”? Мандельштам не “самолюбивый, скромный пешеход”, он для этого слишком любил ходить пешком и любоваться миром, куда входили и машины. Это Парнок самоутверждается и робок, как горный козел. <…> Не могло быть и секунды, чтобы этот человек сказал про себя, что он “судьбу клянет”…» – и дальше с той же горячностью она защищает Мандельштама, как будто может всерьез идти речь о тождестве автора и героя, о буквальном применении этих стихов к самому поэту. Но, как и в случае с упомянутым ею Парноком, героем «Египетской марки» (1927), Мандельштам личной интонацией приближает к себе воскресшего Евгения – такого же чудака, как он сам.
Это самый «чудак» – почти тот «иностранец», каким именует себя поэт в первой, впоследствии отброшенной строфе стихотворения «…Дев полуночных отвага…» (1913), второго в «петербургской публикации «Гиперборея» и петербургской подборке «Камня»:
В душном баре иностранец,
Я нередко, в час глухой,
Уходя от тусклых пьяниц
Становлюсь самим собой.
И «пьяницы» и «душный бар» – блоковские мотивы, эпитет «глухой» тоже напоминает конкретно о «Незнакомке» (1906), и на этом фоне расставание с первой строфой в последующих изданиях «Камня» выглядит не просто как творческое решение, но как жест отказа от символистского взгляда на мир, символистской поэтики, символистского Петербурга. «Становясь самим собой», поэт выходит из «душного бара» на петербургские улицы:
Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.
Кто, скажите мне, сознанье
Виноградом замутит,
Если явь – Петра созданье,
Медный всадник и гранит?
Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.
И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.
Выйдя из блоковского Петербурга, поэт попадает в Петербург пушкинский – в мотивах и интонации этих стихов отчетливо слышны пушкинские петербургские хореи – «Город пышный, город бедный…» (1828) и «Пир Петра Первого» (1835): «Медный всадник и гранит» – «Скука, холод и гранит», «Слышу с крепости сигналы» – «Отчего пальба и клики…» Пушкинские строки подхватываются, перепеваются Мандельштамом, все стихотворение ими полнится и звучит, как и мотивами «Медного Всадника», вступления к нему. Но своя тема здесь идет вразрез с пушкинским прославлением примирительного царского пира («Пир Петра Первого») или «пирушки холостой» («Медный Всадник») – это тема трезвости, тема ясного сознания, оппонирующая, конечно, не Пушкину, а Блоку и вообще символистскому «бреду воспаленной головы». Именно это подчеркнул Гумилев в своем отзыве на первое издание «Камня»: «С символическими увлечениями О. Мандельштама покончено навсегда, и как эпитафия над ними звучат эти строки: “И гораздо лучше бреда / Воспаленной головы / Звезды, трезвая беседа, / Ветер западный с Невы”»[28]28
Цит. по изд.: Мандельштам О.Э. Камень. С. 217.
[Закрыть]. Аргументом в споре Мандельштама с символизмом стал в этих стихах Петербург – Мандельштам увидел в нем такую сверхреальность яви, какая сравниться не может ни с какими хмельными видениями.
Мандельштамовская ранняя зависимость от символизма проявилась в продуктивном отталкивании, в трудном споре, в преодолении. Это спор расслышать непросто – ведь одно мировоззрение рождалось внутри другого, вырастало из него, как и поэтика акмеистическая рождалась внутри символистской, из нее вырастала. Пример тому – петербургская тема. Мы узнаем у Мандельштама образы Блока и Мережковского, но они если не отторгнуты, то радикально переосмыслены и включены в собственные мандельштамовские связи.
Мандельштамовское видение Петербурга формировалось тогда же, когда и его акмеистическая теория, которую, собственно, он один из акмеистов смог внятно обосновать. В этом обосновании первую роль сыграла архитектура как образ культурного строительства в противовес футуристической игре со словом или «прогулке в “лесу символов”». «Акмеизм – для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: я строю – значит я прав»; «Камень Тютчева, что “с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой, иль был низвергнут мыслящей рукой”, – есть слово. Голос материи в этом неожиданном паденьи звучит как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания»; «Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить» («Утро акмеизма», 1912, 1913?). С архитектурной идеей связаны стихи того времени – «Айя-София», «Notre Dame» (оба – 1912) и два петербургских архитектурных стихотворения – «Адмиралтейство» и «На площадь выбежав, свободен…».
В захаровском шедевре Мандельштам увидел апофеоз культурного строительства, творческой деятельности человека:
Адмиралтейство
В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря;
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря!
Стихотворение выдержано в торжественной интонации спокойного восхищения, сдержанного восторга. Масштаб центрального архитектурного образа растет от строфы к строфе, и в последнем стихе поэтическое пространство размыкается пушкинской реминисценцией, но речь уже идет не о скромном «окне в Европу», а об открывающихся «всемирных морях». Архитектурное творение Захарова, заложенное Петром, совмещается с городом, творением Петра, и становится символом безграничных творческих возможностей человека, среди творцов присутствует и Пушкин – как певец Адмиралтейства, Петербурга, Петра, создатель «Медного Всадника», сотворец того величественного и прекрасного образа, который вырастает в стихотворении[29]29
«А.С. Пушкин является в той же мере творцом образа Петербурга, как Петр Великий – строителем самого города. Все, что было сделано до певца “Медного Всадника”, является лишь отдельными изображениями скорее идеи Северной Пальмиры, чем ее реального бытия» (Анциферов Н.П. «Непостижимый город…» С. 58).
[Закрыть]. Кроме реминисценции из «Медного Всадника», пушкинские мотивы слышатся и в характеристике венценосного «простого столяра» («то мореплаватель, то плотник» – «Стансы», 1826[30]30
Отмечено Л.Я. Гинзбург // Мандельштам О.Э. Камень. С. 271.
[Закрыть]), и в противопоставлении его художнику-полубогу – здесь Мандельштам, опираясь на «Моцарта и Сальери», заостряет столь важное для него различие двух типов художества (один ассоциируется у него с символизмом, другой – с акмеизмом; ср.: «Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию. На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира» – «О природе слова»).
Сияющее, как и в «Петербургских строфах», Адмиралтейство обрастает гроздью метафор – фрегат, акрополь, ковчег – все они значимы в мифологии Мандельштама. Фрегат – вариация темы корабля-государства его исторического движения, только здесь Россию символизирует не воинственный «броненосец» («Петербургские строфы»), не тяжелый «корабль», который «ко дну идет» («Сумерки свободы»), а легкий «фрегат», устремленный в открытое время и пространство. Акрополь – часто встречающийся в стихах и статьях Мандельштама символ укрепленного «верхнего города», крепости культуры («В разноголосице девического хора…», 1916, «Tristia», 1918, «За то, что я руки твои не сумел удержать…», 1920, «О природе слова»[31]31
«У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неумолимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории».
[Закрыть]). Но главная и самая сильная здесь метафора – Адмиралтейство как «целомудренно построенный ковчег», и опять нужно вспомнить Мережковского, ту уже упомянутую нами сцену романа «Антихрист (Петр и Алексей)», где Петр в Адмиралтействе, «одетый, как простой плотник», «с топором в руках» лично участвует в спуске на воду большого корабля. Эту сцену описывает в своем дневнике фрейлина Арнгейм: «“Тружусь, как Ной, над ковчегом России”, – припомнились мне слова царя»[32]32
Мережковский Д.С. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 404.
[Закрыть]. Библейская реминисценция из Мережковского закрепляет масштаб образа: ковчег Адмиралтейства – это ковчег Петербурга, ковчег России, спасительный среди всемирного потопа (ср. «всемирные моря»).
Не всадник смерти и не Антихрист видится Мандельштаму в Петербурге, а ковчег спасения у начала новой истории – образ, неслучайный для Петербургского текста с его устойчивой символической темой наводнения («Медный Всадник»). Чуть позже, уже на первом сломе мандельштамовского петербургского сюжета, восприятие города качнется у него к другому полюсу этой темы, от ковчега к потопу:
Императорский виссон
И моторов колесницы —
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесен.
В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы.
……………………………….
1915
Как пишет Д. Сегал, «эта картина оказывается символом некоей вселенской катастрофы, потопа, гибели Петербурга, его ухода под воду – картины, которая сразу же вызывает в памяти парадигматические пушкинские образы страшного наводнения в Петербурге, запечатленные в “Медном всаднике” и связанные с идеей империи, ее символов, ее власти, безнадежного бунта против нее»[33]33
Сегал Д.М. Осип Мандельштам. История и поэтика. Jerusalem-Berkeley, 1998. Часть I. Книга 1. С. 317.
[Закрыть]. Но в этих стихах империя еще стоит – ее «черно-желтый ло1скут» еще «злится» в вышине.
Петербургский потоп – это картина 1915 года, в 1913-м Петербург пока воспринимается Мандельштамом по-другому: прекрасный, совершенный, «целомудренно построенный ковчег» Адмиралтейства символизирует чудо строительства Петербурга – не того города, которому, по старинному проклятию, «быть пусту», а того, который воспет Пушкиным: «Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо как Россия, / Да умирится же с тобой / И побежденная стихия…» Только амбиция победы над стихией Мандельштаму не близка: «Нам четырех стихий приязненно господство, / Но создал пятую свободный человек…» Человек сотворчествует Создателю четырех стихий, и его пятая – рукотворная красота архитектурного творения, застывшей музыки. Творцы Адмиралтейства И.К. Коробов и А.Д. Захаров здесь не названы, но назван Петр, он и есть главный герой стихотворения – это подсказывают реминисценции из пушкинского «Медного Всадника», «Стансов» и романа Мережковского о Петре. Укажем на еще одну из них, чтобы убедиться: отталкиваясь от Мережковского, Мандельштам игнорирует его тему Петра-Антихриста, но тщательно отбирает из романа черты Петра-строителя. Петр, как известно, задумав Адмиралтейство в начале 1700-х годов, сам начертал его первый чертеж. Мандельштам как будто прямо об этом и говорит: «Служа линейкою преемникам Петра…» У Мережковского читаем: «У царя страсть к прямым линиям. Все прямое, правильное кажется ему прекрасным. Если бы возможно было, он построил бы весь город по линейке и циркулю»[34]34
Мережковский Д.С. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 397.
[Закрыть].
Петр как «строитель чудотворный» отвечает акмеистической идее культурного строительства, зодчества в широком историческом смысле – эту идею и воплощает Мандельштам в «Адмиралтействе» в образе совершенного творения «свободного человека». Но свобода творца-строителя не безгранична, его строительная деятельность должна быть «целомудренной» – этим неожиданным словом описано бережное отношение к трем измерениям пространства; комментарий к этому скрытому мотиву «Адмиралтейства» находим в «Утре акмеизма»: «Для того, чтобы успешно строить, первое условие – искренний пиетет к трем измерениям пространства – смотреть на них не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец. В самом деле: что вы скажете о неблагодарном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить. Строить можно только во имя “трех измерений”, так как они есть условие всякого зодчества. Вот почему архитектор должен быть хорошим домоседом, а символисты были плохими зодчими. Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической колокольни – злая, потому что весь ее смысл – уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто». Стрела колокольни в родстве с «Адмиралтейской иглой», с «мачтой-недотрогой», и все эти идеи в родстве с поэтическим образом Адмиралтейства, идеально вписанного в «три измерения» пространства. Вдохновенное создание Петра, Коробова и Захарова переживается Мандельштамом как внутреннее событие, как торжество творческого духа в материальном, вещественном образе красоты; ср. чуть раньше в «Notre Dame»: «…Из тяжести недоброй / И я когда-нибудь прекрасное создам…» Такое же торжество духа в архитектурном творении передано в стихотворении 1914 года «На площадь выбежав, свободен…» – о Казанском соборе А.Н. Воронихина[35]35
Напрашивается сравнение этих стихов Мандельштама с написанными позже петербургскими стихами Бенедикта Лившица – «Казанский собор», «Дворцовая площадь», «Адмиралтейство – 1», «Адмиралтейство – 2» (сб. «Из топи блат», 1922).
[Закрыть].
Одно из петербургских стихов Мандельштама долго не поддавалось внятному истолкованию:
Заснула чернь! Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил Зверь.
Курантов бой и тени государей…
Россия, ты на камне и в крови,
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!
1913
Главная загадка здесь – образ «Зверя», который проясняется, если вспомнить название трилогии Мережковского о русской истории: «Царство Зверя» – в нее входят пьеса «Павел I» (1908), роман «Александр I» (1911–1912, отд. изд. 1913) и роман «14 декабря» (1918)[36]36
Впервые на роман Мережковского «Александр I» в связи с этим стихотворением указал Омри Ронен в кн.: Ronen O. An approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983. P. 86; подробнее см.: Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск. С. 496–504.
[Закрыть]. Зверь – также ключевой образ не раз уже упомянутого нами романа «Петр и Алексей» из трилогии «Христос и Антихрист»[37]37
См., напр.: Мережковский Д.С. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 362, 593.
[Закрыть], фигурирует он и в пьесе о Павле I[38]38
Мережковский Д.С. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. С. 20, 88.
[Закрыть]. Зверь – это страшный дух русской истории, ведущий ее к последней катастрофе; в романе о Петре I Зверь ассоциируется непосредственно с Петром, в романе об Александре I – это дух мятежа, заговоров, революций, цареубийства; его носителями, подчас невольными, являются декабристы (и одновременно – Аракчеев)[39]39
Ср. с мнением М.Л. Гаспарова, что Зверь – это совесть Александра: Мандельштам Осип. Стихотворения. Проза. С. 744.
[Закрыть]. Этот самый «Зверь» и «замучил» Александра I в романе Мережковского, им пугают царя Аракчеев и архимандрит Фотий: «Число звериное 666. Се – тайна последних времен, тайна великая. На 1836 год готовится царство Зверя… Пароль на всё наложен: раскопать алтари и разрушить престолы… Под видом тысячелетнего царствования, феократического правления – новая религия во грядущего Антихриста… всемирная революция»; тайное общество сравнивается в романе со «зверем, грызущим ему (царю – И.С.) внутренности», этот «страшный зверь» может «загрызть его до смерти»[40]40
Мережковский Д.С. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. С. 146, 246, 250, 253.
[Закрыть]. Александр I в романе – царь страдающий, мысль о тайном обществе и страх возмездия за отцеубийство 11 марта мучат его постоянно, от этого он по сюжету романа и умирает[41]41
Там же. С. 516.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































