Текст книги "Тяжесть и нежность. О поэзии Осипа Мандельштама"
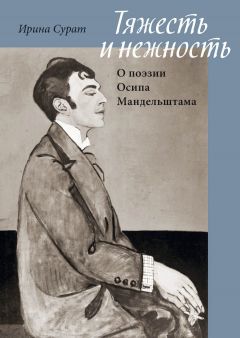
Автор книги: Ирина Сурат
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Красота и мощь кавказских пейзажей отражена и в тексте «Путешествия», но эти описания сдержанны: автор путевой прозы не поэт, он просто рассказывает правду, стараясь не примешивать к ней ничего личного. В этом отношении характерен и другой пример – описание храма Цминда Самеба в Гергети (пятая глава «Путешествия в Арзрум»): «Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками». Это «чудное зрелище» стало образной основой стихов, написанных во время путешествия или вскоре после него:
Монастырь на Казбеке
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!…
В «Путешествии» поэтическое впечатление переведено на язык путевого очерка, вмещено в одну минималистскую фразу без эпитетов, а личный порыв второй строфы отсечен полностью – в прозе, даже и перволичной, ему не место.
Пушкин с начала 1820-х годов был озабочен задачей создания русской прозы и в ранней заметке дал ее формулу, которую впоследствии воплотил на практике: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое…». В той же заметке, получившей условное название «О прозе» (<1822>), говорится и конкретно об описаниях природы, которых мы тут коснулись: «Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфоне – великом живописце природы. Слог его цветущий, полный всегда будет образцом описательной прозы. Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами?» Все это относится не только к прозе вымысла, но и к тому, что сегодня называется non-fiction; исследователи разделяют эти пласты у Пушкина[715]715
См, например, фундаментальную монографию Н.Н. Петруниной «Проза Пушкина» (Л., 1987).
[Закрыть], но для него они были едины – в заметке «О прозе» он говорит о литературной и театральной критике и рядом оценивает прозу Карамзина. Рассуждая о необходимости создания «метафизического языка», Пушкин называет прозой научную словесность, публицистику и частную переписку: «…ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснений понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны» («О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова», <1825>).
О таком же неразделении свидетельствует и пушкинская практика, и «Путешествие в Арзрум» стало предельным выражением минимализма в прозе – «точности и краткости», сдержанности и той объективности взгляда и тона, которую автор декларировал в предисловии. Сравним эмоциональную запись о миссионерстве в кавказском дневнике, переходящую в пламенную проповедь, с тем, что осталось от нее в публикации «Литературной Газеты» и в окончательном тексте «Путешествия».
Кавказский дневник: «Терпимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве Апостольство с нею несовместно? Разве истина дана для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений, – и никто еще из нас не подумал препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братиям, доныне лишенным света истинного. Легче для нашей холодной лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. – Нам тяжело странствовать между ими, подвергаясь трудам, опасностям по примеру древних Апостолов и новейших рим<ско>-кат<олических> миссионеров.
Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства. – Христиане ли вы. – С сокрушением раскаяния должны вы потупить голову и безмолствовать. – Кто из вас, муж Веры и Смирения, уподобился святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и Америки, без обуви, в рубищах, часто без крова, без пищи, – но оживленным теплым усердием и смиренномудрием. – Какая награда их ожидает? Обращение престарелого рыбака или странствующего семейства диких, нужда, голод, иногда – мученическая смерть. Мы умеем спокойно блистать велеречием, упиваться похвалами слушателей. – Мы читаем книги и важно находим в суетных произведениях выражения предосудительные.
Предвижу улыбку на многих устах – Многие, сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякий и не везде имеет право говорить языком высшей истины – я не такого мнения. – Истина, как добро Молиера, там и берется, где попадается»[716]716
Пушкин А.С.Дневники. Записки. С. 20–21.
[Закрыть].
Запись выбивается из общего тона дневника патетическим звучанием и ораторскими приемами – восклицаниями, вопросами, обращениями к условному адресату, парафразами, инвективами и апелляцией к Высшей Истине. Возможно, этот фрагмент содержит в себе намек на речи и проповеди митрополита Филарета Московского[717]717
Васильев Б.А. Духовный путь Пушкина. М., 1994. С. 166.
[Закрыть], полемика с которым могла в конце концов показаться Пушкину неуместной, так или иначе, тема миссионерства и обличение «лицемеров» редуцированы в обеих публикациях до двух сухих, голых фраз: «Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, незнающим грамоты» (VIII, 449). Мысль сохранена, но выражена кратко, жестко и бесстрастно, – в соответствии с общей стилистической и жанровой установкой «Путешествия в Арзрум». Эта установка оформилась, видимо, не без критической оглядки на традицию ориенталистских травелогов с их стилистической пышностью, однако не пародийные импульсы определили поступь этого текста[718]718
Ср: Гринлиф Моника. «Путешествие в Арзрум»: Поэт у границы // Современное американское пушкиноведение. СПб., 1999. С. 275–297.
[Закрыть], а тот самый «путь Пушкина к прозе», который описал еще Б.М. Эйхенбаум как двулинейное развитие и внутри стихотворной речи, и за ее пределами[719]719
Эйхенбаум Б.М. Путь Пушкина к прозе (1923) // Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969. С. 214–230.
[Закрыть].
Мандельштам записывал свое путешествие не так, как Пушкин, – он как будто сразу сочинял прозу, заносил в записные книжки готовые словесные блоки, фиксируя не столько увиденное, сколько мысли, далеко уводящие читателя от непосредственных впечатлений поездки[720]720
Записи делались и во время поездки, и после нее.
[Закрыть]. Это впоследствии определило композицию «Путешествия в Армению» и его жанровую специфику. Сам Мандельштам назвал свое сочинение «полуповестью», имея в виду, видимо, дискретность повествования, его нелинейность, не привязанность к сюжету или маршруту – ту особую нарративную свободу, которая отличает его прозу вообще, и в том числе – «Путешествие в Армению». При этом субъективное начало как двигатель рассказа сильнее выражено в окончательном тексте, чем в подготовительных материалах; так, например, в процессе переработки записей в текст привносится обращенность к другу, Борису Кузину, что придает «полуповести» характер личного разговора с близким человеком: «…авторский замысел вторгается в пережитое» (записная книжка). Мандельштам совсем не стремится к нейтральности и объективности тона, как Пушкин, – напротив, он подчиняет рассказ об Армении личным импульсам, внезапным ассоциациям, воспоминаниям. В его черновых записях есть следы рефлексии над тем, как может быть устроен прозаический текст и каким образом он связан с действительностью:
«Действительность носит сплошной характер.
Соответствующая ей проза, как бы ясно и подробно, как бы деловито и верно она ни составлялась, всегда образует прерывистый ряд.
Но только та проза действительно хороша, которая всей своей системой внедрена в сплошное, хотя его невозможно показать никакими силами и средствами.
Таким образом, прозаический рассказ не что иное, как прерывистый знак непрерывного.
Сплошное наполнение действительности всегда является [тональностью] единственной темой прозы. Но подражание этому сплошняку завело бы прозаическую деятельность в мертвый тупик, потому что [она имеет дело только с интервалами] непрерывность и сплошность нуждаются все в новых и новых толчках-определителях.
[Нам нужны приметы непрерывного и сплошного, отнюдь не сама невоспроизводимая материя.]
Безынтервальная характеристика невозможна <…>.
Идеальное описание свелось бы к одной-единственной пан-фразе, в которой сказалось бы всё бытие.
Для прозы важно содержание и место, а не содержание – форма. Прозаическая форма: синтез.
Смысловые словарные частицы, разбегающиеся по местам. Неокончательность этого места перебежки. Свобода расстановок. В прозе – всегда “Юрьев день”» (Записная книжка).
Если у Пушкина теория прозы, формировавшаяся в 1820 годы, предшествовала практике, то у Мандельштама она непосредственно внедрялась в практику, а практика диктовала теорию – это видим не только в подготовительных материалах к «Путешествию в Армению», но и в «Четвертой прозе», где есть несколько формул идеального текста, которым сам текст идеально соответствует: «воздух, проколы, прогулы».
«Свобода расстановок» становится формой, композицией «Путешествия в Армению» – свобода временных и пространственных перелетов, внешне не мотивированных переходов от армянской темы к зоологии или французской живописи. Эти как бы посторонние сюжеты, не связанные непосредственно с путешествием в Армению, объединяются авторской мыслью и создают то самое «сплошное наполнение действительности», которое Мандельштам назвал «единственной темой прозы».
В начале 1920-х годов Мандельштам, размышляя о путях развития прозы в связи с Пильняком и «серапионовыми братьями», приветствовал приход «накопительной», «собирательной», «эклектической», «безымянной» прозы, из которой самоустраняется автор; признаком такой прозы он видел внедрение в текст, в частности записных книжек, наряду с другим документальным материалом («Литературная Москва. Рождение фабулы», 1922) – все это объединялось формулой «личность в сторону». На практике в «Путешествии в Армению», как и в предшествовавшей ему «Четвертой прозе», доминирует авторское Я – личность автора активно предъявляет себя читателю, обеспечивая единство включенного в травелог тематически разнородного материала. Применительно к «Путешествию в Армению» кажется правильным термин «фасетчатость», предложенный Т.В. Цивьян в отношении более ранней прозы Мандельштама: «Отличие фасетчатой конструкции от мозаики, составленной из разных осколков, в том, что осколки становятся значимыми только как элементы некоей фигуры. Здесь же каждый элемент одновременно и самодостаточен, и репрезентирует целое <…> Тем самым сегментация текста осуществляется извне и связывается не с логикой сюжета, который в конце концов становится ненужным (без фабулы и героя), а с неким внутренним ритмом, с протяженностью дыхания (автора и/или читателя). Снятие требования дискурсивности приводит к тому, что расположение фрагментов по временной и пространственной оси осуществляется как бы случайно, подчиняясь внешним обстоятельствам <…> “Случайность” расположения фрагментов парадоксально создает цельность картины мира…»[721]721
Цивьян Т.В. К анализу «акмеистической прозы»: Мандельштам // Осип Мандельштам: К 100-летию со дня рождения. Поэтика и текстология. М., 1991. С. 46.
[Закрыть].
Действительно, «Путешествие в Армению», при небольшом объеме и сюжетной дискретности, создает картину мира, т. к. воплощает авторское ви1дение целого, его личное мироощущение, и тут не так важно, о чем рассказывается, но важно, кто говорит и как. Взгляд на мир составляет основное, глубинное содержание этой прозы, и потому так органичны в ней экскурсы в теорию эволюции, французскую живопись, армянский фольклор. И вот такой внешне несвязный и субъективный текст сам Мандельштам назвал воскрешением действительности и «прыжком в объективность», поясняя адресату письма (Мариэтте Шагинян), что путь к реальности лежит через «великие воинствующие системы науки, поэзии, музыки». Здесь, в отношении к действительности и в понимании объективности – большой разрыв между авторами двух путешествий, разрыв исторический и личный, разрыв в типе мышления и взглядах на существо прозы.
Если пушкинское «Путешествие в Арзрум» связано с жанровой традицией, какой она сложилась в русской литературе XVIII – первой трети XIX веков, то о «полуповести» Мандельштама этого сказать нельзя – он идет своим путем, без оглядки на многочисленные русские, и не только русские травелоги, составляющие литературный фон «Путешествия в Арзрум»[722]722
О них см.: Шёнле Андреас. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840. СПб., 2004.
[Закрыть]. Из их числа выделяются «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина (1791–1795) как один из самых значимых текстов эпохи – сопоставление его с пушкинским «Путешествием» выявляет скорее контраст, чем сходство[723]723
Там же. С. 178–186.
[Закрыть], и «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (1790), на которое Пушкин ответил симметричным «Путешествием из Москвы в Петербург» (1833–1834), специфика обоих текстов, пушкинского и радищевского, определяется тем, что авторы лишь использовали жанровую форму путешествия по своей стране для публицистических высказываний.
Ближе к «Путешествию в Арзрум» лежат два других травелога, о которых отозвался Пушкин, – это «Путешествие по Тавриде в 1820 г.» И.А. Муравьева-Апостола (СПб., 1921), внимательно прочитанное Пушкиным после поездки по Крыму и Северному Кавказу в 1820 году, и «Путешествие ко святым местам в 1830 г.» А.Н. Муравьева (Ч. 1–2. СПб., 1832). На книгу И.А. Муравьева-Апостола Пушкин откликнулся в своем «Отрывке из письма к Д.» (1824), первом небольшом опыте травелога, – в начале «Отрывка», не предназначенном для печати, он писал: «Путешествие по Тавриде прочел я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время как и И.М. Очень жалею что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для поверки оных потребны обширные сведения самого Автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? различие наших впечатлений». Если автор «Путешествия по Тавриде» останавливается прежде всего на исторических достопримечательностях Крыма, то пушкинские впечатления были по преимуществу лирическими; при этом, эпистолярной формой своего «Отрывка» Пушкин повторил и Муравьева-Апостола, и Карамзина.
«Путешествию ко святым местам» А.Н. Муравьева Пушкин дал самую высокую оценку – и непосредственно в предисловии к «Путешествию в Арзрум», и в наброске рецензии, которую он начал было писать в 1831-м или 1832-м году, но не закончил: «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г-на М<уравьева> <…> Молодой наш соотечественник привлечен туда не суетным желанием обрести краски для поэтического романа, не беспокойным любопытством найти насильственные впечатления для сердца усталого, притупленного. Он посетил св. места как верующий, как смиренный [христианин], как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться во прах пред гробом Христа Спасителя». Паломническая тема, главная для А.Н. Муравьева, звучит и в «Путешествии в Арзрум», но звучит латентно, почти не выходя на поверхность. Названные два «Путешествия» двух Муравьевых очевидным образом повлияли на жанровое сознание автора «Путешествия в Арзрум», хотя стилистически он далеко ушел от них в своем тексте.
К поездке на Кавказ Пушкин специально не готовился, но литература о Грузии и Армении, конечно, попадала в поле его зрения[724]724
Обзор см.: Багратион-Мухранели И.Л. «Другая жизнь и берег дальный». Репрезентация Грузии и Кавказа в русской классической литературе. Тверь, 2014. С. 26–75; Айвазян К.В. «Путешествие в Арзрум» Пушкина (Пушкин в Армении) // Пушкин и литература народов Советского Союза. С. 359–361.
[Закрыть]; книги по истории и географии Кавказа он читал уже после путешествия, и это нашло отражение в тексте[725]725
Тынянов Ю.Н. О «Путешествии в Арзрум» // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. С. 205–208.
[Закрыть].
Непосредственными предшественниками Мандельштама в освоении армянской темы были Валерий Брюсов, Сергей Городецкий и Андрей Белый. Брюсов подготовил и выпустил в 1916 году антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», для которой сам выполнил большую часть переводов, остальные отредактировал и написал вступительный очерк «Поэзия Армении и ее единство на протяжении веков»; кроме того Брюсов составил «Летопись исторических судеб армянского народа от VI в. до Р.Х. по наше время» (М., 1918). Вслед за Брюсовым на Кавказ отправился Сергей Городецкий – в 1918 году он издал книгу стихов «Ангел Армении», параллельно публиковал статьи об Армении и серию очерков «Путешествие в Эривань». Но ближайшим примером для Мандельштама стал Андрей Белый, посетивший Армению в 1928 и 1929 годах и напечатавший свои путевые очерки тогда же в «Красной Нови», – их воздействие на автора «Путешествия в Армению» уже отмечалось[726]726
Андреева М.Р. Армянские фрески Осипа Мандельштама. С. 83–88.
[Закрыть], но заслуживает особого, детального исследования.
Мандельштам, в отличие от Пушкина, готовился к поездке на Кавказ тщательным образом, читал соответствующие книги – «Историю Армении» Моисей Хоренского (Мовсеса Хоренаци), историографа V века[727]727
Некоторые историки относят эту книгу и, соответственно, жизнь ее автора к более позднему периоду (VII–IX вв.).
[Закрыть], «Историю Армении» Фавстоса Бузанда», V век, и книгу Ивана Шопена «Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи» (СПб., 1852). Но главное – у Мандельштама был огромный интерес к армянскому языку, который он начал активно учить до поездки, продолжил в Армении и потом, в Москве, причем, учил он не только современный армянский, но и древнеармянский язык – грабар. «Иногда я просыпаюсь ночью и твержу про себя спряжения по грамматике Марра» (2, 337) – речь идет о книге Н.Я. Марра «Грамматика древнеармянского языка. Этимология» (СПб., 1903), которую Мандельштам раздобыл себе, придя в московский Институт народов Востока, – это описано в черновиках «Путешествия в Армению» и произошло, судя по всему, уже по возвращении Мандельштамов в Москву, а в Армении он мог пользоваться чужим экземпляром; согласно другому мнению, учебником Марра Мандельштам обзавелся еще в 1929 году[728]728
Другое мнение см.: Нерлер П.М. «Путешествие в Армению» и путешествие в Армению Осипа Мандельштама: попытка реконструкции // Знамя. 2015. № 11. С. 125–126.
[Закрыть]. Так или иначе, Мандельштам настолько продвинулся в древнеармянском, что взялся переводить отрывки из «Истории Армении» Фавстоса Бузанда и из «Истории императора Иракла» епископа Себеоса, армянского историка VII века – листы с этими переводами сохранились в его архиве[729]729
См.: Мец А.Г., Ахвердян Г.Р. Заметки о «Путешествии в Армению» О. Мандельштама // Россия и Запад. Сб. статей в честь 70-летия К.М. Азадовского. М., 2011. С. 294–301.
[Закрыть]. Современным армянским языком он занимался усиленно, брал уроки – подробности о них мы знаем из записной книжки с черновиками «Путешествия»; на одну из своих преподавательниц он пожаловался: она «наотрез не понимала таинственности и священной красоты родного языка».
Мандельштам эту красоту понял и глубоко прочувствовал – армянский язык стал одним из главных героев «Путешествия в Армению»:
«Армянский язык – неизнашиваемый – каменные сапоги. Ну конечно, толстостенное слово, прослойки воздуха в полугласных. Но разве все очарованье в этом? Нет! Откуда же тяга? Как объяснить? Осмыслить?
Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и, может даже, на какой-то глубине постыдные.
Был пресный кипяток в жестяном чайнике – и вдруг в него бросили щепоточку чудного черного чая.
Так было у меня с армянским языком».
В языке для Мандельштама соединялись современность и история, именно этим двойным путем он старался войти в армянскую культуру: «Если приму как заслуженное и присносущее [звукоодетость, каменнокровность и твердокаменность, значит, я недаром побывал в Армении] и тень от дуба, и тень от гроба, и твердокаменность членораздельной речи, – как я тогда почувствую современность?
Что мне она? Пучок восклицаний и междометий! А я для нее живу…
Для этого-то я и обратился к изучению древнеармянского языка».
С таким же восхищением, физическим наслаждением он пишет об абхазском языке в главке «Сухуми»: «Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа – здесь каждое слово начинается на “а”. Язык абхазцев мощен и полногласен, но изобилует верхне– и нижнегортанными слитными звуками, затрудняющими произношение; можно сказать, что он вырывается из гортани, заросшей волосами.
Боюсь, еще не родился добрый медведь Балу, который обучит меня, как мальчика Маугли из джунглей Киплинга, прекрасному языку “апсны”, хотя в отдаленном будущем академии для изучения группы кавказских языков рисуются мне разбросанными по всему земному шару».
Он как будто извиняется, что не выучил и абхазский, все это – приметы того, что Мандельштам назвал «чужелюбием» и что составило характерную, может быть, самую яркую особенность его «Путешествия» – радость слияния с новым, открываемым для себя пространством, новым народом, его языком, бытом, нравами, отношением к миру: «Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься. Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей – все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лукавь. Не оттого ли, что я находился в среде народа, прославленного своей кипучей деятельностью и, однако, живущего не по вокзальным и не по учрежденческим, а по солнечным часам, какие я видел на развалинах Зварднодза в образе астрономического колеса или розы, вписанной в камень?»
Мандельштам говорит о значении этого опыта для его самосознания, для отношений с современностью – создавая текст, уже задним числом, он мог оценить, какой возрождающей силой напитало его это путешествие.
У пушкинского рассказчика отношения с открываемым миром строятся совсем иначе, и вопросы языка здесь играют не последнюю роль. В «Путешествии в Арзрум» не раз описаны ситуации непонимания, невозможности объясниться – языковой барьер символизирует более общие, непреодолимые различия мироощущения, нравов, быта, культур. Если автор «Путешествия в Армению» выстраивает сюжет постепенного и все более глубокого врастания в жизнь Армении, то в «Путешествии в Арзрум» рассказчик остается внешним наблюдателем, не сливается с окружающим его миром, не принимает его в себя. Этот мир таит в себе опасность, то и дело угрожает гибелью, в нем бушуют стихии, земля осыпается под ногами на крутых склонах, в нем царствуют война и чума, и на всем протяжении пути человек чувствует себя уязвимым: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» Ощущение опасности поддерживают мифопоэтические образы – ущелья, теснины, жатва, ожидающая серпа и, наконец, самый образ смерти, явившейся к рассказчику в обличии «ужасного нищего», ударившего его по плечу. В конечном итоге чуждое, неласковое жизненное пространство выталкивает путешественника – соприкоснувшись со смертью, он спешно устремляется в обратный путь, на родину.
Мандельштам же, напротив, покинув Армению, мечтает поскорей туда вернуться:
«И я благодарил свою звезду за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу своих лучших лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России; кирпичный колорит москворецких закатов, цвет плиточного чая приводил мне на память красную пыль Араратской долины.
Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде».
Этому соответствуют и различия пространственно-временной организации текста – у Пушкина повествование ограничено сюжетом самого путешествия, у Мандельштама рассказ выходит за пределы кавказской поездки, как в процитированной только что главке «Москва», и снова потом в эти пределы возвращается.
Надежда Яковлевна писала о паломнической идее как глубинной мотивации поездки в Армению: «Стремился он в Армению настойчиво и долго, предпочтя ее даже Грузии, вероятно, как христианский форпост на Востоке»[730]730
Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 301.
[Закрыть]; в другой книге она говорила, что «уже через один Арарат она (Армения – И.С.) связывается с Библией и с праотцами: чем не “младшая сестра земли иудейской”?»[731]731
Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 557.
[Закрыть].
В тексте «Путешествия» эта идея не слишком проявлена, более отчетливо она звучит в стихах, примыкающих к армянскому циклу:
В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет – читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат[732]732
Ср.: «Где степная Армения? Или она самобраная скатерть…?» (Белый Андрей. Армения. Ереван, 1985. С.68).
[Закрыть]
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.
Тема земли обетованной присутствует и в «Канцоне», написанной по приезде в Москву; «Пейзаж в “Канцоне” не армянский, а, скорее, обобщенно-средиземноморский и в значительной степени ландшафт мечты», – пишет Надежда Яковлевна; «<…> В “Канцоне” Мандельштам назвал страну, куда он рвался. Он жаждал встречи с “начальником евреев”. Следовательно, умозрительное путешествие совершается в обетованную страну»[733]733
Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 558.
[Закрыть]. Увидев Армению, Мандельштам узнал в ее ландшафтах Иудею, в которой никогда не бывал.
В предпоследней главке «Путешествия в Армению» говорится об Арарате, о «притяжении горой». Библейские коннотации здесь обнаруживаются лишь в упоминаниях Саваофа и Авраама, но если подключить пушкинский контекст, то можно расслышать диалог двух поэтов через столетие – о горе ковчега. Во второй главе «Путешествия в Арзрум» Пушкин рассказывает о ночевке в Гумрах – этому предшествует долгий проливной дождь, почти потоп, после которого возникает тема ковчега завета: «Казаки разбудили меня на заре. <…> Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. «Что за гора?» – спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни – и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения…»
Все комментаторы единодушны в том, что Пушкин здесь ошибся, ослышался, перепутал: Арарат не виден из Гумр (Гюмри), оттуда видна другая гора – Арагац (тюрк. Алагёз). При этом трудно поверить, что за шесть лет, прошедших от события до текста, он так и не разобрался, так и не понял, что видел другие вершины. Да и вообще – было ли это в реальности? Возможно, Пушкину, как и в других случаях, была важна здесь не правда факта, а сам образ, важно было присутствие Арарата в его личных кавказских впечатлениях. Хорошо известно, что Арарат показывается не всегда и не всем; существует, например, легенда, что Николай I, находясь в Эривани, каждое утро выходил на балкон, но Арарат не открылся ему. Пушкину важно было увидеть Арарат если не физическим, то художественным зрением – без этого путешествие на Кавказ нельзя было считать состоявшимся. Так или иначе, в тексте возникает видение ковчега и слова о «надежде обновления и жизни»[734]734
Подробный анализ этого фрагмента см.: Долинин А.А. Вран – символ казни (Из комментариев к «Путешествию в Арзрум во время похода 1829 года») // CON AMORE. Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой. М., 2010. С. 157–168.
[Закрыть]; это видение рифмуется с финальным «чудным зрелищем» монастыря на Казбеке, которому тоже символически предшествует буря, как и эпизоду с видением Арарата, а дальше, уже в самом конце рассказа, путешественник переправляется через опасную балку и выезжает «из тесного ущелия на раздолие широких равнин». Здесь библейская история неявным образом проецируется на личный путь рассказчика – так завершается внутренний драматический сюжет пушкинского травелога. В путевых записках 1829 года нет ни эпизода с Араратом, ни описания монастыря на Казбеке, это пласт 1835 года, это взгляд автора текста на героя событий[735]735
О глубинном сюжете «Путешествия в Арзрум» см.: Долинин А.А. Кавказские врата. (Дарьяльское ущелье в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года») // Лотмановский сборник. 4. М., 2014. С. 203–218.
[Закрыть].
А Мандельштам – мог ли он не понимать, что Пушкин не увидел Арарата? Он-то сам прекрасно различал эти горы: «В Эривани Алагёз торчал у меня перед глазами, как здрасьте и прощайте. Я видел, как день ото дня подтаивал его снеговой гребень, как в хорошую погоду, особенно по утрам, сухими гренками хрустели его нафабренные кручи». Первая фраза главки «Аштарак» звучит как отклик на недоразумение, как ответ далекому собеседнику: «Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату». Пушкин хотел, но не увидел, мне – удалось. Примерно так же акцентированы и поэтические строки: «…я все-таки увидел / Библейской скатертью богатый Арарат». Кажется, перед нами пример неявного диалога, соотнесения своего опыта с пушкинским – во всяком случае, эти фрагменты аукаются в резонантном пространстве русской литературы.
Горы занимают важное место в образном строе обоих травелогов, отношения рассказчиков с горами выявляют скрытый сюжет – у Пушкина это сюжет напряжения и выбора между горизонталью и вертикалью жизни, у Мандельштама – сюжет притяжения горой: «Я в себе выработал шестое – “араратское” – чувство: чувство притяжения горой. Теперь, куда бы меня ни занесло, оно уже умозрительно и останется». Последние страницы «Путешествия в Армению» и «Путешествия в Арзрум» объединяет восходящее движение: у Пушкина это движение взгляда – рассказчик вдруг увидел чудное зрелище высокогорного монастыря, который, «казалось, плавал в воздухе, несомый облаками», у Мандельштама это физический подъем рассказчика на гору Алагёз – подъем, оказавшийся легким, радостным, обещающим.
В плане биографическом поездка на Кавказ стала переломной для обоих поэтов, для их сознания и судьбы. Для Пушкина, вступившего в зрелость, сбылась «надежда обновления и жизни» – разрешился его душевный кризис, отразившийся в лирике 1828 года, появилась новая широта и свобода взгляда, вскоре за тем последовала беспрецедентно плодотворная Болдинская осень, затем женитьба.
Что касается Мандельштама, то, убегая от столичной литературной жизни, он во время этой поездки вошел в самую сердцевину жизни Армении – это был новый для него опыт «чужелюбия», новый, оживляющий контакт с реальностью, и в результате с ним случилось чудо: после пяти лет поэтического молчания к нему вернулись стихи – вернулись еще во время поездки, в конце сентября 1930 года или чуть раньше[736]736
Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 229–230.
[Закрыть], часть их сложилась в цикл «Армения», часть примыкает к циклу.
В двух его армянских стихотворениях упомянут виноград – как метафора поэзии, и недаром он назван «эрзерумским», то есть пушкинским.
* * *
И Пушкин и Мандельштам хотели видеть свои «Путешествия» изданными в виде книги, т. е. в виде цельного автономного весомого личного высказывания, при том что объем этих текстов невелик («Путешествие в Армению» примерно в два раза меньше «Путешествия в Арзрум»). И у обоих поэтов ничего из этого не вышло – судьбы написанных книг оказались сходны.
О намерении Пушкина издать «Путешествие в Арзрум» отдельной книгой «свидетельствует как внешний вид беловой рукописи “Путешествия”, так и ее состав: “Предисловие” с особым титульным листом и два приложения”…»[737]737
Тынянов Ю.Н. «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» // Путеводитель по Пушкину. СПб., 1997. С. 320.
[Закрыть]. Именно поэтому Пушкин и отдает рукопись «Путешествия» в высочайшую цензуру через Бенкендорфа в апреле 1835 года – «если бы он печатал его в журнале, он бы, вероятно, теперь обращался в обычную цензуру»[738]738
Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986. С. 191.
[Закрыть]. В мае он получил рукопись обратно с пометами императора – с отчеркиванием нескольких мест, которые печатать не дозволяется (эта рукопись не сохранилась).
Однако перед книжным изданием Пушкин поместил «Путешествие» в 1-й том своего «Современника»; на публикацию последовал более чем сдержанный отзыв В.Г. Белинского: «“Путешествие в Арзрум” самого издателя есть одна из тех статей, которые хороши не по своему содержанию, а по имени, которое под ними подписано»[739]739
Белинский В.Г. Несколько слов о «Современнике» // Пушкин в прижизненной критике. 1834–1837. СПб., 2008. С. 146.
[Закрыть], но гораздо хуже был уже приведенный нами отзыв Ф.В. Булгарина, публично намекнувшего на недостаток патриотизма у Пушкина. Впрочем, Булгарин еще до появления текста в печати удивлялся, почему Пушкин не воспел «великие подвиги русских современных героев»[740]740
Булгарин Ф.В. «Евгений Онегин», роман в стихах, глава VII. Сочинение Александра Пушкина // Пушкин в прижизненной критике. 1828–1830. СПб., 2001. С. 232.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































