Текст книги "Две недели в другом городе. Вечер в Византии"
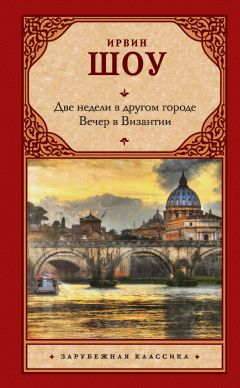
Автор книги: Ирвин Шоу
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц)
Глава 14
Я нахожусь в ярко освещенной, прокуренной комнате. Потом появится другая комната, освещенная не столь ярко, с менее густым дымом, но это случится позже и покажется более страшным. А пока пятеро человек в измятой форме сидят вокруг стола; они курят и играют в карты. В помещении жарко, на закрытых окнах висят плотные шторы затемнения, мы играем в покер. У меня на руках отличные карты, но я все равно проигрываю. Ставки принимаются только наличными. Справа от меня сидит игрок с тремя десятками; он забирает купюры, широко улыбаясь белозубым ртом. Я смотрю на остальных четырех мужчин и внезапно понимаю, что все они – мертвецы. Победитель погибнет на пляже через пару недель; остальные умрут позже от рака, алкоголизма, старости; кто-то покончит с собой. Шелестят фунты, однорукий лифтер приносит очередную бутылку шотландского виски, раздобытую на черном рынке, деньги переходят из одних рук в другие.
Я знаю, что проиграю сегодня сто двадцать фунтов и что весь Лондон утонет в дыму пожаров, которые начнутся после бомбежки. Становится темно; я приближаюсь по сосновой аллее к деревянной хижине. Пахнет сырой глиной, виски, больницей. Сквозь щели в стенах домика наружу пробивается свет. Я спускаюсь по ступеням. Смотрю. Двое рослых лысых мужчин в запачканных белых фартуках что-то делают у стола, оживленно разговаривая. Я вижу – они склонились над телом, лежащим на столе; оно очень бледное; они разрезают его на куски. Люди в фартуках, залитые ярким светом, не обращают на меня внимания. Я хочу убежать, но не могу, потому что я и есть тот человек, который лежит на столе; это меня расчленяют ножом на части. Я пытаюсь закричать, но из моего горла не вырывается ни звука. Я парализован ужасом, потом испытываю внезапное облегчение. Все кончено, с радостью думаю я. Дело сделано. Я умер. Мне уже ничто не грозит. Бояться больше нечего. Звенят похоронные колокольчики. На моем лице выступает холодящая влага…
Перезвон колокольчиков сменяется одним пронзительным звонком, дощатая хижина превратилась в гостиничный номер, роса на лице стала кровью. Джек проснулся. Возле кровати звонил телефон. Он попытался нащупать в темноте выключатель лампы. Нашел его, нажал кнопку; зажегся свет. Джек автоматически посмотрел на часы, стоявшие на туалетном столике. Они показывали половину четвертого. Он поднес руку к лицу. Из носа текла кровь. Джек зажал его платком. Охваченный страхом, предчувствием недобрых вестей, которые способен принести ночной звонок, он снял трубку.
Его вызывал Париж. Через несколько мгновений Джек услышал ясный, бодрый, спокойный голос жены. По тону первых слов, произнесенных Элен, он понял, что плохих новостей можно не опасаться. Джек тотчас испытал раздражение из-за того, что жена разбудила его.
– Я пробовала дозвониться до тебя раньше, но телефонистка сказала, что тебя нет в номере. Тебе передали, что я звонила?
– Это же Италия, – заметил Джек. – Здесь ничего не передают.
Она усмехнулась в тысяче миль от Рима. Женщины могут позволить себе не спать хоть до утра, возмущенно подумал Джек, у них в запасе весь следующий день.
– Что-нибудь случилось? – спросил он и отнял платок от носа. Кровотечение заметно ослабло.
– Нет, – ответила она. – Просто я соскучилась и захотела услышать твой голос. Ты только что вошел?
Ведет разведку, с досадой подумал Джек.
– Нет. Я давно сплю.
– Я звонила в час, и мне сказали…
– Я вернулся в пять минут второго. Тебе требуются письменные подтверждения свидетелей?
– Ну, Джек… – Ее голос прозвучал обиженно. – Ты ведь не сердишься на меня за то, что мне захотелось поговорить с тобой?
– Нет, конечно.
Он мысленно поблагодарил судьбу за то, что отель Вероники оказался до отказа заполнен священниками. Если бы Элен не застала его в номере до утра, ему не удалось бы избежать неприятных объяснений.
– Хорошо проводишь время, cheri? – спросила Элен.
– Великолепно.
– Ты один?
Ее тон заметно похолодел.
– Почему ты об этом спрашиваешь? – Сознание собственной сиюминутной безгрешности придавало его голосу воинственные ноты.
– Ты как-то странно это говоришь. Неестественно.
– Ты угадала, – безразличным тоном произнес Джек. – Я не один. У меня тут пять кубинских музыкантов, мы курим марихуану.
– Я всего лишь задала вопрос, – не теряя достоинства, сказала Элен. – Возмущаться не из-за чего.
– Извини. Я еще не совсем проснулся.
– Ладно, можешь спать дальше. Больше я тебе звонить не стану. Если захочешь, позвонишь мне сам.
– Не говори глупости, дорогая. – Джек старался, чтобы в его голосе звучала нежность, которой он не испытывал. – Звони мне в любое время.
– Как идет работа?
– Нормально. Я ужасен, но на гонораре это не отразится.
– Я уверена, что ты вовсе не ужасен, – возразила Элен.
– Мне тут на месте виднее.
– Тебе плохо, cheri?
«Что сказать ей? – подумал Джек. – Да, мне плохо. Мне снилась смерть, мой нос кровоточит, я не получил сегодня комнату в гостинице, где живет моя любовница». Как бы она отреагировала на это?
– Вовсе нет, – ответил он. – С чего ты взяла?
– Показалось. По тону твоего голоса. Интуиция…
– Нет. Мне хорошо. Правда.
– Как дела у твоего друга? – спросила Элен. – Мистера Делани? Ты разрешил все его проблемы?
– Не совсем. Он еще не поделился со мной всеми своими проблемами.
– Чего он ждет? – с нетерпением в голосе спросила Элен.
– Не знаю. Психологически удобного момента. Подходящей фазы луны. Падения курса акций. Усиления боли. Не беспокойся – когда придет время, он скажет, что его мучит.
– Поторопи его, – попросила Элен. – Я хочу, чтобы ты побыстрее вернулся домой.
Она замолчала, и Джеку показалось, что жена ждет от него каких-то слов. Затем она продолжила:
– Кое-кто еще тоже ждет твоего возвращения. Это Джо Моррисон. Анна говорит, что с каждым днем он все чаще жалуется на твое отсутствие. Когда я спросила ее, существует ли опасность того, что осенью тебя переведут на новое место, она напустила на себя таинственный вид.
– Почему бы вам, мадам, не заняться вашими делами? – суровым тоном произнес Джек. – Это касается только меня и Джо Моррисона.
– Если тебя пошлют куда-нибудь в джунгли, – Элен повысила голос, – это коснется и меня, верно? Или ты собираешься оставить нас на три-четыре года одних в Париже?
– Извини, – устало произнес Джек.
Упоминание о Джо Моррисоне вернуло ощущение скуки и раздражения, которые в течение последних месяцев вызывала у Джека его работа; он рассердился на Элен, напомнившую ему о ней. Сейчас он обрадовался бы, узнав, что никогда больше не увидит Джо Моррисона; сознание своей зависимости от настроения начальника обострило ощущение несвободы, вызвало внутренний протест.
– Я стал излишне раздражительным. Сделай одолжение – когда позвонишь в следующий раз, не говори о Джо Моррисоне.
– А о чем мне говорить? – враждебно спросила она.
– О нашей счастливой семейной жизни, – сказал он упавшим голосом. – О детях. Кстати, как они?
– У них все в порядке. Только Чарли сегодня перепугался.
– Что случилось? – насторожился Джек.
– Днем он решил, что забеременел.
– Что?
– Решил, что он – беременный. Перед ленчем, когда я – сегодня у прислуги выходной – хозяйничала на кухне, он подошел ко мне и спросил, как рождаются дети. Я была занята и обещала ему все рассказать в другой раз. Но Чарли не отставал; в конце концов мне это надоело – всему свое место и время, – и я сказала: «Они вылезают из ушей…»
– Мудрый ответ, – произнес Джек.
– Он отправился в школу, а вернувшись домой, сказал, что плохо себя чувствует, и лег в постель. Через час я зашла к нему и обнаружила, что он держится за ухо. Оказалось, что последние два дня у него болело ухо – во время купания туда попала вода. Чарли заявил мне: «Я знаю, почему у меня болит ухо. У меня будет ребенок!»
Джек не удержался от смеха. Спустя мгновение Элен тоже рассмеялась.
– Надеюсь, ты его успокоила.
– Я пыталась. Рассказала ему всю правду. Но он, кажется, не поверил. Засыпая сегодня, он держался рукой за ухо.
Джек снова засмеялся:
– Скажи ему – я приеду и все растолкую.
– Я бы хотела, чтобы ты сейчас оказался здесь, – нежно сказала Элен.
– Я тоже. Скоро вернусь, дорогая…
– Береги себя, – прошептала она. – Спи подольше. Не скучай… Sois sage[40]40
Будь разумным (фр.).
[Закрыть].
– Поцелуй за меня детей. – Джек медленно опустил трубку.
Звонок, напомнивший ему о ее правах на него, об ответственности и проблемах, расстроил Джека. Элен, в отличие от большинства женщин, не получала удовольствия от конфликтов и воздерживалась от споров по принципиальным вопросам. Проницательная, с развитой интуицией, она не стремилась обострять противоречия, проявляла выдержку и терпение в расчете на то, что время сыграет свою целительную роль. Но сейчас недовольство и упрек, прозвучавшие в ее словах, напомнили ему о сцене, спровоцированной Элен год назад и оставившей след в их душах.
Они обедали с Анной и Джо Моррисон в бистро за театром Сары Бернар. Джо несколько перебрал. Моррисон редко пил, но когда с ним это случалось, он становился громогласным и категоричным в суждениях. Он был высок, худ; издали казалось, что ему лет тридцать пять – сорок, но, подойдя поближе, можно было заметить густую сеточку морщин, которая появляется у человека после пятидесяти.
– Джек, – сказал Джо, склонившись над столом и поигрывая бокалом, – ты для меня – загадка. Анна, подтверди – правда, я всегда говорю тебе, что Джек – это загадка?
– Только когда выпьешь лишнего, – невозмутимо заметила Анна.
– Загадка состоит в следующем – почему такой способный человек, как ты, не стремится сделать карьеру. – Моррисон пристально, почти враждебно уставился на Джека. – Посмотри вокруг – все куда-то несутся, карабкаются наверх; люди вдвое глупее тебя строят планы на десять лет вперед… а ты… – Моррисон покачал головой. – Ты напоминаешь мне бегуна, имеющего огромный резерв скорости, но не считающего нужным его использовать. В чем причина?
– Я делаю все, что нахожу нужным, – миролюбиво ответил Джек.
– Не всегда, – возразил Моррисон. – Или чисто механически.
– По-твоему, я не справляюсь со своими обязанностями?
– Конечно, справляешься. Не хуже других. Возможно, даже лучше всех. Но не так хорошо, как мог бы. Вот что я тебе скажу – ты… – Моррисон поискал слово, – ты как бы отсутствуешь. Находишься где-то далеко. Демонстрируешь великолепную технику владения мячом, не слишком волнуясь о том, удастся ли забить гол.
В молодости Моррисон играл в футбол; выпив, он пользовался спортивной терминологией.
– Порою трудно понять, играешь ли ты на поле или сидишь на трибуне, даже не болея за свою команду. В чем дело, Джек, что с тобой?
– Просто я сдержанный человек. – Джек надеялся, что сухой тон его ответа отобьет у Моррисона охоту обсуждать эту тему.
Он заметил, что Элен еле заметно кивала головой, когда Моррисон говорил, и это тоже не понравилось Джеку.
– Молодежь теперь вся такая. Мы не афишируем наши чувства.
– О господи, – сердито произнес Моррисон и повернулся к Элен: – А что скажешь ты, его жена? Что ты об этом думаешь?
Элен задумчиво посмотрела на Джека. Потом засмеялась:
– Я думаю, Анна права, Джо. Ты слишком много выпил.
– О’кей, о’кей, – покорно произнес Моррисон, откидываясь на спинку стула. – Ты не хочешь говорить об этом. О’кей. Но в один прекрасный день вы вспомните мои слова. Оба.
Вскоре Джек и Элен ушли из ресторана и отправились домой. В автомобиле они напряженно молчали.
Джек лежал в постели, глядя на потолок и размышляя, стоит ему принять снотворное или нет, когда в спальне появилась пришедшая из ванной Элен. Одетая в пижаму, она расчесывала волосы. Джек не посмотрел на жену, даже когда она подошла к кровати и присела на нее, продолжая расчесывать свои короткие темные волосы.
С улицы доносилось непрерывное шуршание автомобильных шин; машины быстро мчались вдоль набережной, шум, издаваемый ими, приглушался закрытыми окнами и шторами.
– Джек, знаешь, а ведь Джо Моррисон прав.
– Насчет чего? – Джек постарался, чтобы его голос прозвучал сонливо, равнодушно.
– Насчет тебя.
В спальне был слышен шорох гребня.
– И не только в отношении работы.
– Ты считаешь? Тогда почему ты не сказала ему о том, что согласна с ним, когда он спросил тебя?
– Ты знаешь, что я никогда бы этого не сделала.
– Знаю.
– Джек. – Элен повернула его голову так, чтобы он смотрел на нее. – Почему ты женился на мне?
– Чтобы освежить в памяти мой французский.
– Джек. – Она коснулась пальцами его лица, на котором оставили свой след бессонница, годы, тревоги. – Не шути. Почему ты женился на мне?
– Посмотри на себя в зеркало. Там найдешь ответ.
Вздохнув, она отняла руку от щеки Джека, прошла к туалетному столику и принялась очищать кожу лица кольдкремом, сидя спиной к мужу. Он задумчиво посмотрел на Элен, обеспокоенный ее вопросом. За семь лет брака Джеку ни разу не доводилось слышать от жены подобных слов. Почему он женился на ней? От одиночества, скуки, нагоняемой на него однообразными, легко предсказуемыми гамбитами, которые неизбежно приходится разыгрывать неженатому мужчине, любящему женщин и общающемуся с ними? Она вызывала у него желание. Это Джек знал точно. Восхищала его. Ее жизненные цели были исключительно реалистичными, здравыми, разумными. Элен была цельной натурой. Хотела любить и быть любимой, хранить верность мужу и требовать того же от него; не испытывала сомнений в истинности счастья, связанного с браком, заботами о муже, детях. К тому же обладала веселым, живым нравом, была приятной в общении, нежной любовницей, с легкостью и невозмутимостью улаживала все бытовые проблемы.
Но если бы в то время, когда он женился на ней, кто-либо спросил его, любит ли он Элен, Джек не смог бы ответить утвердительно, не покривив душой. Возможно, он не смог бы сделать этого и сейчас. Во всяком случае, если бы стал сравнивать свои теперешние чувства с теми, которые он испытывал к Карлотте в первые годы их брака.
Не отходя от туалетного столика и не поворачиваясь к мужу, Элен произнесла:
– Джо сказал, что ты как бы отсутствуешь. И он прав, Джек.
– Я заметил, как ты кивала.
– Извини, но это верно. И когда Джо сказал, что ты находишься где-то далеко, он не ошибся. Иногда мне хочется, чтобы ты не был таким безукоризненно внимательным. Ты словно чувствуешь за собой какую-то вину. Иногда мне кажется, что я шепчу тебе что-то через огромное разделяющее нас поле или толстую стену и ты не слышишь меня.
Джек сомкнул веки, не желая видеть стройную гладкую спину, поднятые прелестные руки, маленькую хорошенькую головку…
– В чем дело, Джек? – тихо спросила она, повторяя слова Джо Моррисона. – Может, причина во мне? Я могу тебе помочь?
Он не открыл глаз. Ее вины тут не было, она ничем не могла ему помочь, поэтому Джек безжалостно произнес:
– Дай мне снотворное, пожалуйста.
– Пошел ты к черту, – вырвалось у нее.
Джек вздохнул, лежа на римской кровати и думая о близких ему людях, надежды которых он не оправдал. В темноте он чувствовал себя лучше. Потянувшись рукой к выключателю лампы, он услышал шаги в коридоре – кто-то приближался к его двери. Джеку показалось, что человек остановился возле нее. Брезач, подумал он и замер в напряжении. Но потом человек зашагал по коридору дальше, и все стихло.
Джек выждал несколько секунд, не выключая лампы. Он заметил лежащий на столе пухлый конверт, оставленный ему Деспьером, и решил утром прежде всего спрятать его в надежное место. Сейчас от сна его уже не осталось и следа; Джеку захотелось почитать, но в номере не было иной книги, кроме томика Катулла; сейчас Катулл не соответствовал его настроению.
Решительным движением он погасил свет. Ему надо было встать без четверти семь с достаточно свежей головой, чтобы хотя бы попытаться выполнять указания Делани при дублировании. Чем бы он ни занимался эти две недели, во что бы ни оказался втянут, будь то любовь, взаимные упреки или убийство, он должен честно отработать пять тысяч долларов. «У меня буржуазное чувство коммерческой честности, – подумал Джек, подтрунивая над собой. – Честность превыше всего».
Он заставил себя закрыть глаза ради Делани. Но никогда Джек не был так далек от сна. Он вспомнил голос Элен, звучавший в трубке, – едва уловимый, ненавязчивый, восхитительный французский акцент придавал английским словам очаровательное своеобразие. Ее голос был совсем не похож на тот, которым произнесли: «Я устала от мужчин, которые спят со мной и говорят мне о том, как сильно они любят своих жен». Лежа в темноте без сна, Джек думал об Элен; она, верно, тоже не спала сейчас в тысяче миль от него, тоже беспокоилась, думала о нем; не без помощи телепатии, присущей всем любящим людям, она, несомненно, догадалась о том, что с ним что-то происходит. Он увидел миниатюрную, прелестную, теплую Элен, она лежала в своей мальчишеской пижаме на кровати, накрутив волосы на бигуди (она всегда занималась своей внешностью в его отсутствие). Связанная с мужем тысячью незримых нитей и уз, она размышляла о нем, одновременно прислушиваясь, не донесется ли шорох из детской. Надежная, умелая, бдительная, Элен находилась в центре семейной паутины, тревожась, защищая, любя, радуясь, молясь о том, чтобы муж вернулся здоровым, невредимым и любящим… Если бы Джек лежал в кровати рядом с ней, он не играл бы в этот страшный покер, не видел бы лысых мужчин в фартуках, занятых зловещим делом.
Джек поднес к носу платок. Кровотечение, похоже, остановилось. Вспомнив свой сон, он подумал: «Как мудро со стороны жен молиться в тягостные часы, что начинаются после полуночи».
Не желая разгадывать значение сна, в котором его бывшие друзья играли в карты, а на столе лежало его собственное тело, Джек заставил себя подумать о сыне, спавшем в эту ночь, подложив руку под тревожащее его ухо. Он улыбнулся; детская ручка отвела смерть в сторону. Джек вспомнил, как однажды зимним вечером, вернувшись с работы, застал сына вытирающимся после ванны. Он поцеловал влажную головку, задумчиво наблюдая за сыном, небрежно прикладывающим полотенце к своему маленькому, но крепкому тельцу. Внезапно мальчик повернулся к отцу; на лице ребенка появилась улыбка заговорщика.
– Папа, – сказал он, коснувшись пальцем кончика своего пениса, и горделиво, отчетливо добавил: – Это я.
В пятилетнем возрасте мы впитываем мудрость из воздуха, мыслители всех веков шепчут нам на ухо откровения.
Лежа без сна в темной комнате, заполненной призраками бывших товарищей по оружию, Джек коснулся себя.
– Это я, – с улыбкой прошептал он, повторяя вслед за сыном магическое мужское заклинание; Джек прогонял силы тьмы с помощью тайной церемонии, изобретенной его сыном, наивным и мудрым одновременно; он пытался избавиться от тягостных, мучительных видений, хлынувших из прошлого.
Но таинство не сработало. Он закрыл глаза, но сон не приходил; Джек уже был во власти воспоминаний, навеянных сном и беседой с Вероникой…
Наша армия тоже понесла кое-какие потери…
Ферма горела. Она была построена из камня, но в ней находилось на удивление много вещей, вспыхнувших после того, как в дом угодил снаряд. Джек спал на полу кухни; взрывной волной его выбросило из комнаты; нога у него была сломана. На голове тлело одеяло. Люди, находившиеся с ним на ферме, куда-то исчезли. Им повезло больше, чем ему. Они растворились в темноте. В сумятице они забыли о нем, а потом приблизиться к зданию было уже невозможно.
Пять часов ушло на то, чтобы доползти до окна. Он многократно терял сознание, ощущал запах собственных обожженных волос и кожи; нога вывернулась окончательно. Он задыхался в дыму. Одно он знал точно: умирать он не хотел. Цепляясь ногтями здоровой руки за доски пола, он добрался до окна; потянувшись, выглянул наружу. Пространство перед домом периодически обстреливали из пулемета, но кто-то заметил его голову, появившуюся в оконной раме, пришел за ним и забрал его. Дальше в памяти был провал: когда его вытаскивали из окна, он снова потерял сознание. Ему кололи морфий; следующие несколько недель он провалялся в полузабытьи, словно окутанный какой-то мутной пеленой; он не понимал, жив он или мертв. Он так и не узнал, кто его спас. Затем – два года в госпиталях, восемнадцать операций. «Эта рука функционировать не будет», – сказал молодой врач. Ему принесли огромный букет цветов, заказанный Карлоттой по телеграфу… Больше она ничего не сделала…
Приди, о Гимен, Гименей, приди!
Свадьба была необычной. Наверно, подобные церемонии случались во всех частях света, но все же присутствующих не покидало ощущение, что было в ней нечто специфически голливудское, что только в Голливуде двести пятьдесят человек могут собраться для того, чтобы отпраздновать заключение союза между бывшими супругами, которые когда-то развелись, вступили в другие браки, затем расстались со своими новыми супругами и снова связали себя брачными узами. В любом ином месте виновники торжества, наверно, отправились бы в какой-нибудь тихий провинциальный городок и зарегистрировались бы (как оказалось, снова не навечно) в присутствии пары свидетелей. Но такой вариант не годился для Голливуда тридцать седьмого года. Среди двух с половиной сотен гостей, приглашенных на свадьбу, были фотографы, журналисты, руководители студий, а также члены съемочных групп двух картин, в которых снимались молодожены. Невеста появилась в роскошном белом платье, подаренном ей костюмерным отделом одной из кинокомпаний.
Свадьбу сыграли в доме Делани. В ту пору он был женат на женщине, которая впоследствии стреляла в него из охотничьего ружья. Красивая, легкомысленная, она оказалась, к счастью, плохим стрелком. Делани, не любивший торжеств, устраивал их, чтобы сохранять мир в семье. Морис провел почти весь вечер в баре за картами.
Отис Кэррингтон, жених с изысканными манерами и глубоким грудным голосом, сидел, улыбаясь, между двумя своими бывшими женами на ступенях широкой, колониального стиля лестницы. Он пил черный кофе из большой чашки, воздерживаясь от алкоголя. Ни разу не взглянув на женщину, на которой он женился днем, Кэррингтон говорил своим прежним супругам: «Мне не нужен психоаналитик. Я сам знаю, что со мной. До тридцати лет я был влюблен в свою сестру. Осознав это, я почувствовал, что могу спиться. Однажды утром, проснувшись в Неаполе, я понял, что мне необходимо полностью отказаться от спиртного. За две недели до этого я отправился на вечеринку в Чикаго. Поднявшись с кровати в Неаполе, я увидел, что нахожусь в шикарном гостиничном номере, заставленном цветами и пустыми бутылками из-под виски. Я не помнил, как пересек океан, как добрался до Дирборнского вокзала».
В трезвом состоянии он был любезен и остроумен. Джек не знал второго человека со столь безукоризненными манерами. Напившись, Отис крушил гостиные, срывал приемы, премьеры, губил браки и многолетнюю дружбу. В последние годы, чувствуя после нескольких месяцев воздержания, что кризис близок, он нанимал могучего санитара, который, сопровождая Кэррингтона повсюду, не позволял ему слишком расходиться. Порой случалось, что санитар не отходил от актера две недели кряду. Кэррингтон принадлежал к той старой, уже тогда вымиравшей породе актеров, которые в жизни вели себя как на сцене. Раскованные, броско одевающиеся, галантные, они отличались непредсказуемостью поведения, тягой к эффектному поступку. В апреле 1917 года, в первый день войны, Кэррингтон вышел из нью-йоркского театра, только что сыграв главную роль в спектакле; он воткнул цветок в петлицу своего дорогого костюма и, помахивая тросточкой, отправился в ближайший вербовочный пункт, где заявил о своем желании вступить в армию. Родившийся в другую эпоху, воспитанный в ином, менее романтическом духе, Джек безмерно восхищался Кэррингтоном, и когда началась его война (это произошло в середине съемок), Делани и агенту Джека пришлось проявить изрядное красноречие, чтобы удержать его от аналогичного поступка.
Однажды на съемочной площадке подошедший к Кэррингтону юный актер попросил его выразить одной фразой секрет их профессии. Кэррингтон изобразил на лице глубокую задумчивость, потер крупный нос и произнес: «Радуйтесь жизни, молодой человек, радуйтесь жизни».
В тот же вечер после свадьбы Кэррингтон рассказывал о том, как они с женой отмечали свое первое бракосочетание.
«Это было еще более грандиозное мероприятие, чем сегодняшнее, – говорил он своим бывшим супругам, отпивая кофе. – Проходя мимо дивана, на котором сидели моя жена и английский граф, с которым я познакомился в Лондоне, я услышал, как она заявляет своему собеседнику: “Конечно, мой дорогой, всем известно, что Кэррингтон – импотент”». – Он добродушно усмехнулся, вспоминая былые празднества.
Джек большую часть вечера провел в спорах. Так получалось, что, приехав в Голливуд двумя месяцами ранее, он почти каждый вечер с кем-то спорил. Темы были разные, но в то время чаще всего в гостиных Беверли-Хиллз говорили о достоинствах и недостатках кинофильмов и о гражданской войне в Испании. «Сделать здесь хороший фильм, – заявил переполненный новыми впечатлениями Джек, снимавшийся в одной из главных ролей, – можно лишь по чистой случайности. Слово правды в кино – редчайшее событие. Нельзя обидеть никого – ни бедных, ни богатых, ни трудяг, ни буржуа, ни евреев, ни аристократов, ни матерей, ни священников, ни политиков, ни бизнесменов, ни англичан, ни немцев, ни турков – ну абсолютно никого. Над воротами каждой студии светится девиз: «ТРУСОСТЬ». Никто не произносит тут ни одного слова правды. Я еще не встретил здесь ни одного человека старше двадцати лет, который не развелся бы по меньшей мере дважды, однако каждый фильм – это поэма, прославляющая постоянство и верность. Все люди, живущие между побережьем Тихого океана и Лос-Анджелесом, тратят столько сил на добывание долларов, что дышать успевают только по субботам, однако если верить создателям фильмов, быть счастливым можно, лишь получая не более двенадцати долларов в неделю. Девяносто процентов людей настолько боятся Гитлера, что он снится им в кошмарах каждую ночь, однако в кинокартинах не найти и намека на опасность, исходящую от него. В баре Ласи о Франко говорят с большей ненавистью, чем в траншеях возле Мадрида, но стоит кому-нибудь заявить о своем намерении снять фильм об этой войне, как тотчас появляется письмо от одного из последователей отца Кофлина, и все планы рушатся. Господи, в этой комнате полно людей, всю жизнь нарушавших законы, лгавших, прелюбодействовавших с чужими женами; все они сейчас богаты, счастливы и пользуются уважением сограждан; они снимают фильмы, в которых преступник всегда наказан, а девушка, переспавшая со своим женихом до свадьбы, умирает или кончает жизнь в бесчестии. Впервые в истории любого из искусств столько средств, таланта, техники было собрано в одном месте ради того, чтобы множить ложь… создавать исключительно дорогую маску… большую счастливую американскую улыбку…»
Стоя посреди комнаты в новом смокинге, сшитом у портного по рекомендации Делани, окруженный красивыми, загорелыми, благоухающими, элегантно одетыми людьми, чьи имена не сходили с газетных полос, Джек радостно разглагольствовал; возбужденный выпитым шампанским, он самоуверенно критиковал законы, не боясь последствий. Он испытывал высокомерное чувство собственного превосходства над этими известными деятелями кино, которые слушали его; кто-то молча соглашался с ним, на чьих-то щеках вспыхивал румянец негодования. Джек сознавал, что они алчны и готовы на все, лишь бы нажить или сохранить состояние; у него же не было ни счета в банке, ни ценных бумаг, ни облигаций, ни недвижимости, ни акций нефтедобывающих компаний; обладая лишь молодостью и талантом, он с пренебрежением относился к богатству. С таким чувством абсолютно здоровый человек проходит по коридорам больницы, где лежат неизлечимо больные, с жадностью поглощающие яды, которые постепенно убивают их. Зная, что новый смокинг великолепно сидит на нем, он продолжал говорить и вдруг заметил среди гостей Карлотту Ли; она наблюдала за ним с еле заметной улыбкой на губах, говорившей о том, что актриса долго оценивала его и наконец сегодня пришла к заключению, которое должно обрадовать Джека. Днем он поцеловал ее – правда, случилось это на съемочной площадке, в присутствии сотни актеров, статистов, рабочих; за время съемок он обменялся с ней всего лишь несколькими фразами, не считая предусмотренных сценарием; однако сегодня он решил, что влюблен в нее, и тайная улыбка Карлотты, мелькнувшая в водовороте торжества, поведала ему о том, что его чувство не осталось безответным.
О таком вечере Джек мечтал давно, еще будучи неуверенным, сомневающимся в себе юношей, и теперь извлекал из него максимальное удовольствие. Здесь царила раскованность; все дискуссии были всего лишь словесными упражнениями; он знал, что скоро подобные приемы наскучат ему, но сегодня Джек наслаждался новой для него обстановкой.
– Послушайте, – сказал человек по фамилии Бернстейн, поставивший десятки фильмов; он слушал Джека, сердито поджав губы. – Вы ведь снимаетесь сейчас у Делани, верно?
– Да. – Джек кивнул в сторону подошедшего к ним Делани.
– Я полагаю, это исключительный случай, – с усмешкой произнес Бернстейн. – Вы-то, конечно, создаете Произведение Искусства.
– Вовсе нет. Это такая же мура, как и все остальное.
Все притихли, потом Делани рассмеялся; спустя мгновение рассмеялись и все остальные, за исключением Бернстейна. Делани похлопал Джека по плечу:
– Парень тут всего два месяца, поэтому его иногда заносит. Скоро он станет терпимее.
– Что вы здесь делаете при таком отношении к Голливуду? – воинственно спросил Бернстейн. – Почему бы вам вместе с прочими коммунистами не отправиться обратно на Бродвей?
– Я намерен разбогатеть здесь, мистер Бернстейн, – поддразнивая собеседника и получая удовольствие от его гнева, ответил Джек. – А потом, через год-другой, куплю ранчо, буду разводить коров и выращивать орхидеи вдали от людских глаз.
– Ранчо, – сказал мистер Бернстейн. – Это нечто новое. Я подожду, когда выйдет ваш фильм, молодой человек. Возможно, вам придется скрыться от людских глаз гораздо раньше, чем вы намереваетесь.
Мистер Бернстейн – оскорбленный, разгневанный патриот волшебной и прекрасной страны, создаваемой ежедневно на съемочных площадках его любимого царства, – медленно отошел в сторону.
– Сколько тебе лет, Джек? – спросил Делани.
– Двадцать два.
– Прекрасный возраст. Сейчас ты можешь так говорить. Но постарайся успеть выговориться. Когда тебе стукнет двадцать три, тебе не простят подобных речей.
Усмехнувшись, невысокий, сильный, мудрый Делани удалился, чтобы разобраться с инцидентом – ему сообщили, что один из гостей, английский поэт, перебрал мятного ликера и стал приставать к дворецкому.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































