Читать книгу "Работа над ошибками. (2.0)"
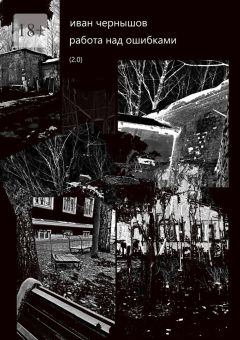
Автор книги: Иван Чернышов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Нас с Голобородькой объединяло чувство культурного протеста, подчеркнуто аполитичного для меня, однако острого в неприятии окружающей культуры – и высокой, и низкой, и средней. Когда Лавров щеголял никому не известными методичками своих столичных коллег, прибавляя, что это «очень известная книга», Голобородько злился. «А вы знаете такого-то, такого-то, такого-то», и это, конечно же, были люди, к которым Лавров набивался в друзья, etc., etc.
Карандашом на обоях был написан мой номер, вот это сравнение с писаниной на обоях, на рулоне, на стене, перебрасывания со складов памяти, слепки сонной памяти… Как работает память? Голограмма, я смотрел научно-популярный фильм, и это вполне логичная теория, недаром тот же Шопенгауэр повторял, что безумным называли не глупого, а человека, который был не в ладах с памятью… Что страшного и грешного быть дураком? Дуракам везде у нас дорога, дураку везде у нас почет. А потерять память страшно. И лучше я был бы Иван-дурак, чем как сейчас – Иван Карамазов.
И память, конечно, не запоминание, а вспоминание: мы фиксируем все, но не можем этого вспомнить. Узнавание виденного – вот это и есть память.
Сказал ли я что-то о внешности Голобородьки? Не помню. Не в этом смысл. Смысл не в рисовании портрета, он и не нужен, смысл в стремлении упорядочить, разъяснить человека, это не художественная работа, а как психическое анатомирование.
Эти заметки – не отчет. О чем? Перед кем? Это попытка спасти память. Нас объединяло чувство культурного протеста, Голобородько был Икаром, Базаровым, революционером духа. Смешно же выглядел революционер без последователей!
Потому что я все-таки был сам по себе, больше наблюдал, дальше отстранялся, держал дистанцию, есть чувство дистанции не только у боксеров, есть чувство такта не только у лакеев, но нам надо меньше аналитики, моя цель сейчас – разрушить дамбу, сдерживающую мои полумысли.
Однажды Голобородько изумил меня, достав из-под стола гармошку. Я тогда был в особенно мрачном расположении духа, Голобородько сказал удвоить дозу лекарств, а пока, чтобы меня приободрить, стал наигрывать на гармошке музыку из игры «Марио», чем и правда меня развеселил, наверное, мы тогда были как Август и Эдеварт Гамсуна.
Однако весело было не всем: вскоре к нам ворвался врач из соседнего кабинета и сказал Голобородьке, что здесь не «Поле чудес».
– Пошел к черту, болван! – не переставая играть, парировал Голобородько.
– Доктор! – пыхтел оппонент. – Шарлатан, а не доктор! Диплом свой у бомжа купил!
– А ты свой вообще на принтере распечатал!
– Утырок!
– Падальщик!
– Гармонист хренов! Клюква!
– Балда!
– Отморозок архангельский!
– Тля болотная тюменская!
– Вошь!
– Гнида!
– Мухомор недосушенный!
– Ябедник косорылый!
– Мымра!
– Трепло!
– Вепрь!
– Жужелица!
– Мойдодыр!
– Валенок!
– Тьфу!
– Против ветра не плюй!
– К черту тебя!
– Да и тебя туда же.
«Это был мой самый долгий разговор с коллегой за последний месяц, – заявил потом Голобородько. – Хотя вот недавно еще главврач сказал, что я «человек-карусель». И это прозвище меня искренне развеселило, я вышел с сеанса в прекрасном расположении духа: хотелось работу искать и горы сворачивать.
Человек-карусель! Да, а главврач-то их, Щеглов Василий Анатольевич, очень любил коньяк, от пациентов дареный. Он любил коньяк, от пациентов дареный, выпивать на работе. И дома тоже любил коньяк, от пациентов дареный, выпивать господин главврач Щеглов Василий Анатольевич. Это ведь я тоже от Голобородьки узнал: зашел он к нему как-то по вопросу по какому-то, а главврач из горлышка прямо коньячку глотнул и крякает. Голобородько тогда уселся за стол, подложив под себя ноги, и спросил:
– Конину, так сказать, изволите?
– Изволю, а тебе какое дело? – опешил от такой фамильярности главврач.
Но Голобородько потом кое-как отшутился, а главврач успокоился, решив, что Голобородько – просто чудной, ну и прикрепил к нему прозвище «человек-карусель», которое так развеселило меня на сеансе.
Однако все веселье как будто испарилось на пути домой, я увидел «Газель» с рекламой «СВИНИНА ПОЛУТУШИ ДОСТАВКА», а затем, почти сразу же, «Газель» ритуальных услуг с рекламой «ДОСТАВКА ТЕЛА В МОРГ», и как-то мгновенно погрустнел. Все же раньше не припомню такой прямоты. Полутуши, полумысли, доставка в морг, там и там доставка, чему быть, тому не миновать, кто-то станет жалеть, это умер неудачник, не нашел работу, все так недоуменно уставятся: «Как это работу найти не можешь?», да не в том дело, я работать не хочу, я голодаю, долго я думал, что, если стану жить один, просто потихоньку отравлю себя прописанными таблетками, в течение пары недель, чтобы кумуляция сработала и смерть наступила без лишних мучений, вероятно, так, с расчетом, действовал Акутагава, видимо, используя точно ту же тактику и точно те же лекарства, что отложил для себя я, поступил Ник Дрейк, и такую возможность я оставляю для себя – нет, видимо, я не вылечился, не могу сконцентрироваться на одной теме, одном герое, который как бы в центре, а я не должен уделять столько текста себе, но какая, к черту, разница, о чем начинали, нет даже разницы, чем закончим – в конечном счете, одним и тем же, важен, получается, процесс, вон их там погубит автоматическое письмо – зажрались они, если их автоматическое письмо губит, меня вот бедность губит, а не автоматическое письмо.
Розанов с голоду умер… Какая, в общем-то, разница. Полутуши. Конечно, я корил себя, что безработный, занимался творчеством, корил себя, что и это недостаточно прилежно. Бедность связывала мне руки, я не искал общения, вернее, даже избегал его, почти сразу же после школы оборвал любые контакты с одноклассниками, почти сразу же после института оборвал все контакты с одногруппниками, затем исчез мой врач Голобородько, и у меня не осталось уже в этом городе никого знакомого, да нет, не от бедности, просто нелюдимость какая-то.
White on white, translucent black capes. За месяц до того, как Голобородько исчез, это было само яркое происшествие незадолго до его исчезновения, мы пошли на рыбалку. Ну, как на рыбалку, это была рыбалка в понимании Голобородьки. Я до этого на рыбалке не был ни разу. Ну, мы встретились на остановке – я, Голобородько и (это было для меня неприятной неожиданностью) еще один Голобородькин пациент, которого я знал в лицо, встречал иногда в коридоре, но не знал по имени. Это был ненец, оказалось, его звали Антон, он был младше меня, ниже, какой-то очень скрытный, у них были удочки, ведро и, словом, все снаряжение, стульчики раскладные, мы доехали на автобусе до моста (поездка проходила молча и настолько уныло, что Голобородько, желая нас развеселить, стал рисовать пальцами на окне животных: нарисовал собачку, кошечку, коровку, козлика, курочку, гусика, ослика и лошадку; они получились очень маленькие и непонятные, но Дмитрий Викторович их различал), Голобородько какими-то непонятными тропами провел нас к тихому месту у речки, совсем почти дикому, мы расселись, Дмитрий Викторович и Антон стали приготовлять снасти, я молчал, потом они стали рыбачить, я молчал, Голобородько говорил театральным шепотом, опять выделывался, развлекал нас, ненец отвечал неохотно, он никогда не говорил «Нет», он всегда говорил «Не-ка», это почти сразу начало меня бесить, но я молчал. Вскоре метрах в двадцати уселся еще какой-то парень, стал рыбачить, Голобородьке неожиданно везло, он выловил в этой луже несколько рыб, причем две были вполне немаленькие, и он поменялся рыбой с соседом, отдал ему больших, а себе взял маленькие, объяснил, что они нужны в качестве наживки на большую, но большую так и не поймали, так и ушли почти без улова, а что поймал, Голобородько все ненцу отдал – прямо с ведром, ненец сказал «Пасибо», одет он был бедненько, торопился уехать. Потом Голобородько пиво пил на остановке и, вопреки моим возражениям, пересказывал историю ненцевой болезни, тот выдумал, будто у него проблемы с ассимиляцией, он, мол, не знает, кем ему себя чувствовать, россиянином или гордым северным жителем, ему ни то, ни это не казалось родным, он был весьма зациклен на старорусском прозвище ненцев «самоеды» и, по словам Голобородьки, действительно поедал себя с потрохами, фиксируясь на незначительных проблемах. Пытаясь отбить у Антона охоту рассуждать подобным образом, Голобородько на одном их сеансе нацепил какой-то таинственный амулет (купленный в «эзотерическом» магазине несколько лет назад, когда Голобородько еще не был знаком с Алиной Юрьевной и куда ходил подбивать клинья к продавщице, у которой была эклектика вместо картины мира), стал жечь пихтовые ароматические палочки и одновременно пищать что-то нечленораздельное, но ничего не добился – разве что опять этот нервный врач из соседнего кабинета пришел ругаться. А ненцу что? Ему хоть кол на голове теши, не знает вот, кто он, а определяться надо срочно и совершенно однозначно. «Какая разница, кто вы, если вы все равно умрете? Будьте человеком», – сказал тогда Голобородько ненцу. «Я не умру, я, может быть, еще не умру», – неожиданно воспротивился ненец.
И после этого объяснения я понял, зачем нужна была эта рыбалка, почему Голобородько отдавал большую рыбу, а оставлял маленькую, «Да, так и надо жить», – подумал я тогда. Нелепая цель – жить продуктивно, ловить большую рыбу, Дэвид, ты попробуй маленькую рыбку сначала поймай.
А ненец, похоже, умный парень. Но как это он надеется, что не умрет? Я же знаю, что умру, что умру неизбежно и что с этим ничего нельзя сделать, ну так и все же умирают, поэтому я, чтобы хоть посмертно ощутить единение с отвергавшим меня при жизни обществом, хотел бы себе такой могильный камень:

Про россиянина тоже мысль интересная.
В самом деле, я тоже не чувствую себя россиянином, кто себя чувствует россиянином? Губер петушком поет, выслуживается, нет, мол, безработицы, вот это россиянин. А я, который в безработице этой ежедневно плещется, это не россиянин. Я признаюсь, что не знаю народа, но ведь он, народ, – абстракция: то ли он есть, а то ли и каждый русский русскому иностранец. Народ всякий бывает, чего им гордиться, чего перед ним заискивать – да и оторваться-то тоже нельзя, только ханжество будет голимое. Так и сосуществуешь в какой-то полуизоляции, и не знаешь народа, и знать не хочется, но демонстративно не дистанцируешься – наш народ ведь, наш. Прямо как… тут я еще не придумал аналогию, но при этом я очень люблю Россию, не в народе и в малой родине, а как огромную, цивилизационную оригинальность, даже биполярность: не такие мы, мол, как они, своим путем идем. Куда уж – а это никого и не касается, ведь идем же, не падаем, потом в другую сторону пойти можем. Это у них там линейное или поступательное что-то – э-э! Экая скука!
На другой день сказал о россиянине Голобородьке, тот перевел на Лаврова. «Вот Лавров, – сказал. – Вот он россиянин». Стал описывать мерзкую бороденку Лаврова, Голобородько ходил не только на встречи с поэтами, но и на дешевые концерты в филармонию, на церковный хор ходил, наткнулся там на Лаврова, и Лавров сделал вид, что не узнал Голобородьку, ну, Голобородько напомнил.
«Семинаристы там на сцене, у них лица маньяков, – вспоминал он. – „Россия, воспряни“ пели. Никуда не воспрянем, пока таким, как Лавров, свои дневники публиковать не только разрешают, поощряют даже». Потом Голобородько проклял Лаврова за публикацию дневника, пожелал, чтобы черт его побрал, чтобы черт каждую ночь по душу Лаврова приходил, а десять детей (или сколько там он наплодил) вокруг него стояли и от черта защищали. «В антракте, – продолжал Голобородько, – с какой-то дамой афиши читали, по-английски он еле читает, прочитал „Swan Lake“ как „Сван Лак“, а когда дама его поправила, нахохлился весь и сказал, что с ним такое бывает, все-таки он знает двенадцать языков, и один другому правильно читать мешает». После этого Голобородько открыл окно и нецензурно в него выругался, весь красный от негодования.
С тех пор ничего и не запомнилось, вскоре он исчез, это, правда, было странно, обычно он звонил мне, когда сеанс переносился, или, я помню, один раз я пришел, а на двери была приклеена скотчем умилительная записка «Пациентики! Из-за форс-мажоров сеансы переносятся на четверг. Ваш любимый Д. В. Голобородько». В общем, он пропал, не оставив весточки, и я только надеюсь, что с ним все хорошо, и Д. В. Голобородько обязательно найдется, что это окажется еще одним чудачеством, что он решил пешком пройтись до Кургана или до Екатеринбурга в какое-то паломничество, скажем, к Уралмашу. Не знаю, я надеюсь, что все обойдется.
Больше ничего я припомнить не могу, но сейчас, дописав последнюю историю, я как-то истощился и увидел, что цель не достигнута. Я думал, что вот, в своих текстах – и в тех, что я хотел писать, и в тех, что надо было писать, – я как-то выражу тот вопль, но никому, кто видел, по-настоящему не нравилось: тяжело читать, жестковато написано. Да, я всегда сознательно пытался обкорнать язык, лишить его всяких красивостей, потому что мой язык – это язык боли, зуда, может быть, какого-то аллергического, грубоватый, шершавый, как у кота, язык. В книжном попалось как-то удивительное заглавие «Демонтаж красноречия», и я подумал: «Да, ведь я всю жизнь этим и занимался», и книгу не купил. Поймите, эти слова выливались из раскаленного свинца, наполнившего мою голову, я не собирался никого развлекать, если это и выходило по ходу, это не было ни целью, ни задачей. Это вы должны были спасти меня, а не я вас, ведь это я упал в пропасть, заглядевшись, а не вы.
Я и не пишу, а только отправляю шифровки, Штирлиц, ждущий трамвая, Соколов и Ерофеев, почти не читал в страхе, что у них все то же, но гораздо раньше. Ни к чему записывать сны, они стали слишком рациональны. Почему я взялся за четвертую «книгу», отправив три в стол? Потому что травмирующая первопричина не устранена, нельзя вот так удалить законы природы, я знал когда-то девушку, она стала асексуалкой, пропустив через свой мозг слишком много соционики, Фрейда и психологии из пабликов, это была деградация, за которой было больно наблюдать, она отвергла бы всякую помощь, Голобородько не смог бы ей помочь, еще бы, в пабликах-то лучше знают, а эти воспоминания Ремизова о революции, вероятно, правдивые, но не особо ценные: а я такого-то во сне видел и такого-то во сне видел, это всё известные люди, вот я в каких кругах вращался – а ты нет; конфликт автора и рассказчика начался в «Мертвых душах», Голобородько не любил Гоголя, а я вдруг его, Гоголя, понял, со школы не перечитывая, потому что нет произведения, а есть только автор, ты не читаешь книгу, а наблюдаешь (наверное, лениво), как я ложкой вычерпываю воду из потока мыслей, как Ремизов, а не как Толстой, который пытался поймать воду огромным неводом.
Только в таком предельном напряжении ты дойдешь до инсайта, потому что мы вряд ли дойдем до катарсиса, давайте дойдем, докуда получится, давайте остановимся хотя бы здесь.
The Cub
1
Браки, может быть, и правда заключаются на небесах, а вот семьи уж точно слепляются сами собой. Об одной такой семье я и расскажу.
Слепилась она у моего коллеги Игоря Витальевича, человека эрудированного и с автомобилем.
Что о нем сказать? Да… Aut bene, aut nihil, конечно, но мне никогда не нравилась его прическа: у моей тети Оли такая же. За руку Витальевич здоровался вяло, это очень раздражало, как и его оценивающий взгляд: мол, что это за фрукта ко мне подвели? Насколько он хуже меня? (Хотя я сам иногда так думал, смотреть на людей подобным образом я себе не позволял.) Ходили удивительные слухи, мол, Игорь Витальевич уж так умен, так остроумен, его цитировали, хотя это были весьма смешные в своей глупости мысли; меж тем, их ценили, Игоря Витальевича за эти мысли хвалили и ласкали, так сказать, общим вниманием, пока я находился где-то в углу. А вот, говорили мне, если я что-то мимоходом высмеивал, Игорь Витальевич мудрее тебя, старше, опытнее, ему все видится лучше… Да бросьте, я его не оскорбляю.
Там-там-та-там… Игорь Витальевич был меломан, это тоже известно, но я и тут недоумевал: он ведь слушал такое отвратительное… как бы сказать… музыкальное сопровождение, переоцененное, с налетом какого-нибудь вычурного протеста против, скажем, угнетения рабочих в Танзании где-нибудь, деланного, фальшивого, вот в чем соль – Игорь Витальевич слушал фальшивки и при этом смел их советовать другим.
Какое мне было дело? А я фальшь очень трепетно чувствую потому что. «Трепетно» – неправильное слово? Допустим, допустим. Я не очень подхожу на роль рассказчика, на самом деле.
Говорю быстро… Мне так и сказали: это ваш личностный недостаток. Да я ведь знаю, знаю – и ничего не могу с собой поделать, я тороплюсь, тороплюсь жить, и у меня всему есть объяснение: и привычке частить при разговоре, и повторам, и словечкам каким-то… Меня ведь улица воспитывала (мама на работе была) (говоря «улица», я хочу сказать «гопники»: при мне отнимались телефоны, происходили драки… Так вот мой характер и сложился.)
Семья Игоря (к чему отчества? Игоря) слеплялась постепенно: сначала он, так сказать, прилепился к Маргарите Андреевне, женщине оч-чень властной и опасной, рисовавшей себе брови так, что взгляд у нее был все время удивленный; она красила волосы, чтобы скрыть седину, потому что старая уже была, за пятьдесят (Игорю еще пятидесяти не было), в общем, это была какая-то квадратная, мерзкая, капризная баба. Такие капризные бабы остро сознают свою никчемность и пытаются изо всех сил принизить других, потому что возвыситься самим путем обучения на (собственных, весьма многочисленных) ошибках у них не получается, вернее, они и не собирались: они хоть и пустые, но не глупые, однако для них невозможно признать свое поражение, свою неправоту, они никогда не аргументируют, они, скорее, заткнут себе (а если получится, то и тебе) глаза и уши, вереща «Нет, нет, нет!», либо уткнутся головой в песок, а потом где-нибудь как-нибудь тихонечко подгадят, не дадут чему-то хода, знать будут, но не сделают, будут удерживать у себя какую-то информацию до последнего… А ведь такие (и только такие!) бабы удручающе часто занимают руководящие должности, не понимая, что власть их, как и все в жизни, – явление временное, что время их вскоре пододвинет так, будто их тут никогда и не было… Они совершенно не разбираются в людях, всегда заводят любимчиков, руководствуются исключительно симпатиями, первым впечатлением, не умея отличить, кто умен, а кто – не очень (а может, и умеют, да только умных-то им в подчинении не надо – страшно), более того – они не отличат порядочного от мошенника; они жестоко обманываются – но жизнь их ничему не учит! – и (до поры, до времени) они сидят на месте и р у к о в о д я т.
– Остерегайтесь, – мне сказали. – Маргариты Андреевны. Она вас уничтожит.
– Не на такого напала, это я ее первый, так сказать, уничтожу, – ответил я. – Ведь это что же делается, это же хуже Пугачихи, да и щеночка, щеночка-то жалко!
Щеночек-то был… Но обо всем постепенно.
Игорь к ней, значит, прилепился, а у той два сына, один – уже взрослый, а второй, хотя всего на год помладше, еще подросток. И как-то Игорь к ней перебрался-переехал, когда старший сын (Саня) стал жить отдельно. Да и до этого частенько Игорь у Андреевны бывал, сидел на кухне, кофе с солью пил, разговоры говорил – и все больше с детьми, с детьми. Старший-то (Саня) – себе на уме парень, а младший (Степа) … с младшим у них возник антагонизм. Невзлюбили они друг друга, ревновал, поди, маму-то к Игорю, ну и придумал ему прозвище Козлик. Козликом с этих пор я и буду его именовать, ибо идет ему это прозвище, как Джеймс Бонду бабочка. Ревновал маму к Козлику, говорил, поди, Сане, что ревнует, а тот ему:
– О т д а й Игорю маму.
– Тебе ее не жалко!
– Думая о женщине, не надо ее жалеть, тебе достаточно о ней только заботиться.
– Какая-то бессмыслица.
– Сказал теоретик.
Он был очень, очень, ужасно тяжелый человек, Степа-то! Среди его ровесников я никого такого тяжелого не видел. Однако при всей своей тяжести он лихо выдумывал прозвища, не только прозвище Козлик, но и еще одно, тоже очень меткое. Дал он его своему одногруппнику, своему, между прочим, единственному другу, и прозвище это было Cub. Cub подружился со Степой из-за какой-то общей страсти к порядку, у Степы уже просто патологической, а у Cub’a еще только формирующейся: Cub любил всех поправлять, все по десять раз уточнять и переделывать (ладно бы был перфекционист, а то в результате все равно получалось абы как, сколько ни переделывай) … Подружился и стал частенько к Степе ходить, тоже вот так прилепившись к семье, получилась-то семья, значит, из Андреевны, Козлика, Степана и Cub’a.
А прозвище-то дал тоже из-за некоего соперничества за маму: Cub был мальчик смазливый, и, ничего не сделав, он сразу завоевал симпатии Андреевны, она ходила с ним по магазинам, навьючивала его сумками и пакетами, они вместе, вдвоем, чай пили по вечерам, с бергамотом чай пили и каркаде, и до часу ночи бывало… Э, чего там! Cub очень долго не осознавал, что именно происходит – пока не произошло ничего, он и не осознавал – но Степа ревновал и Козлик ревновал тоже.
Когда мы со Степаном разговаривали, намного позже, он описал эту ситуацию фразой «Alle gegen alle», а когда я попросил его дать характеристику своему другу, тот пробормотал:
– Он такой… ему надо… Jeder Herzschlag kontrollieren.
– Что вы сказали? – не расслышал я.
– Все контролировать ему нужно.
– А-а. Ну вы бы и изъяснялись по-русски сразу. А про Козлика что скажете?
– Он рисуется. Ему надо… Я по-нерусски опять скажу: make a right impression.
– Для чего?
– А нет цели. Он мне как-то раз сказал: «Причинность – категория суженного сознания», а я ему: «Откуда вы это цитируете?», а он: «Забыл. Фрейдистское что-то».
В общем, ревновали оба, и Степан, и Козлик, становясь при этом союзниками: они как бы параллельно хотели изгнать конкурента из дома, потому что Cub мог уже запросто приходить к Андреевне, а не к Степану, даже и не спрашивая Степана-то, в конце концов уже почти и не общаясь с ним, а только в универе по учебе да на кухне, где они трое по полчаса ждали Андреевну из ванной, и в этих вынужденных беседах были весьма интеллигентные, надо заметить, попытки затравить Cub’a – впрочем, оно всегда так, когда есть трое, то двум непременно надо травить третьего (вы, молодой человек с ранцем, думаете, я это говорю потому, что сам был третьим, травимым, ан нет, я-то был всегда вторым, поддакивающим, и еще неизвестно, я вам говорю, что хуже-то).
В тот день (все гнусности частенько, еще с классицизма, происходят в один день) Степан еще с утра предчувствовал, что что-то пойдет не так, но хорошо, конечно, постфактум-то говорить: а я ожидал, я это предвидел – да не видел ты ничего! А если видел, но не сделал, то это еще хуже, это уже за недонесение считается, то есть как бы и преступление как будто. А в народе, наоборот, донесение считается недопустимым – и правильно, ведь доносить, конечно, подло, в том смысле, что идти куда-то и доносить, ну, специально… А так уж если ляпнешь что-то где неаккуратно, так ведь это и не донос, и ты не подлец, а дурак разве что, за это можно и в морду получить (но не больше двух ударов) и поделом, пожалуй. А специально ходить и доносить – на это только мрази способны, да.
В общем, слепившееся семейство имело некие черты нечеловеческие, неестественные, искусственные – каждому члену семейства я подобрал аналогию в мире игрушек: Андреевна была матрешкой (полая в голове потому что), Степан был роботом из железного конструктора, Козлик был Петрушкой тряпичным, таким потрепанным, а Cub был солдатиком-заготовкой из набора – бесцветным, которого в какой цвет раскрасишь, таким он и будет: раскрась в зеленый – будет нашим, раскрасишь в серый – фашистом будет. Так что, будь у нас все эти игрушки, собрались бы мы с вами, затопили бы печку, и я бы вам в лицах все действие представил, передвигая солдатика за Cub’a, матрешку за Андреевну и т. д., да только не соберемся мы с вами никогда, не станет меня никто слушать, так и сгину я в безвестности и холоде, так и останется печка нетопленая, не затопить ее больше, не осталось ни дров, ни опилок, ни щепок никаких, ни лучин, а ведь все было когда-то, не у меня, конечно, у меня и сроду печки-то не было, какая печка в городе, в квартире, а там, у Шмелева, например, печка была наверняка, и он ее бросил, оставил, пришлось ему бросить, бежал он от чертей окаянных, от извергов, от пьяных матросов, крестьянок насиловавших и коров резавших и столько народу перестрелявших, перемучивших в подвалах. Бежал же? Было же такое?
Но, простите мое кощунство, если бы его сына не убили, то, может быть, и не вырвался бы у него такой вопль? Вот отчаяние в чем: личная трагедия у всякого порядочного человека должна вылиться в мировую скорбь. Почитаешь – и на кухню станет горестно идти воды налить, и до кухни путь для меня как via dolorosa будет, поневоле, как Шмелев, закричишь от ужаса перед чужой смертью, перед смертью вообще. Я человек впечатлительный, да, и, как видите, сбивчивый.
Эх, я думал, вы меня поймете, но сейчас наталкиваюсь на непонимание, я неверно оценил дистанцию, и – воистину! – как много невзгод выпадает нам из-за того, что мы неверно оцениваем расстояние до объектов! То, что казалось нам таким близким и уже практически осязаемым, недвижно отталкивается от нас, отходит, словно отшатнувшись, по мере нашего приближения – так видны объекты в зеркалах заднего вида, так отдалились от меня уличные фонари, когда я шел в их сторону сегодня, думая, что они совсем рядом; так и отношения наши с приятелями, с людьми, в сущности, полузнакомыми, кажутся нам более близкими, чем они есть на самом деле, даже чем они когда-либо были, даже в моменты самого искреннего взаимопонимания мы разделены экраном, непреодолимой пропастью между одним и другим – и мы обманываемся, доверившись ложному притяжению.
Давайте зайдем с другой стороны, выберем другую точку отсчета. Cub в то утро первым делом зафиксировал время подъема (6.02), только гимн по радио, за которое еще отдельно платить надо, отзвучал – зафиксировал и умываться пошел.
И все-то он, знаете, фиксировал, одни цифры в тетрадке фиксировал, она у изголовья (в головах) у него лежала, и такая (я потом рассматривал) нелепица, а вместе с тем и притягательно, соблазнительно даже как-то, и я подумал: а что, если документировать каждую выпитую чашку кофе?
Если бы так делал изначально, это был бы уже список с пятизначными числами, толстые тетради, было бы что вспомнить в старости. Спросят меня: «Ну, что ты в жизни делал?», а я отвечу: «Кофе пил» (не пиво!). И тетрадки предъявлю. Типа:
18421. Двойной эспрессо в макдаке, 67 р., 0,1 л, интересная стопочка, великолепно-крепко, шел потом по улице, валил снег, а я был бодрый и радостный – 06.10.2015.
Впрочем, на это бы не хватало времени, и лучше вспомнить историю моих взаимоотношений с кофе. Кофе пить я начал довольно рано, уже в 11 лет не мог без кофе, а уж в универе, кажется, меня никто без стаканчика кофе не представлял, даже продавщица в буфете о моем сердце беспокоилась. Обычно, в последние дни, дома, когда я неохотно возился с придавившей меня бумажкой, я тоже в шесть утра просыпался, но не умывался, а шел заваривать кофеек в дареном френч-прессе, отмеривая воду граненым стаканом; часов в 10—11 пил чашку растворимого, после 13—14, если я, обезумев от духоты и умственного напряжения (ума-то немного, потому и напрягаюсь), шел гулять, то брал в торговом центре кофе из автомата, я знал в своем районе и в центре все автоматы и где какие цены, безо всяких бумажек, а у Cub’a, поди, это было бы тоже в тетрадке записано… А если оставался дома, то еще растворимого пил, а к вечеру еще мог дареного кофе с марципанами стакан сделать, так потребление и происходило, вспомнилось почему-то, по-монтеневски как-то вышло, ну и ладно.
Итак, вы передохнули (я не сказал «передохли», не перевирайте!), и мы можем продолжать.
Выходя в то утро из дома, Cub надел… как думаете, что? Да почему панталоны, кто пошутил так неудачно? Фуражку, фуражку надел, представляете!
Мне кажется, он один по городу в фуражке ходил, даже у милицанеров сейчас бейсболки. И где он эту фуражку-то достал, уж наверняка в интернете заказывал. Козлик пошутил про эту фуражку, что она bdsm-овская.
– Да, фуражка-то у вас bdsm-овская, молодой человек, – сказал он.
Степан усмехнулся, а Cub недовольно повел бровями: не знал, что это буквосочетание обозначает.
А кроме фуражки у Cub’a еще на зиму шапочка с помпоном была, да Андреевна купила ему цветной шарфик, и он его носил.
Тогда, значит, четверг был, и Cub в универ сначала поехал, это, может быть, лишние подробности, но раз уж мы воссоздаем всю картину, то это, может быть, не лишние подробности, может быть, это надо. Поехал в универ на автобусе, сидел и читал замызганный томик Бориса Васильева без обложки.
Потом с телефона сообщения в соцсети проверять стал, зашел, а там он на аккаунте Андреевны залогинен, они пароли друг у друга знали и с аккаунтов друг друга запросто сидели – понимаете, на каком уровне у них уже все? А Андреевне-то тоже нужен, нужен аккаунт этот, а для чего? А тоже, потом вскрылось-то, она переписку какую-то с детьми вела, что-то до того странное и пожилой даме не идущее, а хотя, впрочем, у нее и клип-кейс в виде Спанчбоба был, неудивительно, что она ВКонтакте в Купидона престарелого играла, как бы подталкивая молодежь друг к другу, в чем ей смысл был, непонятно, но заводила же знакомства какие-то, чуть ли и свидания от их имени не назначала, ну вот нравилось ей быть сводней для несовершеннолетних, искала она для этих Лолит мальчишек поблагонадежнее и думала, что делает дело правильное и прекрасное.
А как считаете вы?
• Если вы солидарны с Андреевной, отправьте
SMS со словом «НАЙС» на номер 4444.
• Если вы осуждаете Андреевну, отправьте SMS
со словом «МРАЗЬ» на номер 4444.
Стоимость SMS – 26,79 рублей + НДС. Оплата осуществляется Абонентом в соответствии с условиями оферты, размещенной на сайте www.andreevna-vote.ru Услуга предоставляется на территории Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Таджикистан. Голосуя, вы подтверждаете, что вам уже исполнилось 18 лет (21 год для жителей Республики Казахстан).
Я предоставляю возможность решать вам, ведь дело-то такое, оценочное, а мои оценки и размышления вам не шибко-то нужны, поэтому вернемся к теме. В университете Cub отсидел все три пары, семь раз шикал на девочек-болтушек, мешавших ему слушать преподавателя, перекинулся во время перерывов пятью длинными презрительными взглядами со Степаном, которому с Камчатки было куда удобнее такие взгляды метать, а на парах больше молчал и грыз маленький карандашик, которым он почему-то привык писать вместо ручки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































