Текст книги "Работа над ошибками. (2.0)"
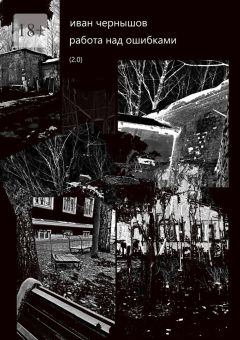
Автор книги: Иван Чернышов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
«Ящик №3 (правый)
ИНВ. №001. Файл с Договором технич. обслуживания (заменяли материнку) от 11.10.2015, состояние: мятый.
ИНВ. №002. Гарантийный талон на неустановленный прибор, дата размыта, между 2000 и 2010, состояние: очень плохое.
ИНВ. №003. Приступая к работе. Microsoft Windows 98. Второе издание. 134 с. состояние: хорошее.
ИНВ. №004. Краткое руководство по установке системной платы для Pentium 4. Состояние: плохое.
ИНВ. №005. Конверт без опознавательных знаков, содержит денежные знаки на сумму 30 (тридцать) тысяч рублей 00 копеек пятитысячными купюрами, отложено на: черный день…
Вот, вот, полезли прерывать! Чего не дослушали?
Но хоть теперь-то вам ясно, каков этот Cub? Тогда давайте вернемся на кухню, наши друзья там (снова плавно) перешли на искусство, Козлик посетовал, что у Cub’а нет никакого идеала.
– Не замечали вы вот какую вещь: у нас крайне мало мировоззрений. Я бы даже сказал, удивительно мало! А это значит, что мало идеалов, – строил логическую цепочку Козлик.
– Так идеален только Пушкин. Лучше Пушкина уже никому не сделать, – сказал Cub.
– Народ-то после Пушкина не перестал стихи писать, – ответил Игорь.
– Но лучше Пушкина никто не написал, – упрямился Cub.
– Да почему Пушкин? Его же просто на знамя подняли… вот мы только что про Ленина… «Верной дорогой идете, товарищи»… Народ же массовитый, ему и сделали икону.
– Но настоящие-то в церкви иконы, они все одинаковые абсолютно, – Cub уже не мог угомониться.
– Да почему? На одних там… как бы… Иисус изображен, на других – Богоматерь, святые, – улыбался Козлик. – Просто одно дело – иконы, а другое – картины. Так и художники все разные, а священники все формально одинаковые, потому что в рясах.
– Рясу может и актер надеть, – огрызнулся Cub. – Как мы узнаем, актер это или настоящий священник?
– Можно я расскажу вам о Леонардо? – радостно предложил Козлик (Степан тоже тихо развеселился от Cub’овой категоричности).
– Угу.
– Как вы знаете, Леонардо изобразил на своей картине Мадонну с горностаем…
– Угу.
– Не с кошечкой-собачкой, как сделали бы сейчас, а с горностаем.
– Угу, угу.
– Ну-у-у, вот и все, вот и делайте выводы, – Козлику хотелось в этот момент закричать: «Что, сделал я тебя, сопляк?», но он сдержался, только ухмыльнулся и залпом отпил полчашки сладкого кофейку.
– А я читал, что это Дюрер стал первым рисовать животных. До него никто животных не рисовал, – вынул сведения «из ящичка» Cub.
В общем, мне это пересказывать неинтересно, я в живописи не знаток, я люблю попроще… Вот моя любимая картина – это Шишкин, «Мишка на севере». Что вы сказали, мужчина в бежевой жилетке? «Не надо ваших дурацких ремарок»? Ну хорошо, пожалуйста.
– Ну-у, ра-а-аз вы чита-а-али, – растягивал гласные Самохвалов, – значит, это правда написана, до Дюрера не было никаких горностаев, его Леонардо для смеху досочинил.
– Нет, он не мог. Творец не может быть лжецом, – возразил Cub, уже сердившийся, что его-таки втянули в разговор. – Он высказывает разнообразные истины.
Ну, а теперь как? Теперь вы скажете, будто творец не может не быть лжецом! И, скажете, нет истины никакой! И, скажете, не надо выводить из этого, что нужно во всем сомневаться – не во всем, не во всем, это разные вещи, это вопрос не веры, а знания: можно что-то знать и не сомневаться. «А что можно знать?», – я спрошу. «А вот, – вы ответите. – Что истины нет никакой».
Нет, как сложно балансировать на грани трюизма! Поэтому медведь на моноцикле столь забавен, поэтому он стал непременным атрибутом русскости в западном восприятии. Знаете, что сейчас, кстати, на Западе (и у нас вслед за ними), за литературу выдают? А сторителлинг: автор обычно за свой счет или за счет своей организации под старость выпускает сборник историй из жизни, которые он пересказал, маленько приукрасив. А вот он там зека одного знал. А вот он там, это самое, в больнице лежал. Во-о-от. Еще из чего рассказик состряпать? А разгадка в другом: литература чихать хотела на твою жизнь! Чтобы заниматься литературой, а не сторителлингом, ты должен жить в литературе, а не в жизни. Я сам – литература, а не жизнь, ведь жизнь – это, по-вашему, когда за столом спорят не о Достоевском, а о том, кому бежать за «Клинским». Ну… вот и сбегайте пока.
7
– Мужчина, сколько время? – мне цыганки на улице встретились.
– Около двенадцати.
– Мужчина, мужчина! Тебе удача будет.
На самом деле, завернув за угол и посмотрев точное время, я увидел, что уже 12:17, но удачу с тех пор жду – может, и придет когда-нибудь.
Это все к тому, что точность во времени, раз уж мы с вами условились, позволит вам самим сейчас все рассчитать, а наиболее смекалистые из вас уже поди все рассчитали, закрыли приложение «Калькулятор» и довольно улыбаются – им я шлю, как в анекдоте, пламенный привет.
– Вы можете представить бесконечность? – спросил Cub’a Козлик. В ответ на это Cub принялся пальцем рисовать на столе знак бесконечности, но Игорь стряхнул его руку со стола. – Это не то. А я буквами напишу, – тут он тоже стал водить пальцем по столу. – Бес-ко-не-чность. Или вот Степаша напишет: ин-фи-ни-ти… или… как по-немецки будет?
– Unendlichkeit, – отозвался Степан.
– Да, или ун-эн… язык сломаешь.
Cub и Степан впервые за всю беседу переглянулись: Cub не знал немецкого, но слушал то же, что и Степа, и звучание языка Ницше и фирмы «Фольксваген» ему нравилось.
– Ладно, я объясню вам на примере, – допил кофеек Козлик. – Допустим, вы со Степаном – со-сто-яяяятельные римляне. Ну такие вот. И у вас на двоих один раб. Как вы будете его делить?
«По четным – по нечетным», – подумал Степан.
– А скифы же выкалывали рабам глаза, – выцепил еще сведений Cub.
И тут Степан «перегорел»: он встал и молча ударил Cub’a кулаком в челюсть с такой силой, что тот упал с табуретки (ну, упал-то, вернее, не от силы удара, а от его неожиданности).
– Не высокоумь! – выпалил Игорь и громко расхохотался.
Cub свалился на пол под батарею, неловко, как мешок картошки, даже табуретка в ногах запуталась, когда он встать попытался.
– Иди умойся, – закуривая, посоветовал Cub’у Козлик.
– Молчите! – Cub испугался не на шутку. – Степа, давай успокоимся, давай послушаем музыку?
Степан стоял все это время совершенно неподвижно, его мышцы были напряжены; казалось, что вот, еще секунда, и все его тело сведет одна судорога – исключительно от ненависти – но вдруг оцепенение прошло, и Степан принялся, опустившись на одно колено, как-то очень ритмично бить кулаками Cub’а, а тот почти и не сопротивлялся, только легонько брыкался ногами и все плотнее впечатывался в батарею. Только примерно после седьмого удара Самохвалов спохватился, выплюнул электронную сигарету, подбежал, схватил Степана за плечи и оттащил его, уже по-прежнему апатичного, в комнату.
– Я вовсе не это имел в виду, – прошипел Козлик. – Когда мы с тобой договаривались.
– Я с тобой ни о чем не договаривался, – спокойно ответил Степан.
Раздались резкие, быстрые звонки в дверь, Игорь решил, что это Андреевна вернулась (а она так и звонила), побежал открывать, но оказалось, что это были соседи – да вы уже сами догадались, что затопят они соседей, экая дура Андреевна: пошла к соседке, а воду не выключила. И главное, этот случай ничему, ничему ее не научил!
Вам рассказывать, что там дальше было? Да-а, трудно было нашим джентльменам доказать, что не слышали они воду. Никто и не поверил им, что заболтались. И вы, молодой человек с ранцем, мне не верите, что возможно такое… что ж… если вас пустили сюда с ранцем, то я даже и не знаю, что вам отвечать, вас ни потоп, ни пожар не разжалобит… Да я и не хотел никого разжалобить, я только пересказал вам, что случилось в тот вечер, дальнейшие комментарии и tutti quanti вам покажутся избыточными, это как анекдот обрывать перед последней фразой: «А, знаю» – ну раз знаешь, то зачем я тогда вообще начинал?
Тем же, кого мой пересказ не вполне удовлетворил, я хочу зачитать нижеследующее приложение… Что вы, женщина толстая, там шептались, пока я говорил, это самое… «Кто его пригласил?» – меня никто не приглашал, я из долга пришел. Поминки – не день рождения, сюда не приглашают. Я спустя столько лет хотел о Витальевиче правду сказать, так уж лучше на поминках, при всех… И я благодарен, что меня слушали в основном терпеливо… и-и-и… стыдно сказать… я у покойника одну вещь стащил, собирался вернуть… Она в приложении, тут в файлах все… А вы что, вдовушка, удивляетесь, он вам о прежней жизни не рассказывал? Ну конечно, взял-то себе лет на двадцать пять моложе… И тут за Достоевским хотел повторить… Значит, не рассказывал, какую он жизнь вел до того, как нашел у вас тихую гавань? Мужчина, вы что, меня бить идете? Подождите, vade retro! А записная книжка гражданина Самохвалова, он ее на работе оставил, а я стащил, вам она не нужна? И Самохвалова ведь тоже били, прочтите! Не хотите? Вдове пока налейте. Что говорите? Что зря я приставлял к вискам эти замечательные маленькие батоны, когда говорил «Козлик» и изображал этими батонами козликовы рожки? Да ну… кто сейчас черта помянул? Ну мы же на поминках… да… я, пожалуй, в него не то что верю… а даже в нем не сомневаюсь. Вот вы, в углу стола женщина, четки перебираете, весь, так сказать, банкет промолчали… Поднимите голову, посмотрите, я не страшный, я, кажется, красивый. Вы знаете, что четки-то у вас не наши? Наши – с крестиком и не блестят вульгарно. Да уверен, вы знаете, и даже нарочно у вас отрешенность такая – мнения не высказываем, в своей жизни мы, дескать, сами для себя объект, а не субъект, спокойствие такое… Тьфу! И не надоело вам наряжаться в чужие тряпки? Да, я поэтому пришел в футболке цвета хаки, правильно, это Юдашкина дизайн. Я в бескрайней и прекрасной стране нашей мечтал найти свой дом – и до сих пор ищу, ведь лучше уж искать и не найти свой дом, чем найти и поселиться в чужом.
Тупая история, говорите, молодой человек с ранцем? А что вы хотели – «провинциальное отупение»! Кто про мою мать посмел сказать плохо? Вы, толстая дама? Да чтоб вы знали, какая она была труженица, да она всю жизнь в КБ имени Ушинского… Э, да чего там, вы можете не уважать меня, вон мужик в сером сказал, что я шепелявлю – да в каком месте? – вы можете не уважать меня, но я себя уважать не перестану. Вот вам мое credo. Да. Это мне-то «выметаться вон»? Хорошо. Чай только допью. А, бог с ним… какой-то он у вас… это что, «Принцесса Нури», что ли? Терпеть не могу… Ладно. Крепкого вам всем здоровья. Я ушел.
Работа над ошибками
Пришло время править и переправлять, пришло время работы над ошибками! Довольно, хватит нам уже топтаться по граблям и растекаться водой – до чего, знали бы вы, тут можно дойти!
Нужно безжалостно вычеркивать, нужно себя перестраивать, бетоном нужно сделаться – не водой! С женщинами я как пенобетон – а я просто как бетон – а Веселовский был просто как пена дней – и до чего, знали бы вы, тут можно дойти!
Я боюсь, я поглощен сейчас страхом: со мной, со мной могло случиться то же самое! Мы в разных направлениях пошли, хотя изначально нас подталкивала общая – чуть ли не на все наше поколение общая – фрустрация.
Поэтому моя задача – реконструировать его мышление. Возможно, вам это будет бесполезно, но если вы читаете для пользы, вы достойны презрения, инструментальное чтение – брак по расчету, ведь всякое письмо, которое, конечно, настоящее, – это психическое переживание, это эпифания, друзья, минутка, секунда озарения, если не кувшин, то кувшинчик.
Да, реконструируя, я рискую наврать. Что с того? Все до меня врали, а я-то и навру по-своему, свежее!
Веселовский, Веселовский… Я раньше думал, что у него говорящая фамилия. Делал забавный жест рукой, когда его фамилию слышал. Я был неправ. Я ошибаюсь в людях. Людей в них вижу.
Как я тогда говорил дяде Паше:
– Фамилии, я вам скажу, человека всегда характеризуют. Это мое житейское наблюдение, а если философским языком говорить, то это буквализм. Вот, скажем, Добронравов. Посмотрите на него – сразу видно: доброго нрава. Или Задорнов – посмотрите, какой задорный.
– А если перед нами, например, Юсупов? – дядя Паша парировал.
– Тогда не знаю. Юсупов – не говорящая фамилия.
Стоп, ладно, не себя я собирался реконструировать, а Веселовского.
Вообще, я к реконструкциям относился всегда с насмешкой. Московский френд из соцсети вдохновенно расписывал, как они вьетнамскую кампанию (какой-то ее эпизод) реконструировали, вьетнамский учили.
– И не лень же вам? – таков был мой ответ.
– Не лень, – ответил френд обидчиво.
И потом общение на несколько лет прекратилось. Серьезно, я не шучу.
Ох, до чего же трудно начинать! Допустим, я Веселовский. Он тоже себя перестраивал. Да ведь потому что жить тяжело! И я был раньше другим. Прежде я жил совсем иначе. Слишком многое оставил позади себя, слишком многих людей оттолкнул. Шел, не оборачивался. Правильно сделал?
Я вас спрашиваю, правильно я сделал? Ах, ох, диалог! Какой диалог? Я говорю с самим собой!
Психологи пишут, нельзя себя изменить. Неправду пишут. Вот и Веселовский: пожертвовав социализацией, не преуспев в жизни, он обрел свободу от и то самое внутреннее безразличие. Я тоже однажды шел по улице и понял: теперь я готов умирать. Может быть, я совсем не готов к жизни, но уж к смерти-то я подготовился!
Сижу, как с чемоданами, как на дорожку присел. Э-эх!
Чтобы отучиться от тревог, надо жить в настоящем, застревать в нем, как бетон, либо растворяться в нем до состояния воды. Помню, Веселовский как-то пил из горла минералку – не с похмелья, от жажды! – пил, пил и все не мог напиться; мне хотелось бы стать Зелигом, а ему – Протеем, водой, хотя биологи скажут, что люди в любом случае – практически вода, но ему было мало этих процентов – сколько там, они еще спорят, – ему было нужно всё.
Мы и друзьями-то стали случайно. До этого среди друзей моих был только одногруппник, дружба с которым закончилась дракой, да вот и все; прежний товарищ мой сейчас занимается каким-то неблагодарным детективно-краеведческим делом, собирает справки об одном местном чудаке, практически юродивом, который куда-то бесследно пропал больше года назад, может быть, хочет на основе материалов послать эссе на конкурс, но, зная его нрав, есть основания полагать, что он, скорее, хочет угодить матери юродивого (сам юродивый, наверное, давно где-то умер), понятно, что она намного старше… Это, конечно, противно, а еще противнее то, что расследование ведется в таком наукообразном стиле, imitatio scientisti. Никогда мне не понять этого, для меня испуг перед истиной дороже самой истины, для меня реставрация смысла дороже самого смысла.
А с Веселовским мы стали общаться позднее, он был соседом дяди Паши, однажды запустил меня в подъезд, так совпало, я к дяде Паше пришел за соленьями, меня мама вечно как курьера посылает (вы смотрели фильм «Курьер», а то его очень хвалят?), и Веселовский тоже в подъезд заходил, а я музыку слушал и собирался закрыть приложение, раз уж я уже пришел, а он подглядел на экране моего телефона название песни, спросил, и мы разговорились. Они жили в соседних квартирах, Веселовский был старше меня на полтора года, дядю Пашу хорошо знал – почему я всех теряю?
Да и с кем ни заведу знакомство – тотчас в персонажа превращаю.
Видимо, так было предначертано, amor fati, amor fati. «Tis my fate, I suppose. Он стал стоиком – он превратился в стакан воды.
А стоик, Альбер Камю написал, это представитель рабской морали. Ну, может быть. Веселовский ведь был несчастлив и в личной жизни тоже. Девушка его, Лиза, – инфантильная, до помешательства самовлюбленная, дошла в своей свободе до того, что принялась изменять Веселовскому с другим большим ребенком, Сашей, который сам своей девушке изменял с Лизой – а ведь все от безответственности! Если я не хочу нести ответственность за свою жизнь, ответственность метафизическую, то пусть я тоже инфантилен, но и инфантилен я тогда метафизически, а у них что? У них – простая разнузданность.
И я все знал, я и стал, mea culpa, наушником-наушничком, рассказал Веселовскому про измены, ведь – мир тесен – с Лизой я в одной группе учился, у студенток же треть разговоров ниже пояса, а еще треть – просто хвастовство парнями, неотесанностью их, поступками какими-то, делишками, успехишком, конечно, мы блекло выглядели на их фоне (нас двое парней в группе было): у тех – успехишко, они там во всем профи, у второго парня из группы – школьные знаньица, а я – вообще какой-то экзистенциальный Дон Кихот, пусть бы им такая формулировка в голову никогда не пришла, а Дон Кихот же, Фауст, Альбер Камю, Макс Штирнер, Максим Горький, черная этика, белая сенсорика, логик, интроверт, рационал.
Веселовский слушал меня слишком серьезно, тогда-то я и задумался, что у него не говорящая фамилия, я тогда был в разговоре с дядей Пашей неправ: в Веселовском инфантильности не было никакой – ни физической, ни метафизической (когда это слово пишу, так и представляю, как Проханов губы облизывает).
А дяде Паше в этот раз снова Ельцин приснился. В теннис предлагал прямо в квартире играть. Одет был соответствующе: напульсники, тенниска, шортики, на лбу повязка от пота. Нынче дядя Паша был посмелее – попривык уже к Ельцину-то – и сказал, что патриотичнее играть в хоккей.
– Какой тебе хоккей? Поскользнешься нафиг, – оборвал дядю Пашу Ельцин.
И пока мой дорогой дядюшка собирался возразить чего-то, Ельцин уже подачу за подачей отправлял, уже дяде Паше стекло в шифоньере разбил нечаянно ракеткой, а в жизни-то уже давно шифоньер этот был на улицу выброшен и новой стеночкой заменен, пахучей какой-то, клеи там что-то какие-то некачественные, дешевое же оно все…
А утром они вместе с Веселовским на улицу выходили, герой нашей реконструкции был подавлен и проронил, что он неудачник, а дядя Паша был не в духе после ночной куролесицы с Ельциным и потому подтвердил:
– Если у тебя душонка неудачника, твоим мечтам уж точно никогда не сбыться.
Тут Веселовский расстроился: еще бы, самому себя принижать можно и даже считается признаком интеллигентности, а когда тебе другие то же самое подтверждают, как-то, знаете, неприятно становится.
– Как же я узнаю, какая у меня душонка? Где найти такое душевное зеркало?
– Другие люди – вот тебе зеркало. Как другие о тебе думают, то, значит, ты такой и есть, – сказал дядя Паша, нервничая оттого, что не мог закрыть тамбур (замок заедал уж очень часто).
– Для других я всегда буду дурачок, – заметил Веселовский, задумчиво глядя на мучения дяди Паши.
– Значит, ты и правда дурачок, – замок больно щелкнул дядю Пашу по большому пальцу.
– Да почему же я дурачок? – запротестовал Веселовский и сделал к дяде Паше шажок, хотя мог уже спокойно затеряться в укромном чреве лифта. – Если про меня только слухи распускают из-за того, что мы с Лизой не расписываемся и детей не заводим.
– Так заведите – перестанут распускать, – дядя Паша управился с замком и подошел к лифту, сердясь, что рефлексирующий сосед не задержал его, а теперь его кто-то уже вызвал.
– И я перестану быть неудачником, и мои мечты тогда сбудутся? – как-то неожиданно по-доброму спросил рефлексирующий сосед, и ему захотелось положить руку дяде Паше на плечо.
– Ну конечно. Даже еще до рождения ребенка, а как им объявите, что Лиза от тебя забеременела, – лифт снова приехал, и дядя Паша уже в нем поместился.
– Так ведь это не мои мечты, а ихние, – заметил Веселовский, заходя в лифт и нажимая кнопку первого этажа.
– И что? Им лучше знать, раз их много, а ты в меньшинстве.
Ельцин-то, кстати сказать, дяде Паше уже давно снился. В первый-то раз еще в дверь позвонил, а потом уже т а к заходил, даже без стука, а в первый раз эдак совершенно по-простому в дверь звонит, это я, говорит, дядя Паша ему открывает, Ельцин с пакетом, на кухню проходят, рюмочки достают, у Ельцина в пакете лук лежит зеленый, достают, расположились, Ельцин ножку на ножку закинул, рюмку за рюмкой опрокидывает, а дядя Паша перед ним стесняется, скатерку все время поправляет нервически.
– Что же это у вас, – Ельцин вдруг спрашивает. – Мухи везде летают?
– Антисанитария, Борис Николаич.
– Ан-ти-сни-та-ри-я – в голова-а-а-ах! – отвечает Борис Николаич.
Чокаются, выпивают, у Ельцина щеки надутые.
– А может, я вам, Борис Николаич, – порывается дядя Паша холодильник открыть – там сало лежит.
– Сиди – не надо, – Ельцин отвечает.
Молчат с минутку, дядя Паша себе руки на коленки положил.
– Кириенко, – жалуется Борис Николаич. – Меня подвел.
– Да это когда ж было!
– Не могу забыть! Не могу ему простить!
– Стерпится – слюбится, – отчего-то невпопад говорит дядя Паша.
– Я же им верил, – Борис Николаевич сетует.
– И они вас подвели!
– Подвели!
– Подвели.
– Понимаешь.
И почему он выбрал именно дядю Пашу посещать? Ведь мой ненаглядный дядюшка всегда слыл за человека очень практичного, и я пытался у него практичности научиться. И вот нет же – навязался этот Ельцин сниться, спасу нет. Ох уж эти ghosts from the past – у каждого такие есть, и щемит ведь у меня в сердце, когда я вспоминаю мое болезненное прошлое, точнее, период с 14 до 16 лет, особенно болезненный, когда я мог не пойти в школу, а до обеда лежать на спине и смотреть на закрытую дверь балкона, слушать музыку и пить кофе, пока давление не доползет до нормы, а потом мог пойти гулять, азартно пытаясь отыскать в ларьках редкий диск себе в коллекцию, и часто видел брата с друзьями, возвращавшихся из школы; друзья смеялись надо мной, а брат их всегда перебивал фразой «но ведь парень болеет!», хотя я и сам, пожалуй, в такие моменты был на стороне насмешников, думая, что у меня стыд один сплошной только, а не болезнь, что надо физкультурой заниматься, спортом, а то девочки любить не будут, и мое счастливое утреннее настроение сминалось, меня депрессировала любая мелочь, в моей жизни было так мало покоя, одиночества, что в сумме едва ли набежали сутки. И я вечерами, и тогда, и значительно позже, накачивался антидепрессантами (знал аптеки, где продадут без рецепта) до такого состояния, что вообще не понимал, что происходит. Однажды признался брату, что, возможно, покончу с собой. Тот спокойно сказал: «Да выйди ночью из дому, возьми веревку, нацепи на турник – никто не спасет». Какая наивность! Как бы я ночью из дому вышел незамеченным, когда я всегда будто под колпаком? А он: «Ну, если ты сдохнуть хочешь». А в том-то и дело – хочу ли? Слишком это сложный вопрос – о хотении. Мне, пожалуй, был бы более ясен смысл хотения, если бы у меня что-то было, но поскольку у меня ничего нет, то и хотение для меня – нечто довольно туманное. А про антидепрессанты еще с одногруппником беседовал, когда мы дружили. Он тоже принимал, правда, дозы такие и так они на его девственный мозг влияли, что я… я только усмехаться мог. Это детский лепет был по сравнению со мной – хотя чем гордиться? Эти эмоции, когда тебе плевать, что происходит вокруг, пусть мир закончится, пусть квартира сгорит, пусть начнется война – а не все ли равно? А когда просыпаешься, чувствуешь нечто вроде похмелья, тебе ничего не нужно, тебе тяжело, но ты как будто правильнее стал смотреть на мир, ты не ценишь ничего в нем, ничто не насыщает тебя по-настоящему.
В такие дни я тоже любил гулять, выходил из дому и бродил по району бесцельно, по одним и тем же дворам, ссутулившись, мне ничего не хотелось, выходя из дома, белизна снега била по глазам, силуэты людей били, хруст снега бил по ушам, звуки машин били – именно так я воспринимал жизнь, а рассказал вам потому, что обнаружил у Веселовского прямо на столе чек на транквилизаторы, еще позавидовал, что он дешево купил, и даже захотел украсть один блистер при возможности, представил уже, как он блестит, я почему-то вороватый, мне хочется и десять копеек на улице поднять (а если на сдачу дадут – не возьму), и если книги кто выбросит, домой притащить… Вот, вот почему Веселовский был такой спокойный: ну конечно, не мог же он не догадываться про измены – та и не скрывала почти, да ведь и я не мог не сказать, меня будто черт подталкивал. Хотелось бы почаще на черта вину спихивать, да только мой черт ветреный какой-то. Вот бы мой черт был серьезный, опекал, помогал – так ведь нет же: все, чего он в последнее время хочет, – это «кутить, кутить, кутить!».
Да на что кутить-то, черт? Совсем денег нет, уже живот от голода болит (и почки от таблеток)! Нету здесь работы, нет у меня ни одного знакомого, дядя Паша предлагал кое-что, но я отказался, ибо его кое-что весьма криминальное было, халтурка по браконьерству, дядя Паша очень лихо браконьерил, начал еще, когда в деревне жил; сидел даже (правда, за другое – ДТП со смертельным исходом), у него и ружье имелось.
Вышел на волю – и в первый же визит говорит моей маме: «А свобода вульгарна. Ну ее, эту свободу». Он в тюрьме прочитал книги Ницше и Достоевского (и откуда первый-то в тюремной библиотеке взялся), причем о последнем сказал, что очень уж тот некрасив внешне. Я эти напутствия тогда вполне понял, тогда мы и стали больше общаться, но на его предложение нарушить законы Российской Федерации ответил категоричным отказом, хотя идею сверхчеловека (вернее, человекобога) вполне переварил.
Воистину – нет греха, кроме гордыни, ибо прочие грехи – от слабости. Дядя Паша как-то угощал нас с Веселовским чифирем, и мне привиделся сон наяву, будто меня задержали, а причину не сообщают – прямо сюжет из Кафки (о чем я сразу же как бы во сне закричал). Держат меня то ли в психушке какой-то, то ли в школе-интернате, причем оттуда можно более-менее свободно выходить, как у Набокова в фанфике. И одна стервозная женщина там всем заправляет и может глаза закрыть на мой проступок (я за собой решительно никакой вины не чувствовал), а на эту женщину, в свою очередь, имеет влияние моя мать, которая не торопится ситуацию разруливать, я кричу, что нельзя держать человека больше 48 часов, не предъявляя обвинений, а какая-то стража отвечает, что предъявлять обвинения надо при аресте, а меня не арестовали, а только задержали. Я искренне уверен, что правда на моей стороне, но умолкаю, боюсь электрошокера. Родители дают мне две тысячи рублей (зачем они мне тут?), потом приходит бабушка и просит показать ей самые красивые станции метро. Мы выходим, оказывается, мы в Москве, у нас карты «Тройка», мы катаемся на метро, а потом будто уже я один еду в кабриолете шестидесятых годов, приезжаю на нем в Аргентину, меня встречает местная девушка с маникюром цвета вареной колбасы, она тоже не торопится мне помогать, говорит, у нее мать – пастор, тут же появляется мой знакомый из Москвы, мы идем в церковь, расположенную на втором этаже двухэтажного дома, женщина-пастор сидя читает проповедь, я прошу Бога уберечь меня от тюрьмы, мне очень страшно, уже глаза на мокром месте – и до тошноты стыдно: а вдруг товарищ увидит? Врывается дочь пасторши с подругами, кричат о чем-то бытовом, проповедь прерывается, я выхожу из дома и попадаю на базар, где по-английски радостно беседую с продавцом хлама, у него много наших юбилейных монет, предлагает поменяться – за одну русскую монету даст две английских, я на эти же монеты покупаю себе черную футболку и термокружку с какой-то смешной английской надписью, понимаю, что обманываю торговца, но тот улыбается и внезапно подмигивает, и тут-то происходит осознание сновидения: не задерживал никто меня, ужасно хочется (и не получается!) успокоиться, я зарекаюсь впредь участвовать в чаепитиях дяди Паши и выхожу во двор прогуляться.
Потом брат моей матушки, смеясь, вспоминал, что я с открытыми глазами залип на пятнадцать минут, а вот мне ни разу было не смешно. Кстати, чаепития у него такие частенько бывали. Чифирь он называл Ароматом Ивановичем. Я реконструирую, что дядя Паша разговаривал с ним, что получался в итоге квартет из дяди Паши, Ельцина, ружья и Аромата Иваныча. Аромат Иваныч (наверное) был кем-то вроде дворецкого, ружье было молчаливым радикалом, а Ельцин и дядя Паша были Ельцин и дядя Паша.
– Добрый вечер, добрый вечер, – разливал чифирок Аромат Иваныч.
– Здравствуй, здравствуй, – так же, с повторами, отвечал дядя Паша, пока Ельцин себе сушки на пальцы надевал – на каждый палец по сушке – и потом грыз, роняя крошки.
– Борис Николаевич! – обращался Аромат. – А зачем в каждом отделении Сбербанка бадминтон и бассейн?
– Устают! – с набитым ртом отвечал Борис Николаевич, а дядя Паша на них глядел и умилялся.
После чифиря, правда, уже ближе к вечеру, я зашел к Веселовскому выпросить, ну или притырить все-таки его транквилизатор, мне открыла Лиза, она дома как в универе ходит, очки эти на пол-лица, губы накрашены, помада аж почти кусками, может, только домой зашла, говорит, что они живут неправильно. «А как надо жить правильно?» – Веселовский ей. Она что-то стала говорить идеализированное, я, извиняясь, на кухню проскочил – будто бы воды попить, у них там фильтр-кувшинчик стоит, я его типа не заметил, открыл кран – и повезло же, подфартило, будто знал откуда-то, что таблетки на кухне – а не в комнате и не в ванной – в коробке из-под печенья этого датского сухого невкусного полупустой блистер лежал, я его сразу по форме узнал, сунул в карман, собираюсь уходить, и тут не то чтобы прям сразу, как по закону Мерфи, Веселовский стоит – но как-то быстро он появился, так что я до сих пор не знаю, застукал он меня за воровством или нет, однако он ничего не сказал: Кролик был слишком воспитанный. Даже и не на меня смотрел, а на то, как вода из-под крана хлестала, позади него Лиза в черных следках, он на воду смотрит, мы на него. Эх, если бы я не взял тогда его таблетки, может, иначе бы все вывернулось, но ведь мы уже теперь этого не узнаем, потому я особенно-то и не переживаю, так разве только, когда уснуть не могу.
А Лиза все равно больше меня виновата. Как школьники, блин, они с Сашей холодного «Казанову» на улице пили в соседнем дворе, там качелька моя любимая была, и тут я заметил, что Сашу стошнило, а Лиза от него отстранилась маленько, говорит:
«Не стошнило, не стошнило, все хорошо, мы никому не скажем» – кому она говорить собралась-то?
А вдруг вижу, я уже к ним подошел, мог бы себя оправдать, конечно, сказать, что это неосознанно как-то получилось, но не уверен, что так оно и было, может, я назло даже не подошел, а подбежал к ним с вопросом будто торжествующим таким:
– Что случилось, Саша? Вырвало?
Пошли мы в квартиру, где Лиза с Веселовским жили, Саша почему-то ослабел ужасно, так что я чуть ли не поддерживал его. Потом он отошел, лежал на кровати ихней, на алькове этом самом, и на книги Веселовского пялился: «Эту я читал, у меня точно такая же книга есть».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































