Текст книги "Дневник школьника уездного города N"
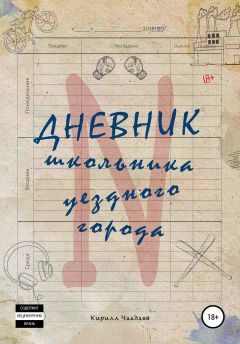
Автор книги: Кирилл Чаадаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
– Да что ты несешь… – выдавил я из себя.
Авдей закрыл лицо руками. Плечи дернулись – замерли, дернулись – снова замерли, и затем мелко задрожали. Я понял, что он плачет. А потом, будто издалека, нарастающим ревом донесся какой-то вой. Это кричал Игорь. Мутными глазами он таращился перед собой, разведя руки в стороны, и орал своим грубым голосом, с надрывом и редкими всхлипами. Я отвернулся.
Когда они более-менее успокоились, я, ни к кому конкретно не обращаясь, спросил:
– Что будем делать?
Мой вопрос повис в пустоте. На него никто не ответил ни тогда, ни потом. Наверное, около часа или двух мы пребывали в оцепенении, пока пришедшая с работы мать Авдея не спугнула нас. Мы так и не смогли ничего обсудить.
Разговор с отцом Тараса, который случился до нашего собрания или после – не знаю – происходил у подъезда. Сначала во дворе появился черный мерседес. Мы втроем, словно завороженные, смотрели, как из-за дома показалась его вытянутая акулья морда, потом он плавно сделал круг по широкой дуге мимо детской площадки, вывернул прямо на нас и, заехав одним колесом на бордюр, остановился. Открылась водительская дверь. Из машины вышел грузный, слегка сутулый мужчина лет пятидесяти пяти с ястребиным лицом.
– Сели, – бросил он нам.
Мы послушно опустились на скамейку. Он грозно навис над нами, как дождевая туча вперемешку с газовыми отходами от электростанции, какие иногда сгущаются над городом.
– Тараса с вами не было, поняли? Он остался на даче, а вы сами поперлись к дому, – сказал он.
Он говорил что-то еще – он говорил много, размахивая руками, скаля лошадиные зубы, такие же как у Тараса, хрипя и ругаясь. По-моему, несколько раз промелькнули слова «недоноски», «ублюдки» и «выродки». Я его не слушал. Я смотрел на задние окна автомобиля. Там, сквозь пленку тонировки, проступал профиль Тараса. За все время, пока его отец сыпал угрозами, он даже не повернулся. Наоравшись, его отец направился к машине – таким же уверенным быстрым шагом, как пришел. Хлопнула дверь. Колесо соскользнуло с бордюра. Загорелись задние фары. Мерседес медленно покатил по двору. Мы остались сидеть на лавке.
Дома меня ждал новый удар. Я только переступил порог, как мама сказала:
– Где ты ходишь? Завтра похороны.
У меня едва не подкосились ноги. «Откуда она знает?» – вспыхнуло в голове. Потом мелькнула еще более жуткая мысль: «Разве от него что-то осталось?» Пол под ногами закачался. Прихожая квартиры угрожающе накренилась. По спине заскользила горячая капля пота. Я изо всех сил, ногтями, вцепился в дверной косяк.
– Какие похороны? – еле выдавил я.
– Зои Алексеевны.
Сначала я почувствовал, как пол обретает устойчивость. Напряжение схлынуло, будто его смыли напором воды из полицейского водомета. Я еще не совсем осознал мамины слова, но понял, что к моей истории они не имеют отношения. Настоящий смысл ее слов доходил до меня постепенно, мучительно медленно, будто продирался сквозь толстый слой бетона.
– Зои… Алексеевны… – тупо повторил я.
– Я тебе еще вчера говорила.
Тут меня накрыло волной ужаса, потому что в первую очередь я почувствовал облегчение, и только во вторую – печаль, грусть, сожаление и все прочее, что сразу должен был ощутить из-за смерти соседки, которая была мне как бабушка, а может и этого не чувствовал – только облегчение, и получалось, что я конченый моральный урод, думающий только бы не спалиться, как в наркотическом угаре сотворил нечто непоправимое…
На какое-то время мир вновь погрузился в темную бездну – дальнейшие несколько часов словно вырезали при монтаже моей жизни, будто они не представляли никакой художественной ценности для зрителя, да и, видимо, для меня самого. В следующей сцене, которая осталась в моей памяти, я сижу перед включенным компьютером с пустым рабочим столом – в правом нижнем углу горят яркие белые цифры: два часа ночи. Не знаю, сколько я так сидел: мне запомнилась только минута, потому что крайний нолик на часах сменила единичка, и свет снова выключили.
Зоя Алексеевна пролежала мертвой в своей квартире несколько дней, прежде чем ее обнаружила моя мать. На звонок в дверь никто не открыл, тогда мама взяла хранящийся у нас запасной ключ, вошла и чуть не упала в обморок от запаха разлагающегося тела. Я это все узнал уже позже, после похорон. У нее остановилось сердце. Рядом лежала пустая баночка из-под таблеток. Но самое жуткое в этой истории то, что ее племянник, Андрей, в котором она души не чаяла, наркоман и опустившийся на дно человек, был у нее в эти несколько дней, но либо не заметил, что она умерла, либо не хотел ничего замечать. Организовывать похороны взялись соседи, в том числе моя мама.
Провожать Зою Алексеевну в последний путь собралось немного народу – человек двадцать, в основном соседи, половина из которых старики. Во время похорон меня преследовало чувство нереальности. Мне-то казалось, что на самом деле я остался дома в кровати и все вокруг мне только мерещится. Причем не снится, а именно мерещится, как иногда бывает, когда засыпаешь после долгой бессонницы и тебя тут же будят. В такие моменты только-только подступивший сон накладывается на реальность, и несколько минут не совсем понятно, что происходит вокруг. Так у меня прошел весь день.
На кладбище мы отправились в двенадцатиместной «газели» – не все старики смогли поехать. Они постояли возле подъезда, когда мы выносили гроб, повздыхали, некоторые вытирали слезы. Тогда и потом, на кладбище, я старался не поднимать головы, чтобы случайно не наткнуться на чужие глаза над медицинскими масками. Гроб тяжело давил на плечо, и с каждым шагом до катафалка он становился все тяжелее. Когда оставалось всего пару шагов, я думал, не выдержу – хребет сломается, гроб рухнет на асфальт, откроется, и Зоя Алексеевна вывалится на землю.
Потом мы ехали на «газели». Катафалк оторвался далеко вперед, а мы как будто его догоняли. Меня посадили у прохода – я пристроил свой взгляд на серой обивке переднего сидения и не сводил его с одной точки. Позади, где-то в хвосте, кто-то тихо сказал:
– Хорошо, хоть сейчас… Скоро город закроют. Похоронить по-человечески не смогли бы…
На мгновение меня охватил гнев: да как они могут сейчас разговаривать?! Но эта вспышка мгновенно погасилась совершенным безразличием.
Открытый гроб поставили возле вырытой ямы в форме ровного прямоугольника. Заговорил священник. Он вроде как приглашал всех «проститься с усопшей», но никто не двинулся с места. Я осторожно заглянул в гроб. Там лежал тот самый бомж… Случайно я поднял глаза на окружающих. Их лица закрывали медицинские маски, у некоторых черные. Мне показалось, они специально – они от меня прячут лица, им противно дышать со мной одним воздухом. Все они осуждающе смотрели на меня. Все они знали, что я сделал, и требовали, чтобы я сознался. Я вновь взглянул на гроб. Бледное лицо Зои Алексеевны, с закрытыми глазами, обращенное к небу, выглядело умиротворенным. И тут я зарыдал.
Все молчали, а я бился в истерике, и теперь уже все действительно смотрели на меня, и кто-то тихо дотронулся до моего плеча и сказал: «Ну ладно-ладно. Чего же так убиваться», – а я не мог остановиться – закрывался руками, и кажется, слезы даже не текли, но из горла раздавался какой-то дикий вопль.
Не знаю, что это было: страх, жалость к Зое Алексеевне или к себе, вина из-за того, что она всегда относилась ко мне с добротой и лаской, присматривала, когда я оставался дома один, заботилась, когда мать не могла, а я – я вместо того, чтобы по-человечески проститься с ней, погоревать, как все нормальные люди, вижу на ее месте какого-то бомжа, думаю только о нем. «Какого-то бомжа? КАКОГО-ТО? – взрывом прогремело в голове. – Не какого-то, а того самого, которого ты СЖЕГ».
Тут меня снова скосило в черную бездну, и остаток дня огрызками сохранился в памяти. Если бы я проведал ее, как просила мать, я бы увидел, что у нее кончились таблетки, я бы сходил за ними в аптеку – она бы, возможно, осталась жива.
Ночью мне приснился кошмар. По ощущениям в реализме он затмил все предыдущие дни. Мне снилось, будто я пробудился среди ночи, весь в холодном поту, но одновременно с жаром. В окно заглядывал большой лунный диск, и в его свете, хрупком, едва пробивающемся сквозь занавески, за моим столом спиной ко мне кто-то сидел. Я попробовал окрикнуть этого неизвестного, но голосовые связки будто выдрали с мясом – я едва смог прохрипеть что-то неразборчивое. Неизвестный повел плечами, словно стряхивая назойливую муху, и я узнал в нем того самого бомжа. Перед ним в раскрытом ноутбуке мелькала лента Телеграма с моим блогом. Он быстро-быстро стучал по клавишам. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Я снова попробовал подать хоть звук. Он лишь усмехнулся, и я понял, что он делал. Меня парализовало от страха, если во сне такое вообще возможно. Бомж методично пост за постом стирал записи из моего блога. «Да он же меня убивает», – подумал я. Тут голос прорезался, и я заорал.
От собственного крика я и проснулся.
1 мая 2020. Пятница
Итак, продолжаю с того места, на котором остановился вчера…
Каникулы кончились, но школы не открылись. Учеба перешла на дистанционный режим. Жизнь перекочевала в онлайн. Учителя не понимали, как преподавать на удаленке. У моих одноклассников к страху перед экзаменами прибавился ужас перед пандемией. Многие писали истеричные посты в Инстаграм или выплескивали в общие чаты свои панические атаки. Мама, как медработник, круглые сутки не вылезала из больницы. Отчим по нескольку раз на день мотался в Ставрополь и обратно, развозя врачей по госпиталям с тяжелобольными пациентами.
Ничего удивительного, что никто не заметил странностей в моем поведении. Мне в каком-то смысле повезло. Пока весь мир как мог выживал в борьбе с пандемией, один глупый подросток пытался совершить противоположное…
Первый шок от случившегося прошел. Мысли более-менее вертелись в голове – я уже мог что-то соображать, поэтому днями напролет я размышлял – что еще оставалось делать в четырех стенах на карантине.
«Это всего лишь бомж», – думал я. – «Он никому не нужен. Его никто не ищет. Ну подумаешь, в мире стало на одного бомжа меньше. Никто этого даже не заметил. Он просто алкаш, который всю жизнь бухал и ничего больше не делал».
После подобных мыслей требовалось пройтись – я заметил, что при ходьбе думается по-другому. Мысли работают как печь старинного паровоза: если не двигаться, то копоть, опускаясь, разъедает глаза, но стоит тронуться с места, и едкий дым от печи уносится прочь – остается только энергия. Из-за карантина ходить пришлось из комнаты в комнату или по кругу в прихожей перед дверью. Последнее вызывало неприятные воспоминания. Прошлое накладывалось на настоящее и мне вновь казалось: все повторяется… Снова и снова – вечно – все повторяется. Я не выдержал – я нарушил карантин.
Жизнь на «окраинном гетто» во время карантина имеет свои преимущества. Я мог беспрепятственно выбираться из дома, узкими дворами и прилегающими к домам огородами пробираться к каналу и оттуда по безлюдному берегу бродить сколько душе угодно от плотины и до степных зон за дачными участками, откуда открывался вид на гору.
Как-то в одну из своих прогулок, дойдя до плотины, я спустился к самой воде Кубани и двинулся по берегу в противоположную от города сторону – к лесу. Я дошел до маленького кладбища времен Великой Отечественной. Три стареньких памятника и два покосившихся креста – все, что от него осталось. Там я сел на влепленную между двумя деревьями скамейку и долго смотрел на тяжелое течение реки. Небольшой ручеек отделялся от основного потока, сворачивал и своим уверенным быстрым течением отделял часть земли в остров. Он, ручеек, делал большой крюк и дальше, метров через пятьсот, на повороте, вновь соединялся с основным руслом. Мимо проплыла коряга – тонкий высохший сук торчал над водой, будто она, утопая, тянула руку, чтобы схватиться за убегающий мимо берег.
«Как я буду смотреть в глаза матери?» – думал я. – «Вот вчера, например, она спросила: “Как дела, сынок”. И я по обыкновению ответил: “Нормально”. Но глаз не поднял. Что же мне теперь до самой смерти ходить с опущенной головой?»
Возможно, именно тут я впервые подумал, что должен сделать. Может, даже тут я принял решение, но пока еще сам того не понял.
Под моими ногами неведомо куда неслась река. Полуголое сухое дерево, горбатой старухой склонившись над ее мутной поверхностью, запустило кряжистую когтистую лапу в воду, будто пробовало на ощупь температуру. Течение неумолимо, с одной природе присущей настойчивостью толкало воду на эти толстые пальцы-ветки, от них в разные стороны отходили маленькие буруны, закручивались, извивались и, гонимые дальше мутным потоком, растворялись, словно их никогда не и не было.
Я пошел вдоль ручья. Он удалялся все дальше вглубь «материка», и густые поросли деревьев встали между мной и рекой. Тропинка нырнула в глубокий овраг. Я осторожно начал спускаться, кусок глины под ногой вдруг поехал вниз, и я, рухнув на спину, растянулся на склоне оврага. Меня спас только прихваченный с собой по привычке рюкзак – я заскользил на нем вниз до самого дна. Выбравшись и оглядев себя, я в этом убедился – рюкзак покрылся толстым слоем грязи, а на куртке и брюках появилось всего несколько пятен.
Я добрался до места впадения ручья обратно в Кубань, остановился и несколько минут смотрел, как в пылу страсти сливаются два течения. Осенью ручей высохнет – он всегда высыхает к сентябрю – а следующей весной вновь наполнится, чтобы опять умереть следующей осенью.
Тропинка поворачивала вслед за рекой, поднималась на пригорке, где берега становились резко крутыми – за долгие годы течение возвысило их, вымыв и унеся много земли в далекое море. На самом пике пригорка тропинку преграждало поваленное гнилое дерево. Я подумал: как долго оно тут стояло? Лет сто, наверное. Может, сто пятьдесят. А что в итоге?
Мне тогда показалось совершенно бессмысленным и то, что оно упало, и то, что когда-то росло, тянуло листья к небу и то, что оно лежит поперек тропинки, и по его телу бегает стая жуков, и его жрут мерзкие личинки, и вообще – можно было упасть лет на сто пятьдесят раньше, и не стоять тут столько времени впустую.
Сразу за поворотом пригорок пошел на убыль, берега вновь сделались пологими, а русло реки сузилось настолько, что, казалось, сделай всего пару шагов и ступишь на другую сторону. Но течение не позволило бы перейти реку вброд – оно снесло бы любого, кто посмел сунуться в воду.
На том берегу, на искусственной насыпи, по железной дороге несся пассажирский поезд. Мелькали пустые вагоны. Пару раз в окнах показались лица. Кто-то спешил к запертым дома близким или, наоборот, бежал от карантина. Поезд ехал мимо меня не дольше нескольких секунд. Когда последний вагон скрылся из виду, гул резко кончился, и еще какое-то время издалека доносился размеренный стук колес: «Тудух-тудух, тудух-тудух». Потом затих и он. Осталось только журчание реки и щебет птиц. А чуть левее железной дороги над деревьями торчали четыре полосатых заводских трубы. Их видно даже здесь, в такой дали от города.
Я снял туфли, в которых обычно ходил в школу, стянул носки, закатал брюки до колен и уселся на край берега, опустив ступни в воду. Холодная, она словно тысячами маленьких иголок обожгла кожу. Я поежился, но остался сидеть. Вскоре ноги привыкли.
Кусты рядом зашевелились, что-то как будто зашипело, и повернувшись на звук, я увидел змею. Ее черная треугольная голова торчала из воды в метре от моей ступни. Я дернулся от испуга, но змея, видимо, испугалась сильнее – нырнула, и через несколько секунд я увидел характерные зигзаги на поверхности реки далеко от меня. Она быстро плыла к противоположному берегу.
«Это всего лишь гадюка. Вряд ли я умру от ее укуса», – подумал я и остался сидеть на том же месте.
Я почувствовал нестерпимую жажду, набрал воды в ладони и хотел уже отхлебнуть, но мое внимание отвлек лежавший на дне большой плоский камень. Даже сквозь мутноватую воду он отливал какой-то синевой, и мне на мгновение показалось, будто это лицо утопленника. Тут же в голову полезли мысли о сгоревшем бомже…
«В сущности, – думал я, – может, для него это не такой уж плохой выход? Ну серьезно. Он бы все равно умер. Не сейчас, так через год. Спился бы и умер. Отравился бы паленой водкой или замерз в холодную зиму. Какая разница, когда умереть: сейчас, через год или десять лет? Это разве не лучше, чем такая никчемная жизнь?»
Я просидел там долго. Ноги успели замерзнуть – я вытащил их из воды, обхватил руками и, дождавшись, когда они немного отогреются, опустил обратно.
«Ну хорошо, в чем разница между ним и, например, моим отчимом? Тот, конечно, пьет не все время – только по праздникам, а в остальные дни… А что он делает в остальное время? Даже не знаю. Работает, наверное… Смотрит телевизор, ест, пьет, спит… То же самое, что и другие люди».
Постепенно день рассыпался в ночь – белые полосы по краям неба посерели, в глазах зарябило первыми признаками сумерек.
«А сильно ли моя жизнь отличается от отчима? А от бомжа… Ну правда: разве в моей жизни больше смысла, чем у него?»
Темнота опустилась внезапно, будто кто-то, не предупредив, выключил солнце. Круглый диск луны выкатил на черное небо. Она отразилась в реке. По воде пошла мелкая рябь от поднявшегося ветра. Деревья угрожающе зашумели.
«В конце концов, все человечество когда-нибудь сгинет. Не в этот раз, так в другой… И какая разница для одного отдельно взятого маленького человека, когда это произойдет: сегодня или через миллион лет?»
С этой мыслью я пошел домой. Она, как посаженное в благодатную почву зерно, чуть позднее оформилась во вполне конкретную идею.
Мне надоело шататься по берегу канала и по лесу вдоль Кубани – я стал выбираться в город: садился на велосипед, добирался до плотины и оттуда по закоулкам и окраинным улицам колесил к центру города.
На каждом крупном перекрестке стояли патрульные машины с громкоговорителями. Из их чрева металлический голос вещал: «Уважаемые граждане, в соответствии с постановлением губернатора Ставропольского края, на территории города введены дополнительные профилактические меры. Не покидайте место проживания без экстренной необходимости. Оставайтесь дома!»
Я выбирал районы с множеством подворотен: Старый город, Фабричный парк, окрестности завода измерительных приборов, «Химпоселок» – там можно было легко и быстро улизнуть от патрульных машин. Редкие прохожие в масках шарахались от моего велосипеда. Они и друг друга обходили за километр. Над входами в парки оставшиеся еще после Масленицы транспаранты радостно приветствовали: «Добро пожаловать!» – но сами входы были перетянуты красно-белой сигнальной лентой, означавшей: «Вход запрещен». То же самое – на детских площадках.
На пустых улицах билборды рекламировали несуществующие мероприятия. С громким хлопаньем картинки сменяли друг друга. Я как-то остановился у одного такого возле пустого торгового центра: билборд приглашал на второй этаж в недавно открывшийся «Спортмастер» – через несколько секунд он уже звал на соревнования по боксу в спорткомплексе «Олимп», которые должны были пройти в начале апреля. Потом билборд вновь зазывал в «Спортмастер» и через несколько секунд опять на бокс… Я залипал на билборд, пока из разъехавшихся дверей торгового центра не появилось двое полицейских в черных масках. Я развернул велосипед, нажал на педали и двинулся прочь.
Случайные блуждания завели меня к тому забору, который я красил два месяца назад и возле которого чуть не столкнулся с Эдиком. Я тогда еще выдумал, будто заставил его малевать вместо себя, а на самом деле просто спрятался, трусливо поджав хвост, и дождался, пока он не пройдет мимо.
На заборе снова красовалось изображение мужского полового органа. Моя краска местами слезла, местами облупилась. Я несколько минут простоял возле него, тупо пялясь на нарисованный член, и меня вдруг охватило какое-то отчаяние: все, что я делал в этом мире, было совершенно бессмысленным – даже сраный забор снова изгажен, будто я не потратил полдня своей жизни на его покраску, и пусть полдня – это капля в море, ничтожно малый срок в сравнении с несколькими десятками лет, или бесконечностью вселенной, но бессмысленная капля за бессмысленной каплей рождают бессмысленный океан, пустая минута переходит в пустые часы, те – в пустые годы, и вот уже пустая жизнь клонится к закату, которому нет никакого смысла наступать через десятилетия, потому что так же бессмысленно он может наступить и сейчас…
Напротив забора стояла церковь с золотыми куполами и блестящими на солнце крестами. Я попытался припомнить, как она выглядит изнутри, и не смог. Кажется, в последний раз я был в церкви лет десять назад – точнее, меня туда водила мать, когда нас бросил отец. Я решил зайти внутрь.
Там все сверкало яркими золотыми огнями. С икон на пустой зал смотрели печальные глаза. Я не знал, что должен делать, поэтому поступил, как показывали в фильмах: подошел к ближайшему кануну (или как это называется), встал под сострадательный взгляд какого-то святого, сцепил руки в замок и зажмурился. Я чувствовал себя нелепо.
– Надо поставить свечку, – шепнул мне кто-то на ухо.
Я повернулся. На меня смотрела пожилая женщина в косынке с суровым, будто ветром обтесанным, лицом с доброй едва заметной улыбкой – уголки губ тянулись не вверх, как обычно бывает у улыбающихся людей, а вниз, отчего все лицо приобретало какой-то мученический оттенок.
– Сюда за здравие. Сюда за упокой, – тихо сказала она.
Я проследил за ее пальцем. Она указала сначала на круглый канун, потом на квадратный.
– Вот.
Она протянула мне длинную тонкую свечу. Я инстинктивно отшатнулся.
– Дай нам бог сил пережить это тяжелое время, – сказала она и перекрестилась.
Я с каким-то безволием, не чувствуя рук, взял свечу. Секунд десять переводил взгляд с нее на круглый канун, на квадратный, на лицо святого и обратно на свечу. Я не совсем понимал, что с ней делать. На круглом кануне свободного места не было, поэтому я вставил ее в пустой подсвечник на квадратном. Потом понял, что не зажег ее – вытащил, поднес кончиком к горящим свечам, пламя сначала как бы нерешительно коснулось нитки, и затем уверенно перекинулось на свечу.
Меня ужаснул этот ритуал. Я тут же вспомнил, как горел дом, и как в окне на втором этаже уже горящего дома появилось лицо бомжа. Я поднял взгляд. Сверху вниз на меня осуждающе смотрел святой. Я поспешил избавиться от свечи – с каким-то отвращением и испугом воткнул ее в свободный подсвечник, сделал шаг назад, снова взглянул на икону… Святой безмятежно смотрел на пустое место у кануна.
Мне снова это показалось жутко глупым и бесполезным, и вообще вдруг стало невыносимо душно, как в бане – со лба катились большие горячие капли, золотые стены, казалось, вот-вот расплавятся как воск на свечах, от роскошного иконостаса обдало жаром, по коже пробежали мурашки – кто-то страшно, заунывно запричитал, голос перерос в жалобный вой – он поднялся к голубому расписному куполу – загремел, как гром перед бурей, и кислотным ливнем обрушился обратно вниз…
Не знаю, что это было: церковные песнопения, литургия или что-то типа того – я вышел, не оглядываясь, стараясь не бежать, хотя рюкзак, будто подгоняя, бил меня по спине. Еще внутри, перед тем как выйти, я вспомнил, что дома тоже где-то были иконы. Точнее, одна – с изображением Христа, и если бог есть, он услышит меня отовсюду.
Дома я пытался молиться: в мамином ящике нашел запыленную икону, заперся в своей комнате, хотя кроме меня в квартире никого не было, установил икону на стул и опустился перед ней на колени. В таком положении я провел несколько часов. Спина ныла. Колени болели.
Я читал молитвы (нашел их в интернете). Сначала про себя, потом, выучив наизусть повторяющиеся слова, – вслух. И мне вновь показалось ужасной глупостью произносить чужие кем-то давно придуманные тексты, и я заговорил от себя, бессвязно повторял одно и то же: лепетал как младенец, просил услышать меня, умолял простить, дать всего один шанс все изменить – не знаю как, но исправить то, что я натворил… Он не слышал.
За окном потемнело – навалились сумерки. За ними пришел вечер. Он плавно перетек в ночь. Спина ныла. Колени болели. Я ждал бога, а он не пришел. И тогда я почувствовал отчаяние. Вскочив с колен, я закричал:
– Ты обещал прощение! Ты говорил, нужно раскаяться, и ты простишь! Ну так прости меня! Слышишь? ПРОСТИ МЕНЯ! Черт бы тебя побрал…
С этими словами я схватил икону и со всей силы, на какую только был способен, швырнул ее в стену. Она грохнула, упав на ребро, закачалась, будто пыталась смягчить падение, но я подхватил ее и запустил в другую стену – от нее отлетел кусок, я схватил ее еще раз, размахнулся и саданул плашмя об угол стола. Икона, треснув, развалилась на две ровные части.
Тогда я окончательно понял, что должен сделать. Осталось только решить как.
Этим я занимался последующие несколько дней. Со скрупулезной тщательностью я обшарил все сайты, статьи и форумы о самоубийствах. Есть масса способов покончить с собой, и каждый из них я рассматривал с холодной практичностью, которая сейчас приводит меня в ужас. Я взвешивал все «за и против»: на отдельном листочке в столбик выписывал все недостатки того или иного способа, а рядом писал преимущества.
По статистике самым эффективным способом свести счеты с жизнью является выстрел из огнестрельного оружия в голову. Например, из пистолета. Приложил дуло к виску – спустил курок – все. Это самый распространенный метод суицида в мире. Больше половины самоубийц в Америке застрелились. Сложно представить, что кто-то может выжить после того, как пустит пулю себе в висок, но есть примерно восьмипроцентный шанс не умереть. В подобном случае почти наверняка ты повредишь лицевой нерв, а также получишь височный абсцесс, менингит, афазию, гемианопсию, или что-нибудь еще в этом роде. Чтобы все прошло успешно, можно засунуть дуло в рот. Шансы выжить сведутся к нулю.
Как бы мне ни льстила мысль оказаться в одной компании с Эрнестом Хемингуэем, Хантером Томпсоном, Владимиром Маяковским и Винсентом Ван Гогом, этот способ мне не подходил – у меня не было оружия, и я не знал, где его достать.
Проще всего, наиболее безболезненно и с наименее безобразными последствиями – отравиться таблетками. Правда, нембутал, пентобарбитал и секобарбитал вряд ли удастся купить в ближайшей аптеке, но у каждого дома хранится куча лекарств: какие-то из них при значительной передозировке непременно должны тебя убить. Особенное внимание стоит обратить на снотворные и обезболивающие средства – если запить их алкоголем, желательно чем-то газированным, типа шампанского, то эффект однозначно будет. Этот способ самый ненадежный – к нему обычно прибегают люди, которые таким образом привлекают внимание к своим проблемам. Они на самом деле не хотят умирать – они хотят, чтобы их спасли. И хотя Джеку Лондону и Фриде Кало удалось отравиться снотворным, согласно статистике, средний уровень смертности от передозировки лекарствами колеблется в районе одного целого восьми десятых процента. Эта ничтожно малая цифра не внушала мне уверенности.
Повеситься и повторить участь Сергея Есенина и Марины Цветаевой мне представлялось довольно надежным. Этот способ очень популярен в России: на него у нас приходится более восьмидесяти процентов всех самоубийств, и самое главное, почти никто не выживает. Однако и здесь есть минусы. Во-первых, нужна крепкая балка, труба или что-то вроде того, через которую можно перекинуть веревку. Во-вторых, надо правильно связать узел в виде висельной петли, или как его еще называют, «Узел Линча». Сперва укладываешь ходовой конец веревки зигзагом, чтобы получилось две петли. Затем ходовую часть веревки оборачиваешь пять-семь раз снизу вверх. После чего, заведя кончик остатка веревки через верхнюю петлю, затягиваешь узел. В-третьих, надо рассчитать высоту падения: если она низкая, то смерть наступит в результате удушья, если высокая, то сломаются шейные позвонки. Второй вариант – мгновенная смерть – конечно, предпочтительней, ибо дергаться на веревке, корчить рожу, чувствовать, как наступает гипоксия, кружится голова и сокращается периферический обзор – думаю, не самые приятные ощущения перед смертью.
Я решил, что этот метод мне подходит, но найти горизонтальную балку или трубу оказалось не так-то просто. В квартире ничего подобного нет. (Люстра, естественно, меня не выдержит.) Вешаться прямо на улице, на газовой трубе или ветке дерева жутковато, кто-то может заметить раньше времени, да и вообще попахивает идиотизмом. Я отложил эту идею в дальний ящик и решил прибегнуть к ней только в том случае, если ничего лучше не придумаю.
Вскрытие вен, наверное, самый часто упоминаемый и самый простой способ, которым в свое время смогли успешно воспользоваться Сенека и Марк Ротко. Я остановился на нем.
У меня был простой план. Утром, когда мать с отчимом уйдут на работу, я плотно позавтракаю, наберу теплую ванну, достану бритву из шкафа отчима, лягу в воду и сделаю два глубоких пореза на обеих руках. Порезы должны быть обязательно вдоль, а не поперек – так будет надежнее, а теплая вода не позволит крови сворачиваться. Я умру быстро. Когда мать с отчимом вернутся с работы, они уже не смогут ничего сделать.
Меня остановило только одно. Я лежал в ванне, крутил в пальцах тоненькое лезвие от бритвы, тускло горели лампочки над зеркалом, горячий пар шел от воды, и тут я подумал: каково будет маме заходить в ванную после моей смерти? Я пролежал там, пока вода не остыла. Потом вылез, обтерся полотенцем и убрал бритву на место. Я не мог покончить с собой дома – не хотел, чтобы маму всю оставшуюся жизнь преследовал образ моего трупа в этой ванне.
Далеко от воды как инструмента самоубийства я не ушел. Следующим вариантом, над которым я задумался, стало самое редкое из способов, на которое приходится всего около двух процентов всех случаев самоубийств, – метод, избранный Вирджинией Вулф, – утопление.
Об утоплении я вычитал не очень много – больше размышлял сам. Хорошо плавающий с детства, я боялся, что не смогу утонуть: сработают рефлексы, и инстинкт самосохранения заставит меня грести, а если я попытаюсь сопротивляться, то течение, как в фильмах, вынесет меня на берег. Для надежности, конечно, можно было бы взять с собой что-нибудь тяжелое, например, пару утюгов – привязать к ногам и прыгнуть с моста в Кубань. Тогда мое тело нашли бы через несколько дней или недель, обезображенное до неузнавания, изъеденное рыбами и покрытое водорослями. Все эти дни, пока меня будут искать, мама, наверное, просидит дома в надежде, что я еще жив…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































