Текст книги "Дом Одиссея"
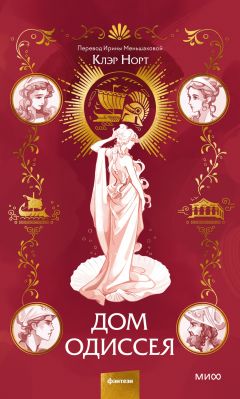
Автор книги: Клэр Норт
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Ты прав, конечно. Конечно, ты прав. Я так старалась стать достойной своего мужа. Я не видела его почти двадцать лет, а теперь и сын мой отправился в море на поиски отца, и я… Я боюсь, что мучаю себя ложными надеждами, безрассудными мечтами. Даже когда я поверила, что свободна от них, они вернулись, чтобы мучить меня. Разве это не глупо?
Менелай нежно пожимает ее руку. Ни один мужчина не подходил к ней так близко вот уже очень-очень давно, но все в порядке. Менелай – муж Елены, царь, названый брат Одиссея. Обычные правила не распространяются на таких, как он.
– Я видел твоего сына, – говорит он, и Пенелопа едва не запинается о собственные ноги.
Он удерживает ее, даже глазом не моргнув, не сбившись с шага и не переводя дух: легкое дело, ожидаемое, предсказуемое дело.
– Юный Телемах – замечательный парень, он прибыл в Спарту в поисках новостей об отце. Ты неплохо его воспитала с учетом всех обстоятельств. Приятный сильный голос, хорошие манеры, крепкая и точная рука – по нему и не скажешь, что воспитывался женщинами! Конечно, мы не смогли ему помочь. Но просто, увидев мальчика, я расчувствовался чуть ли не до слез. Я правда скучаю по твоему мужу – мы все скучаем. Само собой, между нами были и разногласия, но, в конце концов, на Одиссея всегда можно было положиться. И мне очень жаль, что мы не смогли сообщить твоему сыну лучших новостей – никаких новостей, я имею в виду. Плохих – тоже. Просто никаких новостей о твоем муже.
Тело Пенелопы двигается, и она – в нем, на данный момент этого достаточно. Соломенная шея с трудом удерживает кивающую голову из свинца.
– Понимаю, – выдыхает она. – И это было… недавно?
– Не прошло и пяти лун.
– Пять лун. Да. Благодарю тебя. Я рада, что… Отрадно знать, что Телемах в порядке. Благодарю.
Он останавливается так внезапно, что Пенелопа едва не врезается в него, когда он поворачивается, чтобы взять обе ее руки в свои. Смотрит сквозь покрывало прямо в глаза, сжимает ее пальцы своими, кланяется.
– Я брат твоего мужа, – заявляет он. – И Итака всегда будет под моей защитой.
Затем целует ее пальцы.
Губы к коже.
Влажный след от его рта ощущается даже после его ухода. Это самое чувственное действие, совершенное мужчиной по отношению к ней за последние двадцать лет, и, наконец добравшись до своей комнаты, Пенелопа трижды моет руки и меняет платье.

Глава 16

Пир.
Менелай привез собственное вино.
Это возмутительно, настоящее оскорбление! Ни один хозяин и подумать не может о том, чтобы позволить гостю принести чашу с питьем или блюдо с едой к пиршественному столу. Это нарушение самых священных традиций их земли, просто невообразимо. Но Менелай – не обычный гость, а Пенелопа, что ж, она…
– Ты прошла через столько бед, через столько невзгод, сколько не должно встречаться на пути ни одной женщины, – увещевает Менелай, пока его слуги вносят амфоры с кораблей в зал. – Совсем одна, без мужа, без защиты мужчины, и я бросил тебя. Да, бросил – не спорь! Не желаю слышать ни слова, я бросил тебя, подвел Одиссея, подвел моего кровного брата, позволив его жене страдать на этой скале столько лет, а ведь ты еще и спартанская царевна. Даже все вино из виноградников Лаконии не позволит заслужить твое прощение, а потому, дорогая сестра, я должен загладить вину. Должен. Если ты откажешь мне в этом – значит, проклянешь. Я позабочусь о том, чтобы западными островами больше не пренебрегали. Позабочусь, чтобы ты была под надлежащим присмотром.
Вино очень крепкое, даже разбавленное водой, и за его сладостью прячется отчетливый терпкий привкус кислинки.
Эос шепчет на ухо Пенелопе, наполняя ее кубок:
– Спартанские солдаты расходятся по острову.
– Они причинили кому-нибудь вред?
– Нет пока.
– Отправь сообщение Приене. Скажи женщинам спрятать свои копья и луки.
Барды в зале тоже из спартанцев.
– Лучшие, лучшие во всей Греции! – объясняет Менелай в ответ на тихий вздох Пенелопы, скрывающий вспышку негодования, оттого что ее музыкантов заменили. – Я привез их из Афин, они играют такую музыку, самую прекрасную музыку, которую тебе доводилось слышать. Не хочу оскорбить ваших местных ребят, конечно, но ты должна это услышать – и если только тебе не понравится, я тут же велю их всех утопить, без возражений, клянусь!
Менелай поклялся. Очевидно, все так и будет. Они слушают, как поют барды из Афин, спасая свою жизнь, и Пенелопа понимает, что ее обыграли. Клитемнестра заявила бы, что музыка совершенно ужасна, лишь бы настоять на своем, и гордо стояла бы на причале, с которого мужчины с привязанными к ногам камнями отправились бы на дно морское. Но Клитемнестра мертва, убита за то, что так походила на мужчину, а Пенелопа не может избавиться от мысли, как неудобно будет после отбытия спартанцев вылавливать трупы бардов, чтобы те не отравили воду трупным ядом.
Песни, которые они поют, не славят Менелая. Его упоминают едва ли в одной строчке. Вместо этого они поют об Агамемноне, его великом брате, царе царей. Они поют о согласии, которое тот установил, о мире, завоеванном исключительно его силой, о героях, собравшихся под его знаменами, об общей цели народа, наконец-то объединившегося. Менелай подпевает особо удачным частям не в такт, слушая вполуха, ведь эту песню он слышал столько раз, что теперь едва обращает внимание.
Он сидит на самом почетном месте – рядом с пустым троном Одиссея. Кресло Пенелопы установлено чуть ниже, но он гаркает:
– Как я могу вести с тобой беседу, если ты где-то внизу? Давай присоединяйся, присоединяйся ко мне!
И поскольку для этого придется либо поставить кресло рядом с его, либо усесться к нему на колени, Автоноя и Эос тут же передвигают кресло госпожи поближе к царскому.
Елена находится ниже, в окружении своих служанок. Никострат – напротив, играет с едой. Пилад сидит среди женихов, воин Ясон и жрец Клейтос – рядом с ним, поскольку больше этих, в другой ситуации довольно почетных, гостей посадить некуда. Лефтерий с мечом на бедре бродит по краю зала. Он словно дружелюбный волк, щерящийся острой как нож ухмылкой. Никто не встречается с ним взглядом и не возражает, когда он берет еду с их тарелок – само собой, по-дружески. Делимся с братьями, делимся с друзьями – сплошное дружелюбие.
– А ты что за птица? – спрашивает он у египтянина.
– Я Кенамон, – отвечает Кенамон, и в голосе его непривычный холодок, неожиданная отстраненность, которой он никогда не проявлял в отношении самых больших своих соперников: женихов, сидящих в зале. Откуда это взялось? Ах да, просто встретились два воина, которым трудно представить, что это происходит в мирное время. Лефтерий смотрит на Кенамона, а Кенамон – на Лефтерия, и каждый в глазах другого видит человека, знающего, каково это – вытаскивать свой меч из еще бьющегося сердца, глядя, как стекает по бронзе кровь. Прочие люди могут разглагольствовать о рвущихся вперед колесницах и отчаянных атаках. Лефтерий с Кенамоном обмениваются ледяными улыбками людей, готовых скорее прирезать противника во сне, чем снова оказаться в кровавой бане сражения. Такие улыбки нечасто увидишь в этом зале, полном тщеславных хвастунов и самодовольных глупцов; на одно долгое мгновение они сцепляются взглядами, а затем Лефтерий продолжает свой поход по залу.
На каждом женихе сегодня лучшие одежды. Тоги с карминовым краем и золотые браслеты извлечены из тайников; волосы умащены маслом, их завитки живописно уложены, ногти на руках очищены, вымыта грязь между пальцами ног. Всего на одну ночь царский дворец Итаки, возможно, почти соответствует этому высокому званию.
Елена болтает. Это нескончаемый поток легкого шума, размеренного, как биение крыльев голубки, оживленного, как крики птиц, гнездящихся на утесах.
– О небо, здесь что, крабы? О, какая прелесть, я обычно не ем… но, уверена, это вкусно, да? У нас в Спарте никогда не подают крабов, знаете ли, а в Трое их подавали, только если отряду лазутчиков удавалось выйти из морских ворот и вернуться, не потеряв слишком много людей. Какая роскошь! Какая роскошь – хотя, думаю, для тебя, сестрица Пенелопа, это обычная еда. Как мило. Знаешь, иногда я тебе правда завидую: в этом маленьком дворце жизнь так проста, так незамысловата, наверное, это такое облегчение, когда нет нужды волноваться о множестве вещей. Нам в Спарте постоянно приходится развлекать всех этих сановников и царей – и невозможно даже запомнить, кто из них кто, правда?
Ее смех уже совсем не тот, что когда-то привлек внимание Париса. Тот смех был глубоким и богатым на оттенки, в нем слышались намек на пикантность и даже легкое фырканье. Тот смех был смехом той, которая решилась хоть ненадолго стать заметной, стать не просто жеманной девчонкой – женщиной, в чьей лилейной груди бьется горячее сердце. Тот смех вообще-то был соблазнительнее, чем совершенство ее плоти – то самое совершенство, которое, должна признаться, было достигнуто при помощи хорошей порции божественного сияния. Именно тот смех, в котором таилось обещание тайн, скрытых мест, куда никому, кроме него, не проникнуть, на самом деле привлек Париса Троянского.
Это не тот смех. Этот появился, когда она училась смеяться заново в своих покоях в Спарте, глядя на собственное расплывчатое отражение в мутном бронзовом зеркале. Ее голос летал вверх-вниз в поисках идеальной ноты, идеального тона, а затем она проверяла то, что получилось, на муже, когда тот говорит что-то, кажущееся другим забавным, исследуя, какой вариант заставляет его нахмуриться, какой – вздохнуть, а какой он просто пропускает мимо ушей. Этот смех – последний из трех, тот самый, который Менелай едва замечает, как будто часть его слуха, отвечающая за распознавание этого звука, отмерла, оглушенная десятилетиями грохота мечей по щитам, – несмотря на то что у других этот звук вызывает только раздражение и неловкость.
Лишь несколько женихов могут расслышать слова Елены, хоть и не без напряжения слуха. В этом Пенелопа им завидует.
– Видела твоего дорогого Телемаха. О, он такой славный мальчик, правда? Он путешествовал с одним из сыновей Нестора, потрясающим парнем, но ты же знаешь, каков Нестор – ну, вообще-то, все они слегка суховаты, да? Немного унылы, смею заметить; о, ужасно неприлично с моей стороны!
Она прижимает пальчики к губам, как озорная девчонка, сказавшая что-то неуместное. Затем улыбается и продолжает с того же места, поскольку ей это сходит с рук.
– На пиру все ужасно расчувствовались, само собой. Столько потерь среди лучших: Агамемнон, Ахиллес, Одиссей – и знаешь что, хоть он ел с открытым ртом, но и Гектор тоже был очень заботливым человеком, очень заботливым. Я рада, что Ахиллес не стал осквернять его тело, – знаешь ли, тут ведь дело не в отношении к своим врагам, а в том, кем ты считаешь себя, кем хочешь быть. Как бы то ни было, сестрица… – Елена тянется к Пенелопе, но расстояние между ними слишком велико, и ее рука остается висеть в воздухе. – Я знаю, ты всегда выберешь любовь.
У Пенелопы нет слов. Она потрясена. Она смотрит на Менелая, который если и слышал слова жены, то виду не подает. Она смотрит на Никострата, который так сильно откинулся на спинку стула, что чудом не заваливается назад, затылком о пол, седалищем вверх: вжу-у-ух! Она смотрит на женихов, которые как можно незаметнее наблюдают за царственными особами, а затем – снова на Елену, рука которой все еще висит в воздухе, а легкая улыбка словно говорит: «Сюда, моя дорогая, иди сюда».
Тогда она решает, что это может быть проверкой. Она отлично проходит проверки, потому что всегда знает, какого ответа от нее ждут. А потому, с улыбкой игнорируя и протянутую руку, и широко распахнутые блестящие глаза Елены с расширенными черными зрачками, произносит:
– Конечно, сестра. И есть ли любовь сильнее той, что жена питает к своему мужу?
Улыбка Елены не гаснет. Но она откидывается назад, медленно кладет руку на колено ладонью вверх, накрывает ее другой рукой, будто пряча пятно, и смотрит в никуда, не произнося больше ни слова, не прикасаясь к еде, лишь то и дело поднося к губам кубок с вином, которое Зосима подливает ей из особого золотого кувшина.
Музыканты играют, на стол выставляют еще мяса. Губы Елены алеют от вина, глаза смотрят на что-то, недоступное остальным. Пенелопа слегка наклоняется к Менелаю.
– Говорят, несколько твоих людей путешествует по Итаке, – шепчет она.
Он, не глядя на нее, подносит к губам кубок.
– В твоем бабьем царстве говорят?
Пенелопа улыбается. Улыбается потому, что у выражения «бабье царство» несколько значений, если речь идет о женщинах Итаки, и ей неизвестно, сколько из них знакомо Менелаю. Возможно, он понимает больше, чем говорит, и в таком случае все пропало: ее дом, ее царство, ее надежды, – но также возможно, что это просто оскорбительный выпад, легкое пренебрежение ко всему, что представляют собой она и все, кто ей служит. Пенелопа улыбалась бы в любом случае. Улыбка прячет страх, гнев, отвращение внутри. Царям не нужно улыбаться, но для цариц это одно из самых полезных орудий, имеющихся в распоряжении.
– Твоим людям что-то нужно? Мы чем-то не смогли их обеспечить?
– Думаю, на острове неплохая охота, – отвечает Менелай, все еще не поворачиваясь к ней, не удостаивая ее прямым взглядом. – Одиссей рассказывал, как еще юнцом охотился на кабана, и шрам нам всем показывал, отличный толстый шрам – он им так гордился, словно не был настоящим солдатом, сражающимся в великой войне. «Скоро обзаведешься целой кучей шрамов, не переживай», – говорил я ему, но нет, он все твердил про Итаку и этого проклятого кабана. В общем, раз уж у тебя на острове с мужчинами негусто, полагаю, здесь развелось много крупной дичи. Женщины, конечно, могут ловить кроликов, но хорошего кабана… с твоего позволения, конечно. Хотелось бы самому узнать, похожа ли эта история на остальные Одиссеевы сказки: много слов, мало клыков.
Эту улыбку Пенелопа выбирала с особым старанием: от нее возникали лукавые морщинки в уголках глаз и тому подобное. В ее распоряжении не было зеркал высокого качества, перед которыми тренировалась Елена, но зато была Урания, ведающая ее тайной службой, сидя перед которой она репетировала эту маску, пока не довела до идеала.
– Конечно, – лепечет она. – Не могу вообразить ничего лучше настоящей царской охоты на Итаке после всех этих лет. Но твоим людям нет нужды терпеть неудобства, оставаясь ночевать вдали от дворца. Остров мал, и у нас есть люди, которые покажут вам лучшие места для охоты.
– Не стоит, сестра. – Он легонько похлопывает ее по руке: разве не мило с ее стороны позаботиться о подобных вещах? – Мы не должны доставлять тебе больше неудобств, чем уже успели доставить. Даже не думай об этом.
И на этом, похоже, обсуждение окончено.
– Кстати, Приам, Приам! Я про то, что он все время рассказывал одни и те же три истории. Одну – про коня, вторую – про пророчество, а третьей была ужасная история о том, как он отправился в Колхиду…
Елена болтает.
Пенелопе непонятно, как один-единственный голос может стать таким неиссякаемым источником бессмысленного шума. А еще ей непонятно, как ее двоюродная сестра может так легко говорить о Трое, о событии, расколовшем мир надвое, и каким-то образом не сказать ничего серьезного. Как из множества слов, срывающихся с губ Елены, лишь малое количество имеет смысл.
– …Замечательно, что они делают со своими волосами. Так вот, когда девочка-южанка становится женщиной, она обривает голову и носит парик, но в других местах плетет косы, как символ связи между мужем и женой, и носит постоянно вот так. Пенелопа, ты смотришь? Постоянно, а еще у них есть особые краски чудовищного красновато-коричневого цвета, просто отвратительного, но они утверждают, что он означает верность и преданность тому…
Елена болтает, а во дворце не прекращается движение.
Оно совершенно безобидно и ничем не примечательно. Всего лишь служанки Пенелопы – Одиссея, точнее сказать – за работой. Большая часть занята внизу, на пиру, но еще несколько во главе с легконогой Автоноей обходят комнаты спартанских гостей, убеждаясь в том, что, отправившись в постель, те найдут тазы с прохладной водой у окна, что грубые шерстяные покрывала будут как следует разглажены, что ни мышиного помета, ни назойливых насекомых не будет замечено даже в самых малых комнатушках. Автоноя в сопровождении Фебы и Меланты идет из комнаты в комнату, с ведрами воды в руках, все с вежливыми улыбками и со скромно опущенными долу взглядами. Двери некоторых комнат охраняют спартанские солдаты, но они просто стоят и смотрят на женщин за работой. От них ведь никакого вреда, в конце концов. И что такого интересного для себя могут увидеть там рабыни?
В комнате Никострата, когда-то бывшей детской Телемаха, почти все пространство занято броней. Никострат родился слишком поздно, чтобы сражаться под стенами Трои. Он это понимает, а потому, едва отметив свой пятнадцатый день рождения, стал ввязываться в любую подвернувшуюся битву, будь то с пиратами или налетчиками. Это было непростой задачей, поскольку установленный Агамемноном мир все еще держался и считалось неприличным юным воинам грабить царей, соседствующих со Спартой. Вместо этого ему пришлось уплыть на юг, прямо до земель фараонов и бородатых хеттов, в поисках славы и золота. Спарта не нуждалась в золоте, зато Никострату необходима была слава, даже если добиться ее можно было, лишь убивая спасающихся бегством детей. Свою броню, по его заявлению, он снял с великого воина на колеснице, которого победил единолично возле города Ашдода. Ее отличительная черта – осадный щит, под которым легко может укрыться семья из трех человек, он ужасно большой и громоздкий. Никострат действительно убил какого-то человека возле этого города, но тот пытался сбежать, а броня была зарыта под домом вдовы. Он думает, что однажды может стать царем и если станет, то посвятит свою жизнь воителю Аресу и проследит за тем, чтобы женщины его дома знали свое место. Последнее постоянно звучит в беседах детей Менелая мужского пола.
Автоноя с остальными зажигают масляную лампу, стоящую у кровати, чтобы Никострату не пришлось возвращаться в свою комнату в темноте.
Покои Менелая по сравнению с комнатой его сына намного проще. Конечно, здесь стоят сундуки, полные золота и драгоценного оружия, предназначенного для вознаграждения тех, кто порадует могучего царя, а его кровать уже устлана ворованными шелками, подрубленными в троянском стиле. Но ему нет нужды выставлять свои доспехи или ставить у двери огромный щит. Не нужна вся эта ерунда, чтобы показать миру, кто он такой, а он – Менелай! Силы, скрытой в его взгляде, величественности его поступи вполне достаточно, чтобы донести это, благодарю покорно.
Спартанцы наблюдают, как Автоноя наполняет золотой умывальник у его кровати водой из колодца. Умывальник не с Итаки: не то чтобы Менелай отказался умываться из глиняного или оловянного таза, вовсе нет, он воин, знаете ли, в первую очередь воин! Просто кто-то из его прислуги решил, наверное, что ему пристало жить в окружении золота, – и вот, слуги есть слуги, иногда приходится и царю им подчиняться.
В покоях Елены сплошь зеркала: маленькое зеркальце для изучения лица; великолепное зеркало, в котором можно оценить весь свой образ; зеркало, которое держат, чтобы она могла увидеть свой затылок; бронзовое зеркало, которое слуга носит следом, на случай если надо будет взглянуть на себя по пути; самое большое и чистое из них – сплошь полированное серебро, и отражение в нем сияет, поражая, что на Фебу оказывает гипнотическое действие. Елена не взяла с собой ни единого зеркала, отправляясь в Трою. И только после смерти Париса, когда его братья принялись спорить о том, кому она принадлежит теперь, она все-таки позволила себе глубоко и надолго утонуть взглядом в зеркальной глади.
– Хорошие новости, – заявил Дейфоб, сын Приама, брат заколотого Гектора и отравленного Париса, стоящий в дверях спальни и торопливо расстегивающий портупею на бедрах. – Я победил.
– Здесь этот человек обесчестил меня, мой добрый муж, – объясняла Елена, сияющая, как жемчужина, Менелаю, который стоял в спальне Дейфоба, над дрожащим, израненным царевичем посреди пылающего города. – Он сделал это. Вот этот человек.
Менелай потратил свое драгоценное время, чтобы расправиться с Дейфобом, а Елена на это смотрела. Когда Дейфоб кричал, Менелай представлял, что пытает Париса. Что представляла себе Елена, когда троянский царевич умер, знаем лишь она и я.
С тех пор она не отходит от зеркала дольше чем на пару секунд, то поправляя локон, то убеждаясь, что нарисованная бровь не смазалась, то проверяя, как падает свет на крошечные морщинки на лбу и подбородке.
Весь стол здесь уставлен разными сосудами. Мази и притирания, настойки и пасты как с проверенными, так и с сомнительными составами. Автоноя никогда не видела сразу столько горшочков с кремами и флакончиков с духами и не чуяла сразу столько цветочных и пряных ароматов, исходящих из одного места. Она наклоняется рассмотреть один, бережно накрыв рукой принесенную лампу, но тут от двери доносится рык:
– Прочь! – спартанская служанка Трифоса врывается в комнату с пылающим яростью лицом. – Пошли прочь! – повторяет она, замахиваясь на Автоною и итакийских женщин. – Вас здесь не ждали!
Если бы любая другая рабыня посмела так разговаривать с ней в доме, где она – одна из самых доверенных и ценных для Пенелопы слуг, Автоноя швырнула бы ей в лицо горшок. Но сегодня она на задании, а потому кланяется, улыбается и пытается оправдаться:
– Прошу прощения, мы просто зажигали светильники и наливали воду нашим гостям…
– Мы позаботимся об этом! – скрежещет Трифоса, разворачиваясь так, чтобы выгнать итакиек из комнаты, как овец из загона. – Мы обо всем позаботимся!
И с тем Автоною выпроваживают из комнаты.
Тем временем в зале:
– Я не ем яиц, конечно, это плохо для кожи, да и, по-моему, от них пучит. А ты как думаешь, сестрица Пенелопа? Не считаешь, что яйца вызывают просто-таки ужасные ощущения? В последнее время мне приходится очень тщательно следить за тем, что я ем, желудок стал таким чувствительным…
Елена болтает без умолку, музыканты играют, женихи угрюмо сидят внизу.
По крайней мере, почти все женихи. Хотя один из них вот-вот совершит большую ошибку.
Антиной поднимается.
Это неожиданно, даже для богини с моим даром предчувствия. Этот жених, сын Эвпейта, выходит из-за стола, чувствуя вкус вина на языке, и направляется к царственному собранию во главе зала. Само собой, ему так велел отец, ведь сам он ни за что бы не осмелился. Два страха столкнулись в нем, из-за чего он откладывал это почти до конца пира: страх перед отцом боролся со страхом перед царем Спарты. Что примечательно, страх перед отцом пересилил смертельный ужас, вызываемый Менелаем, и поэтому Антиной отходит от своего места и приближается к царственному собранию.
Сначала его никто не замечает. Полагают, что он идет облегчиться или слишком пьян и скоро отправится в кровать. Предположение, что жених, пусть даже знатнейший из прочих, осмелится заговорить с завоевателем Трои, совершенно абсурдно. Но нет, он подходит, останавливается, кланяется и ждет, пока его заметят.
Пенелопа замечает раньше остальных и в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни чувствует укол страха за этого мальчишку, стоящего перед ними. Рядом с широко расставленными ногами Никострата, сына Менелая; перед мрачной стеной в лице Пилада и Ясона; у подножия кресла, на котором восседает сам Менелай, Антиной внезапно становится не мужчиной, претендующим на трон Итаки, а просто ребенком – ребенком, надевшим одежды отца, отправленным выполнять отцовский долг и повинующимся ввиду отсутствия собственного ума.
Взгляд Пенелопы привлекает и внимание Менелая. А это заставляет наконец замолчать Елену. Никострат садится чуть ровнее, с любопытством ожидая, что последует. Музыканты замолкают. Антиной прочищает горло.
– Могущественный Менелай, царь Спарты, – начинает он. Эту речь он тренировал перед отцом почти без перерывов, с тех пор как алые паруса были впервые замечены на горизонте. – Величайший из греков, царь царей…
– Кто это? – перебивает Менелай, адресуя свой вопрос Пенелопе. – Один из твоих женихов, не так ли?
– Это Антиной, сын Эвпейтов, – отвечает Пенелопа едва слышно. – Он определенно один из тех многих мужчин, что хотят защитить Итаку в час ее слабости.
Менелай фыркает.
– Ты имеешь в виду: усесться на пустой трон твоего мужа и наставить ему рога в его пустой постели!
Антиной уже потерял нить своих не особо длинных рассуждений, но пытается ее нащупать:
– Великий царь, величайший из всех греков…
Менелай резко тычет пальцем:
– Ты! Мальчишка! Сражался под Троей?
– Я… К несчастью, я был рожден слишком поздно…
– Хоть раз убивал человека?
Антиной не убивал, но вряд ли способен признаться в этом перед здешним собранием. Менелай слегка наклоняется вперед, подчеркивая каждое слово тычком пальца в направлении подрагивающего носа Антиноя:
– Ты встречался с Одиссеем?
– Я… не имел такой чести.
– Ты не имел такой чести. Конечно, ты не имел такой чести – тебе еще нянька нос вытирала, когда ваш царь, мой брат, уплыл в Трою. Ты понятия не имеешь, какого человека собрался свергать, ни малейшего понятия. Это было бы отвратительно, если б не было так смешно. А еще говорят, что вы целыми днями пируете за счет этой доброй женщины, – взмах в сторону Пенелопы, замершей рядом с ним, – пьете ее вино и допускаете вольности с ее служанками. Я многое слышу, очень многое, молва о ваших непотребствах идет до самой Спарты – и почему? Потому что вы считаете, что достаточно иметь ноги, чтобы пойти по стопам ее мужа. Боги – свидетели, если бы убивать трусливых зайцев не было противно львиной натуре, я бы разорвал вас всех и никто бы не возражал. Повезло вам, что я к старости размяк.
Антиной стоит разинув рот. Затем – редкое проявление мудрости – закрывает его. Какой удивительный поворот событий. Пенелопа с трудом удерживается от того, чтобы не наклониться поближе, наслаждаясь зрелищем. Антиной, сын Эвпейтов, коротко кланяется, отступает на шаг, на два, разворачивается и…
– Так что ты хотел сказать? – спрашивает Менелай.
Антиной замирает.
Вместе с ним замирает весь зал.
От самого дальнего и темного угла до ближайшей потупившейся служанки – все накрывает тишина. Ожидание.
Ухмылка Никострата растянулась до ушей. Лефтерий пытается сдержать смех. Менелаю нравится, что капитан его стражи, не скрывая, наслаждается болью других. Он ценит капельку честности в жизни.
Антиной поднимает взгляд на царя Спарты, но посмотреть ему в глаза не решается. Судорожно сглатывает. Пенелопа смотрит завороженно. В последний раз, когда он стоял так близко к ней, он называл ее блудницей, лгуньей, искусительницей. Он заявлял, что станок, на котором она ткала саван Лаэрта, ненастоящий, и обличал ее как распутницу, царицу теней и обмана.
А теперь дрожит от страха.
Она знает, что наслаждаться этим страхом недостойно, но он опьяняет. Это амброзия для ее исстрадавшегося сердца.
– Царь царей, – снова заводит он.
– Тебе что-то нужно? Нынешней молодежи все время что-то нужно, они совсем не ценят то, что имеют. Ну, парень, давай выкладывай!
Антиной вытягивает руку. А в ней – брошь. Она выполнена в форме сокола с кровавым рубином вместо глаза. Ее привезли с юга, с Нила и еще более далеких земель, где, как говорят, золото можно просто собирать с земли, потому что оно дождем падает с небес. Отец Антиноя выторговал ее почти за корабль олова и с тех пор не носил, приберегая для подходящего момента. И этот момент, по его мнению, настал сегодня. Но он ошибается.
– От имени жителей Итаки… как представитель славных мужей, собравшихся здесь… – это сильно урезанный вариант речи Антиноя, которая до этого самого момента была почти полностью посвящена его достоинствам как потенциального царя, – мы хотели бы вручить тебе этот скромный знак нашего уважения и…
Менелай дергает подбородком в сторону сына. Никострат поднимается со стула, выхватывает брошь у Антиноя, подносит ее к свету, скребет крепким ногтем и перебрасывает отцу. Менелай ловит ее одной рукой, тут же прижимая кулак к груди, чтобы верткая вещица не выпала, если трюк не удастся. Глядит на нее, поднимает повыше, затем кладет на колени, улыбается и пристально смотрит на Антиноя. Антиной опускает глаза, затем, когда разглядывание пола слишком уж затягивается, снова поднимает, обнаруживает, что Менелай все еще смотрит на него, и немедленно уводит взгляд вниз, ниже, еще ниже, туда, где земля, возможно, поглотит его.
Улыбка Менелая превращается в оскал.
– Приятно, – задумчиво выдает он, крутя золотого сокола между пальцами. – Приятно. Приятные люди. Одиссей всегда говорил об этом: на Итаке никто не скажет «спасибо» или «пожалуйста», никаких тебе показных манер, как в более цивилизованных местах, никакой помпы и всей этой шелухи. Просто щедрые, честные люди, делающие все, что могут. Верные, говорил он. Верные и, хотя с первого взгляда это незаметно, по натуре добрые. «Никаких показных манер, – переспрашивал я. – Тогда как насчет тебя?» Но Одиссей, что ж, он всегда выделялся, правда? Всегда был на голову выше всех, даже своего народа. Антиной, да? Спасибо тебе за твой продуманный, приятный подарок.
Антиной снова кланяется, не отрывая взгляда от пола, и начинает пятиться.
– Пенелопа, – голос Менелая, громкий, веселый, заставляет Антиноя остановиться; царь наклоняется, берет Пенелопу за руку, вкладывает в нее золотого сокола и подталкивает к ней, – хочу отдать это тебе.
Взгляд Антиноя взлетает от пола к царице Итаки. Ему никогда не составляло труда смотреть свысока на женщин. Брошь в ладони Пенелопы теплая, согретая в руках царя Спарты.
Менелай поднимается. Елена прикрывает рот, как если бы собиралась захихикать. Никострат снова откидывается на стуле, скрестив руки на груди. Лефтерий едва не фыркает.
– Вы, женихи!
Менелаю не нужно кричать, чтобы его услышал весь зал. Он командовал людьми в грохоте сражения, его голос был слышен в реве пожара, поглощающего город. Я бы даже смогла полюбить его когда-нибудь, если бы только он открыл сердце всему тому, что таит в себе любовь.
– Вы, женихи, – он чуть понижает голос, полностью уверенный, что смог привлечь их внимание, – так мило с вашей стороны было подарить мне золото. Так чутко. Теперь я понимаю, что имел в виду мой добрый друг Одиссей, говоря о хитрости своего народа, правда понимаю: вы, итакийцы, всегда знаете, чем удивить. Но, сдается мне, вы сидите на шее у этой доброй женщины, жены моего дорогого брата, едите с ее стола, пьете ее вино, уже сколько… два года? Три? Вы приходите в ее дворец, крутитесь у ее постели, высмеиваете ее добродетели, смешиваете с грязью ее мужа, которого она любит, которого я любил…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































