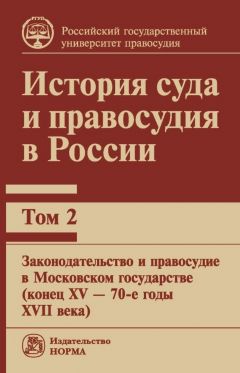
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Другая группа ученых придерживается мнения о том, что головной татьбой являлась татьба, соединенная с убийством. В частности, Л. В. Черепнин предполагает, что если производить термин «головная» от слов «годовщина» («головшина»), т. е. убийство, обвинение в убийстве лица, его совершившего, – «головник», то можно допустить, что головная татьба – это воровство, сопровождавшееся убийством. К тому же, оспаривая толкование головной татьбы как кражи холопов, исследователь ссылается на конкретный пример из судебной практики конца XV в., показывающий, что похищение холопов и их переправка за рубеж (точнее, судя по материалам дела, подстрекательство холопов к побегу от господина за границу) не влекли за собой смертной казни[374]374
См.: Судебники XV–XVI веков. С. 58.
[Закрыть]. С Л. В. Черепниным соглашается и С. И. Штамм, которая критикует интерпретацию головной татьбы как кражи холопов с сугубо классовых позиций, хотя и заявляет, что такая трактовка «не лишена основания»[375]375
Штамм С. Ж Судебник 1497 ц С. 43; РЗ. Т. 2. С. 70.
[Закрыть].
Представляется, что под головной татьбой следует понимать похищение свободного человека с целью его продажи в рабство. Это утверждение основывается на следующих двух соображениях. Во-первых, головного татя как похитителя людей определяет в своем переводе Судебника австрийский дипломат С. Герберштейн, посетивший Московское государство в первой трети XVI в. При этом он вряд ли мог допустить существенное искажение смысла головной татьбы, поскольку перевод для С. Герберштейна текста Судебника, а при необходимости и разъяснение применявшихся в нем понятий и обозначающих их терминов были сделаны теми (или тем), кто жил в эпоху действия данного закона и, разумеется, понимал их смысл. Во-вторых, квалификация головной татьбы как похищения свободного человека для продажи его в рабство находит подтверждение в двух нормативных правовых актах середины XVI в. и начала XVII в. Указ 1557–1558 г.[376]376
Законодательные акты русского государства второй половины XVI – первой половины XVII в. № 28. С. 49.
[Закрыть] вводил уголовную ответственность за обращение вольных людей в холопство путем оформления на них поддельных холопьих грамот. Наиболее важное с точки зрения интересующего нас вопроса положение Указа заключается в предписании казнить виновных и их сообщников, «как и головного татя». Таким образом, законодатель ставил знак равенства между составлением подложных холопьих грамот и головной татьбой, что было вполне оправданно, если под головной татьбой понималось похищение людей для их продажи в рабство. Несмотря на разные способы посягательства на правоохраняемый объект, и в том и в другом случае налицо было одно и то же преступление – незаконное лишение человека свободы. Похожая норма закреплена и в Сводном Судебнике 1606–1607 гг.[377]377
ПРП. Вып. IV. С 482–542.
[Закрыть] В главе 150 грани 12-й этого Судебника говорится о наказании тех, кто по сговору с таможенниками будет оформлять на вольных людей подложные холопьи грамоты. Как и Указ 1557–1558 г., Сводный Судебник предписывает «тех людей и таможников казнити смертною казнью, как и головного татя».
Характеризуя головную татьбу как похищение свободного человека с целью его продажи в рабство, мы присоединяемся к гипотезе Ю. Г. Алексеева о том, что прежде всего имелась в виду продажа похищенного за границу – крымским или казанским татарам. Обращая внимание на эпоху составления Судебника 1497 г., автор справедливо замечает, что в тех конкретных исторических условиях такие действия не могли восприниматься иначе как «тягчайшее преступление», ибо «жертва головного татя теряет не только свободу, но и родину, и православную веру – похищенный становится безродным невольником на восточном работорговом рынке». Именно этим объясняется «жесточайшее наказание» за головную татьбу[378]378
См.: Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 218.
[Закрыть].
Аргумент Л. В. Черепнина о неприменении смертной казни к похитителям холопов, с одной стороны, никоим образом не опровергает наш вариант толкования головной татьбы, поскольку в приведенном судебном примере в качестве похищенных фигурируют холопы, а не свободные люди, а с другой стороны, данный аргумент никак не подкрепляет собственную позицию Л. В. Черепнина, которая нам кажется чисто умозрительной.
В отношении состава статьи, предусматривающей «государское убойство», почти все ученые согласны с тем, что речь идет не об убийстве государя как монарха, а об убийстве зависимым человеком своего господина. В понимании же субъекта преступления и потерпевшего единства не наблюдается. Одна группа ученых настаивает на том, что государским убойцей являлся крестьянин, убивший своего землевладельца[379]379
См., например: История отечественного государства и права: курс лекций / под ред. Ю. М. Понихидина. Саратов, 2009. С. 64.
[Закрыть]. В обоснование такой позиции Л. В. Черепнин отмечает, что в юридических актах XV в., в частности в Псковской судной грамоте 1467 г., слово «государь» часто используется в значении землевладельца и владельца крестьян[380]380
См.: Судебники XV–XVI веков. С. 57.
[Закрыть]. Ю. Г. Алексеев, ссылаясь на памятники права, ставит под сомнение подобную трактовку, замечая, что «для крестьянина, жившего в вотчине или поместье, владелец вотчины вовсе не являлся «государем»…«Государем» владелец вотчины был только по отношению к лично зависимым слугам – холопам разных категорий». Поэтому, делает вывод Ю. Г. Алексеев, государское убойство означало убийство холопом своего господина. При этом убийца мог быть вовсе не «классовым борцом», как было принято считать в советской историографии, а обычным уголовным преступником, мстителем за личную обиду и т. п. [381]381
См.: Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 208–209.
[Закрыть]
Повышенная общественная опасность рассматриваемого преступления предопределялась двумя факторами. Главным из них было то, что убийство холопом своего господина разрушало «одну из основ всего средневекового общества, базировавшегося на строгой иерархии»[382]382
Там же. С. 208–209.
[Закрыть]. По словам П. Колосовского, такое убийство представляло собой «явное восстание против законных властей», имевшее «характер весьма опасный для государственного спокойствия», а потому оно «никогда не могло быть терпимо правительством и наказывается всегда примерно – в высшей степени». Другая же причина заключалась в том, что между господином и холопом «проходила не одна сухая связь власти и подчинения, а еще семейное начало: несвободные считались домочадцами господина, который в этом смысле является отцом как глава семейства. Отсюда кроме повиновения все члены фамилии должны быть связаны с ним сердечным чувством уважения, любви, почтения. Поэтому отвергший их и осмелившийся восстать против власти, которой он должен повиноваться сколько по повелению положительнаго закона, столько же и по внутреннему убеждению, судится и по нравственным мотивам так же строго, как отцеубийца»[383]383
Колосовский П. Очерк исторического развития преступлений против жизни и здоровья: Опыт исследования по русскому уголовному праву. М., 1857. С. 190.
[Закрыть].
Наряду с предположением о значении понятия «государский убойца» Ю. Г. Алексеев довольно убедительно объясняет причины появления данного преступления в Судебнике. Возражая против утверждения, что введение смертной казни за государское убойство «обусловливалось учащением случаев выступления зависимого населения против своих господ и необходимостью защиты жизни представителей господствующего класса»[384]384
РЗ.Т.2.С. 69.
[Закрыть], поскольку «дошедшие до нас источники по истории последних десятилетий XV в., как документальные, так и нарративные, о подобном «учащении случаев» ничего не говорят», автор высказывает мысль о том, что включение государского убойства в текст Судебника было связано с усилением государственных (публично-правовых) начал в русском уголовном праве. По словам ученого, «такое преступление, как убийство холопом своего «государя», имело место и раньше, но могло наказываться, так сказать, внесудебным порядком – личной расправой с убийцей. Именно поэтому, надо думать, древнерусское право не знало понятия «государский убойца». Убийство же холопа своим господином (а следовательно, и его правопреемниками, защитниками его интересов) во всяком случае не рассматривалось как правонарушение». Начиная же с Судебника казнь холопа-убийцы стала «не личным делом, а судебной акцией государственной власти. Государство берет на себя защиту интересов своих подданных, в данном случае – холоповладельцев»[385]385
Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 209.
[Закрыть].
Какое же из двух толкований государского убойства предпочтительнее? С терминологической точки зрения более аргументированным представляется второй подход, тем более что он находит подтверждение в Соборном уложении 1649 г. В ст. 9 гл. XXII четко указывается, что если «чей человек того, кому он служит, убьет до смерти», то «его самого» надлежит «казнити смертию же безо всякия же пощады». Под «Человеком» же в Уложении и других юридических актах понимается не кто иной, как холоп, тогда как крестьяне в различных документах эпохи так и именуются – «крестьяне» («хрестиане»). Следовательно, государское убойство в Соборном уложении определяется именно как убийство холопом своего господина.
Однако и трактовка государского убойства как убийства крестьянином своего помещика или вотчинника также имеет право на существование. Дело в том, что убийство крестьянином своего землевладельца в не меньшей степени, чем убийство холопом своего господина, бросало вызов установленной иерархической системе взаимоотношений между различными общественными группами, ведь крестьяне занимали свое особое место в социальной структуре русского общества. К тому же, покушаясь на жизнь своего помещика или вотчинника, крестьянин тем самым подрывал важнейший социальный принцип Московского государства – идею всеобщего служения, в соответствии с которой крестьяне служили своим помещикам и вотчинникам для того, чтобы те, в свою очередь, за счет труда своих крестьян могли служить Богу (духовенство) и государю. Поэтому, скажем, убийство крестьянином служилого человека, на чьей земле он трудился и проживал, лишало государя «боевой единицы» и, следовательно, снижало военный потенциал русской армии и обороноспособность страны. Таким образом, данное преступление посягало не только на личность, но и на два других правоохраняемых объекта – общественный строй и интересы государства, а потому требовало самого сурового наказания.
Скорее всего, понятием «государское убойство» охватывались оба вида убийства: и убийство холопом своего господина, и убийство крестьянином своего помещика или вотчинника. Об этом, в частности, свидетельствует судебная практика первой трети XVII в., обобщенная в Памяти от 15 января 1629 г. По поводу наказания убийц из числа зависимых людей в ней было сказано следующее: «В прошлом, в 128 г., в Вологодском уезде Семена Полибина убили до смерти крестьяне его четыре человека, и по боярскому приговору те убойцы созжены, а пятый его крестьянин, убойца ж, после сыскан и с женою сослан в Сибирь, а дети того убойца, который сослан в Сибирь, четыре сына да дочь-девка, по челобитью Федора Семенова сына Полибина, отданы во крестьяне Федору на отца их жеребий; да в прошлом, в 130 г., князя Федора Лыкова убили холопи, и тех убойцов дву человек казнили на пожаре смертью, руки, и ноги и головы им поотсекли; да в прошлом… году, июля в 19 д. в Переславле Залесском Алексея Смолина убили до смерти деловые люди три человека, и тех людей – одного казнили на Москве, руки, и ноги и голову отсекли, а другаго казнили в Переславле – повесили, а третий бит кнутом и сидел на Москве в тюрьме и по челобитью вдовы, Алексеевой жены Смолина, дан на чистую поруку и отдан ей во крестьяне; да в прошлом, в 134 г., мая в 26 д. в Галиче… дая Сытина убили до смерти с человеком его ж Чеадаевы крестьяне два человека, и те Чеадаевы крестьяне два человека в Галиче казнены смертью ж; да в прошлом же, в 136 г., июня в 24 д. в Белевском уезде убили Павла Лодыженскаго его люди два человека, Оношка да Безсонка, да крестьянин Исачка, и с пыток они говорили, что убили его за то, что он имал жен их и детей на постелю сильно, и в прошлом, в 137 г., марта в 20 д. государь… слушав статейнаго списка, для сына своего, благовернаго царевича Алексея Михаиловича, тех Павловых убойцов Лодыженскаго пожаловал, велел им в смерти место живот дать, сослать в Сибирь на пашню с женами, а мать Безсонка Савельева, вдова Авдотьица, да дети тех же убойцов, десять человек сынов и дочерей, отданы Павлова жене Лодыженскаго, вдове Анне с детьми»[386]386
Акты Московского государства, изданные Императорской Академией Наук. СПб., 1890. Т. 1. № 259. С. VIII,
[Закрыть].
Приведенный документ показывает единый подход судов к наказуемости убийства холопом своего господина и убийства крестьянином своего помещика или вотчинника. Для судей не имело значения, кем было совершено убийство – холопом или крестьянином, главным для них был сам факт убийства зависимым человеком своего господина. Поэтому и наказание для всех государских убойц в основном было одинаковым – квалифицированная, т. е. сопряженная с особыми мучениями для осужденного, или простая смертная казнь. Кстати, вполне возможно, что убийцы Чеадаева также были подвергнуты не простой, а мучительной смертной казни, но ее конкретный вид почему-то не был указан в документе. Не исключено и то, что и убийц Лодыженского могла ожидать та же участь, если бы они не были помилованы государем. В любом случае применение высшей меры наказания в ее наиболее суровых формах к холопам и крестьянам, покушавшимся на жизнь своих господ, подтверждает то, что государское убойство расценивалось как тягчайшее преступление не только законодателем, что нашло отражение в ст. 9 Судебника 1497 г., но и судами.
Трактовка государского убойства как посягательства на жизнь великого князя (царя)[387]387
См., например: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Развитие уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в России. Краснодар, 1999. С'. 21.
[Закрыть] или убийства должностных лиц[388]388
См.: Жильцов С. В. Смертная казнь в истории России. М., 2002. С. 77.
[Закрыть] не представляется обоснованной.
Такой состав преступления, как зажигательство, определяется в литературе либо как любой умышленный поджог[389]389
Там же. С. 77.
[Закрыть], либо как особое государственное (политическое) преступление – поджог города или крепости с целью сдачи его (ее) неприятелю[390]390
См.: Штамм С. И. Судебник 1497 Г, С. 41.
[Закрыть], для дестабилизации обстановки и провокации мятежа[391]391
См.: Рогов В. А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV–XVII вв. С. 92–93.
[Закрыть] или из классовой мести[392]392
См.: История отечественного государства и права: учебник / под ред. Р. С. Мулукаева. М., 2009. С. 88.
[Закрыть]. Между названными точками зрения нет принципиальных противоречий, разница между ними заключается лишь в том, что одна из них придает понятию «зажигательство» более широкий смысл, а другая сводит его к конкретным разновидностям умышленного поджога. Можно с большой долей уверенности предположить, что как зажигательство, каравшееся высшей мерой наказания, квалифицировались следующие виды умышленного поджога: 1) поджог в городе, чреватый массовой гибелью людей, уничтожением значительного числа жилых и иных сооружений, а также серьезной дестабилизацией обстановки – паникой и даже погромами и бунтами (в частности, как свидетельствуют летописи, в связи с пожарами в Москве в 1547 г. проводился розыск поджигателей, которых после поимки тут же «метали» в те же пожары[393]393
См.: Рогов В. А, История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV–XVII вв. С. 92–93.
[Закрыть]); 2) поджог с «изменнической» целью; 3) поджог из корыстных побуждений или из-за вражды.
Последние два вида зажигательства получили законодательное закрепление в Соборном уложении 1649 г., причем Уложение одинаково называет зажигальщиком как того, «кто умышлением и изменою город зажжет, или дворы» (ст. 4 гл, II), так и того, «кто некия ради вражды или разграбления зажжет у кого двор» (ст. 228 гл. X). Законодатель не проводит никаких различий между обоими преступлениями не только с точки зрения выбора термина для их обозначения, но и в определении наказания за их совершение. По Уложению и поджигатель-изменник, равно как и «рядовой» поджигатель, подлежат смертной казни одним и тем же способом – путем сожжения, в чем явно проявляется принцип талиона. В том случае, если поджог, даже и умышленный, произошел не в городе и при этом не повлек за собой причинения вреда жизни или здоровью людей, то смертная казнь, по всей видимости, исключалась. Об этом можно судить по двум приговорам в отношении лиц, виновных в сожжении монастырской деревни и митрополичьего двора[394]394
См.: Судебники XV–XVI веков. С. 59.
[Закрыть].
Единственным преступлением из числа закрепленных в ст. 9 Судебника 1497 г. у состав которого ученые истолковывают единообразно, является «коромола» (крамола). Под этим термином понимаются различные действия антикняжеского и антигосударственного характера, например заговоры с целью свержения великого князя, сношения с его врагами, сдача города или крепости неприятелю и т. д. Из традиционной характеристики крамолы явно выпадает точка зрения на это преступление, высказанная Б. А. Осипяном. По его словам, крамола представляла собой «богопротивное вольнодумство»[395]395
Осыпян Б. А. Русский Судебник 1497 г. как право-идеологическая основа зарождения централизованного государства // История государства и права. 2011.№ 4.С.25.
[Закрыть], т. е. являлась в глазах ученого религиозным преступлением (еретичеством). К сожалению, никаких аргументов в подтверждение своей позиции Б. А. Осипян не приводит, поэтому его толкование крамолы, при всей его оригинальности, нельзя признать научно состоятельным.
Если понятие «коромольник» не вызывает особых разночтений, то с термином «подымщик» дело обстоит совершенно иначе. Разброс мнений таков, что проблема кажется неразрешимой. Однако, на наш взгляд, не все так бесперспективно, если принять во внимание тот факт, который, кстати, констатируется всеми исследователями Судебника 1497 г., что упоминаемый в ст. 9 подымщик отсутствует в аналогичных по своему содержанию ст. 61 Судебника 1550 г. и ст. 115 Судебника 1589 г., где он заменен на термин «подмётчик». В сочинении С. Герберштейна подымщика тоже нет, но зато есть podmetchek (подмётчик). Наконец, ни в одном нормативном правовом или судебном акте ни до, ни после Судебника 1497 г. подымщик в отличие от того же подметчика также не фигурирует.
Невозможно представить, чтобы преступление, которое составители Судебника 1497 г. считали настолько важным, что включили его в специальный перечень наиболее опасных преступных деяний, впоследствии вдруг бесследно исчезло. Подобная «пропажа» тем более была бы поразительной, поскольку все остальные преступления, перечисленные в ст. 9, никуда не делись, и в том или ином виде встречаются в последующих юридических источниках. Единственное приемлемое объяснение всем этим странностям, на наш взгляд, дано Ю. Г. Алексеевым и А. Л. Хорошкевич, по мнению которых подымщик Судебника 1497 г. – это всего лишь результат описки, допущенной в единственной дошедшей до нас рукописи данного памятника права[396]396
См.: Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 219; Хорошкевич А. Л. Судебник 1497 г. в переводе и редакции Сигизмунда Герберштейна // Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв. М., 2000. С. 128.
[Закрыть]. Поэтому до тех пор, пока не будут обнаружены какие-либо документы, подтверждающие, что такое преступное деяние, как подым, реально имело место и, соответственно, его появление в тексте Судебника не было следствием ошибки писаря сродни той, что привела к появлению на свет пресловутого «поручика Киже» в эпоху императора Павла Петровича, следует признать необоснованными любые варианты непосредственного толкования термина «подымщик» (например, как заговорщик, мятежник[397]397
См., например: История отечественного государства и права: учебник / под ред. Р. С. Мулукаева. С. 88.
[Закрыть], антиправительственный агитатор[398]398
См., например: Акмалова А. А. История отечественного государства и права: учеб, пособие. М., 2010. С. 56; Тихонов А. И. История отечественного государства и права: учеб, пособие, М., 201L С, 23.
[Закрыть], лицо, поднимающее народ на восстание[399]399
См., например: История отечественного государства и права: учебник / под ред. О. И. Чистякова. М., 2010. Ч. 1. С. 173; Кузнецов И. Н. История государства и права России: учеб, пособие. М., 2010. С. 171.
[Закрыть] или пытающееся насильственно свергнуть власть [400]400
См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Развитие уголовного и уголовно-исполнительного права. С. 21.
[Закрыть], как поджигатель дома, двора, помещения[401]401
См;., например: Мусаелян М. Ф. Историко-правовой анализ уголовного законодательства об ответственности за терроризм в России (XI – начало XX в.) // История государства и права. 2009. № 13. С. 28.
[Закрыть]).
В трактовке понятия «подмёт» наиболее адекватной представляется его характеристика как преступления против правосудия, заключавшегося в подкидывании невиновному лжеулик для последующего обвинения его в преступлении[402]402
См.: ПРП. Вып. III. С. 383; Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 218–221.
[Закрыть]. Эта точка зрения выглядит предпочтительной по двум причинам. Во-первых, именно так интерпретирует подмет С. Герберштейн, отмечающий, что подметчик – это человек, который тайно относит имущество в чужой дом и затем заявляет, что оно было у него украдено[403]403
См.: Герберштейн С. Московия. М., 2008. С. 183.
[Закрыть]. Учитывая же вышеуказанные «особенности перевода» для Герберштейна текста Судебника, его толкование, думается, заслуживает доверия. Во-вторых, точно такое же значение «подмет» имеет и в Соборном уложении 1649 г., ст. 56 гл. XXI которого как раз посвящена ответственности тех, «кто кого… подкинет чем напрасно». Несмотря на то что по сравнению с Судебниками 1497, 1550 и 1589 гг. Уложение несколько смягчило наказание за подмет, заменив смертную казнь на «нещадное» битье кнутом и штраф, законодатель середины XVII в. по-прежнему совершенно справедливо расценивал его как одно из опаснейших преступлений против правосудия, не только существенно затрагивающих интересы личности, но и, самое главное, препятствующих установлению истины по делу и тем самым подрывающих авторитет суда. Опасность подмета обусловливалась еще и тем важным значением, «какое придавалось поличному в годы функционирования Судебников 1497 и 1550 гг.»[404]404
Жильцов С. В. Смертная казнь в истории России. С. 74.
[Закрыть].
Глава 14
Система преступлений и наказаний по Судебнику 1497 года
В число самых опасных уголовно-противоправных деяний Судебник включает крамолу, т. е. государственное (политическое) преступление, посягавшее на верховную власть, безопасность и целостность государства. Субъектами данного преступления были преимущественно лица, принадлежавшие к высшим социальным слоям, хотя и рядовые подданные – противники верховной власти могли караться ею как изменники. Государственным (политическим) преступлением также являлся поджог с изменнической целью.
По мнению отдельных ученых, применительно к государственным (политическим) преступлениям предварительная преступная деятельность в виде приготовления к преступлению, т. е. создания предпосылок для его совершения, и покушения на преступление, при котором лицо совершало действия, непосредственно направленные на достижение поставленной цели, судя по всему, приравнивалась к оконченному преступлению. Иными словами, неудавшееся посягательство на государственный строй или особу монарха наказывалось так же, как если бы лицо смогло довести задуманное до конца. Равным образом, вероятно, карался даже «голый» умысел, т. е. одно обнаружение намерений совершить преступление, не подкрепленное никакими действиями[405]405
См.; Штамм С. К Судебник 1497 г. С. 37–38; ПРП. Выл. VI. С. 32.
[Закрыть].
Сравнительно много внимания уделялось в Судебнике преступлениям против правосудия и примыкавшим к ним преступлениям судебных чиновников, что доказывало осознание законодателем важнейшей роли суда и лиц, непосредственно участвующих в отправлении правосудия, с целью обеспечения, в том числе и с помощью средств уголовного права, эффективной судебной деятельности. Закрепленные Судебником преступления этого рода распадались на служебные преступления должностных лиц судебного ведомства и преступления, совершавшиеся частными лицами, препятствующие вершению правосудия.
В отношении судей Судебник ввел два запрета. С одной стороны, судья был не вправе отказать обратившемуся к нему лицу в судебной защите и обязан был или принять дело к производству, или передать его по подсудности (ст. 2). С другой стороны, Судебник отменил прежний узаконенный обычай, согласно которому судья мог получать от заинтересованных лиц «посулы» за выполнение своих функций[406]406
Статья 4 Записи о душегубстве 1456–1462 г. // РЗ. Т. 2. С. 187–189.
[Закрыть] (что воспринималось судьями в качестве само собой разумеющейся платы за проявленное судьей прилежание в разборе дела), и установил, что при отправлении правосудия судье категорически не дозволяется брать взятки (посулы). Данный запрет касался всех судей – как московских, так и провинциальных (ст. 1, 38). При этом в целях более эффективной борьбы с посулами Судебник запретил не только брать их, но и давать, постановив объявить во всеуслышание, «чтобы ищея и ответчик судиам и приставом посулу не сулили в суду» (ст. 67), т. е. за подкуп судьи или судебного работника подвергнуть истца или ответчика, совершивших подобное действие, позорящему наказанию.
Посвященная «неправому суду» норма Судебника (ст. 19) излагалось недостаточно четко и не давала точного ответа на вопрос о том, какое именно неправосудие – умышленное или нет – имелось законодателем в виду. Однако сравнение соответствующих статей Судебников 1497 г., 1550 г. (ст. 2) и 1589 г. (ст. 2 Пространной редакции) позволяет утверждать, что в Великокняжеском Судебнике речь шла о «безхитростном» неправосудии. Его правовые последствия заключались в том, что вынесенный «не по суду» приговор аннулировался, стороны приводились в первоначальное положение, а истцу предоставлялось право пересмотра дела. Судья же, принявший неправильное решение, ответственности не подлежал.
Запрет взяточничества помимо судей также распространялся на остальной судебный персонал: дьяков, приставов (недельщиков), тиунов и холопов кормленщиков, сборщиков пошлин (ст. 1, 33 и др.). Кроме того, Судебник содержал ряд предписаний, регламентировавших работу вспомогательного судебного аппарата. В частности, закон не разрешал недельщикам исполнять служебные полномочия по месту жительства (ст. 31), отдавать находившихся под стражей преступников на поруки без доклада судье (ст. 35), предписывал пытать их добросовестно и непредвзято («безхитростно») (ст. 34) и т. д.
Применительно к недельщикам законодатель вообще старался предусмотреть все возможные варианты злоупотреблений с их стороны, поскольку прекрасно понимал, что «кормленная основа должности объясняет непреодолимость стремления недельщиков к получению как можно большего «корма» в виде пошлин, как законных, так и незаконных». Поэтому впоследствии почти все эти запреты практически без изменений перекочевали из Судебника 1497 г. в Судебник 1550 г., а затем и в Уложение[407]407
См.: Енин Г. П. Словесный воеводский суд (Исследование и источник). СПб., 1995. С. 50.
[Закрыть].
Впрочем, бесспорным недостатком Судебника было отсутствие наказаний за нарушение всех указанных запретов, что явно снижало предупредительный потенциал уголовно-правовых норм, хотя и не превращало их в «чистые декларации», как излишне категорично заявляют некоторые ученые[408]408
См.: Дворянское И. В., Друзин А. И., Чучаев А. И. Уголовно-правовая охрана отправления правосудия: историке-правовое исследование / отв. ред. И. А. Исаев. М., 2002. С. 24; Подосенов О. П. Уголовное право России периода сословно-представительной монархии (середина XVI – середина XVII вв.). Красноярск, 2000, С. 31, 53.
[Закрыть].
Преступлениями частных лиц против правосудия являлись:
1) ябедничество (ст. 8, 39), т. е. ложное обвинение лица в преступлении;
2) подмет, т. е. подбрасывание невиновному лжеулик для последующего обвинения его в преступлении;
3) неявка «послуха» (свидетеля) в суд независимо от того, мог ли он дать показания по делу или нет (ст. 50);
4) лжесвидетельство (ст. 67). По мнению некоторых ученых, разработчики Судебников относили данное деяние к преступлениям против веры[409]409
См., например: Голоднюк Н. М. История развития законодательства об ответственности за преступления против правосудия // История развития уголовного права и ее значение для современности. М., 2006, С. 88; Кулешов Ю. И. Некоторые аспекты эволюции правовых норм об ответственности за преступления против правосудия в российском законодательстве//История государства и права. 2010. № 14. С. 13.
[Закрыть], однако такой вывод безоснователен, в чем достаточно легко убедиться, сравнив формулировки статей Судебников о лжесвидетельстве с соответствующими постановлениями Стоглава;
5) отказ посторонних («опришных») лиц, не имевших права «у поля стояли», покинуть место проведения судебного поединка («поля») (ст. 68). Своими действиями такие лица нарушали принцип равенства сторон в поединке, а следовательно, ставили под сомнение справедливость судебного решения, которое базировалось на его исходе[410]410
Си.: Дворянское И. В., Друзин А. И., Чучаев А. И. Указ. соч. С. 26.
[Закрыть],
Традиционно высокий интерес законодателя вызывали имущественные (экономические) преступления, причинявшие серьезный ущерб не только отдельным собственникам, но и обществу в целом, поскольку отношения собственности служат фундаментом экономики государства. Из преступлений этого рода Судебнику были известны хищения в форме разбоя, грабежа, кражи и растраты, приобретение краденых вещей, зажигательство, «пожег», уничтожение межевых знаков и перепашка чужой земли.
Анализ памятников права XV–XVII вв. дает ученым основание утверждать, что, с одной стороны, «разбой и грабеж выражали собой два различных по внутреннему составу правонарушения», а с другой – «разграничение этих понятий не всегда выдерживалось в законодательных и судебных актах», в которых «нередко выражения «разбой» и «грабеж» употреблялись безразлично, как выражения тождественные»[411]411
Тальберг Д. Г. Насильственное похищение имущества по русскому праву (разбой и грабеж): историко-догматическое исследование. СПб., 1880. С. 73.
[Закрыть], Подобное смешение юридически значимых признаков разбоя и грабежа, которое порой могло становиться неразрешимой головоломкой даже для самих судей (как в ранее упомянутом случае из практики Разбойного приказа начала XVII в.), разумеется, не позволяет однозначно определить суть этих преступлений, поэтому их уголовно-правовая характеристика может быть только условной.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что под разбоем (ст. 7, 8 и другие статьи Судебника) понималось открытое, явное нападение с целью завладения чужим имуществом, которое сопровождалось применением к потерпевшему насилия и угрозой его применения и которое отличалось особым субъектным составом. Специфика последнего заключалась в следующем. Во-первых, разбой являлся преимущественно групповым преступлением, в совершении которого участвовали не просто несколько лиц, а шайка, банда, т. е. заранее организованная устойчивая преступная группа. При этом в банде, как правило, существовала жесткая иерархия и распределение ролей между соучастниками. По словам Н. Калачева, разбойники «разделялись иногда на партии, имели участников и притоны в самых селениях, которые они разбивали и грабили, и доставшуюся добычу распределяли между собою по мере участия в деле («повытно»)». Разбойничьи шайки «имели в своей главе начальников, которые назывались атаманами и избирались в эту должность своими товарищами; иногда им придавался в помощь податаман (курсив наш. – Авт.)»[412]412
Калачев Н. В. Артели в древней и нынешней России. СПб., 1864. С. 16–17.
[Закрыть]. Во-вторых, субъектами разбоя были именно разбойники, «лихие» люди, бандиты, которые преступное приобретение чужой собственности обратили в ремесло, в промысел и для которых антиобщественный, бандитский образ жизни стал смыслом существования. Оба указанных признака субъекта разбоя в своей совокупности и составляли его сущность, поэтому «в тех случаях ограбления с злоумышленною целью, где не было понятия шайки или совершения преступления в виде постоянного занятия, московское законодательство не видело разбоя и не употребляло этого термина»[413]413
Тальберг Д. Г. Указ. соч. С. 75.
[Закрыть].
Грабеж упоминается в Судебнике 1497 г. только в одной статье (ст, 48) и без определения каких-либо признаков. Другие правовые акты XV в, – первой половины XVI в. также не раскрывают его состав. Поэтому четко уяснить сущность данного преступления в настоящий период и прежде всего ответить на вопрос о том, входил ли признак применения насилия к потерпевшему в юридическую конструкцию грабежа, не представляется возможным. Ясно лишь то, что грабеж, как и разбой, являлся открытым посягательством на чужое имущество, но в отличие от последнего его субъектом был не разбойник, а другое лицо.
В противоположность разбою и грабежу татьба (ст. 7—14, 34 и др.) была не открытым, а тайным хищением чужого имущества. Татьба могла быть как простой, т. е. без отягчающих и смягчающих обстоятельств, так и «квалифицированной» – с отягчающими обстоятельствами. Максимально сурово наказывались следующие виды кражи:
1) церковная татьба, т. е. хищение из церкви священных предметов;
2) повторная татьба.
Независимо от вида татьбы стоимость украденного уголовно-правового значения не имела.
При ознакомлении с соответствующими положениями юридических актов не может остаться незамеченным то, что в них часто говорится не просто о татьбе, а о татьбе с поличным. По словам М. Ф. Владимирского-Буданова, «в первой половине московского периода резко отличается татьба с поличным (курсив наш. – Авт.) и без поличного, так что собственно татьбой в уголовном смысле называется лишь первая»[414]414
Владимирский – Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 411–412.
[Закрыть] (последнее утверждение нам кажется слегка преувеличенным). В дальнейшем подобный взгляд на татьбу постепенно исчезает, и в таких важнейших в уголовно-правовом отношении памятниках права XVII в., как Уставная книга Разбойного приказа 1635–1648 гг., Уложение и Новоуказные статьи, татьба с поличным и без него уже не различаются.
Поличное в эпоху Московского государства стало трактоваться иначе, чем прежде. Если ранее под ним понималась поимка преступника на месте преступления [415]415
См.: Шумаков С. А. Губные и земские грамоты Московского государства. С. 80.
[Закрыть], то теперь оно законодательно определялось, например в Уставной грамоте переяславским рыболовам от 7 апреля 1506 г.[416]416
ААЭ. Т. 1. № 143.
[Закрыть] или в Уставной грамоте крестьянам Артемоновского стана Марининской трети от 9 апреля 1506 г.[417]417
Там же. № 144.
[Закрыть], следующим образом: «А поличное то, что выймут из клети, из за замка; а найдут во дворе или в пустой хоромине, а не за замком, то неполичное». Более развернутое определение поличного содержалось в Уставной грамоте Устюжны Железопольской от 5 июня 1614 г.: «…а кто у кого вымет поличное в избе, или в клети, или в какове хоромине ни буди, за замком, а лошадь или корову в дворе или в хоромине за запором, ино то поличное; а кто у кого вымет поличное в избе, или в клети в житейской, или в пустой хоромине, не за замком, или лошадь ли корову в хлеве не заперто, то не поличное»[418]418
Там же. Т. 3. № 37.
[Закрыть],
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































