Текст книги "Повседневная жизнь в эпоху Жанны д'Арк"
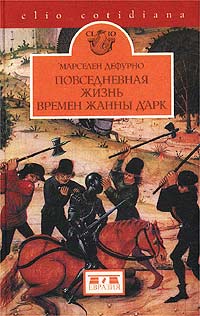
Автор книги: Марселен Дефурно
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Население Парижа, революционная сила. Обращение к общественному мнению и народные «дни». Террор и надзор полиции. Осажденный город. Голод и дороговизна жизни. Колебание монеты и его последствия для общества. Народные праздники и гулянья. Возрождение Парижа.
Полному восхищения образу Парижа, созданному Эсташем Дешаном и Гильбертом Мецским, «Дневник Парижского горожанина» несколько лет спустя противопоставил совершенно иную, куда более сумрачную картину В течение тридцати лет, между 1407 и 1437 г… столица Франции жила в атмосфере мятежа и гражданской войны, городу пришлось узнать длинную череду запретов, изгнаний, казней, народных «дней», избиений и убийств.
Париж был главной ставкой в борьбе, которую вели между собой арманьяки и бургиньоны. Между 1405 ч 1418 г. столица трижды переходила из рук в руки:
следом за диктатурой бургиньонов и Кабоша настал период арманьякского «террора», которому в 1418 г. положило конец «внезапное нападение», в результате которого город вновь перешел к бургиньонам. Затем. после подписания договора в Труа, начался период английского господства, продолжавшийся до 1437 г., когда Карл VII вернулся наконец туда, где положено находиться государю.
Но Парижу досталась не только пассивная роль в борьбе партий: его население стало главным действующим лицом драмы, которая разыгрывалась в то время, и именно вмешательство горожан придало конфликту враждующих феодальных группировок вид социальной войны. В самом деле: внутри парижского населения бок о бок существовали весьма разнообразные элементы, чьи интересы были прямо противоположны. Здесь были «должностные лица», занятые в различных службах монархического управления и – как по традиции, так и благодаря принадлежности своей к определенному сословию – поддерживавшие порядок и законность. Здесь были знатные сеньоры с их феодальным окружением и толпами слуг, заполнявшими их отели. А кроме них – ученые, считавшие себя облеченными миссией нравственного руководства и желавшие навязывать свое мнение при решении встававших перед государством серьезных вопросов, и, наконец, весь трудящийся люд: торговцы, мастера и подмастерья, уровень жизни которых сильно разнился.
Но иногда все эти разнородные элементы ухитрялись объединяться в приливе общего недовольства. Плохое управление королевством, непомерные расходы, из-за которых население облагали все более и более тяжкими поборами, денежные изменения, сказывавшиеся на торговых сделках, – все это затрагивало интересы многих, в том числе и ремесленников, и горожан. Во времена диктатуры кабошьенов мы увидим, как городские верхи и Университет, опираясь на народные массы, станут добиваться реформ. Но, как правило, образ мыслей и чаяния разных «классов» были прямо противоположны, союз между принадлежавшими к высшей буржуазии «royetaux de grandeur» и живущими трудом своих рук подмастерьями не мог быть прочным. И действительно: представители буржуазии, равно как и университетские «интеллектуалы», очень скоро испугались разгула народной ярости, когда бурно выплеснулись наружу скопившиеся за годы зависть и социальная озлобленность.
В течение двадцати лет главными борцами за народное дело выступали мясники, игравшие роль, несопоставимую с их численностью, но объяснявшуюся совершенно особым положением, которое они занимали в цеховом мире. Мастера-мясники, объединявшиеся в два цеха, Большую Бойню и Бойню Сент-Женевьев, не входили в «шесть корпораций», составлявших буржуазную аристократию начала XV в. Хотя богатство и образ жизни, который они вели, несомненно, давали основания причислить их к самой верхушке зажиточных горожан, однако природа их ремесла (которым они в принципе должны были заниматься собственноручно) перемещало их, если говорить об их положении в связи с нравственным смыслом деяний, на куда более низкую ступень, сближая с простонародьем. С ними были связаны множество забойщиков скота, живодеров, жестоких людей, привыкших к виду крови, – из этой среды впоследствии выйдут главари народных восстаний. Именем одного из них, Кабоша, будет названа демагогическая диктатура, просуществовавшая с 1410 по 1413 г.
Парижское население представляло собой силу тем более грозную, что оно было организованным с военной точки зрения: жители каждого квартала были объединены в «десятки» и «полусотни» под командованием «квартальных», «десятников» и «пятидесятников». Во главе этого народного ополчения стоял «капитан города» («capitaine de la ville»), в чьи обязанности входило обеспечение безопасности столицы и организация ее защиты во времена внутренней или внешней опасности. В такие периоды горожанам предписывалось держать в домах запас воды (на случай пожара) и с наступлением темноты зажигать у ворот фонарь; кроме того, различные ремесленные корпорации должны были поочередно патрулировать улицы и городские укрепления. Одно из средств обороны особенно нравилось парижскому люду: цепи, которые на ночь протягивали поперек улиц, чтобы помешать вооруженному войску быстро развернуться в столице. Но в случае народных волнений те же цепи можно было использовать и в качестве «баррикад», и потому после восстания майотенов[39]39
Майотены (молотилы) – прозвище парижан, восставших в 1382-1383 гг. из-за роста налогов и развала промышленности и торговли в стране.
[Закрыть], случившегося в начале царствования Карла VI, королевская власть предпочла отнять у городского населения привилегию ими пользоваться; но в 1405 г. она будет возвращена парижанам герцогом Бургундским. А потом арманьяки, сделавшись хозяевами Парижа, снова отнимут у горожан излюбленное народом право на протягивание цепей поперек улиц, и оно будет возвращено им только в 1418 г.
Итак, в Париже существовали элементы «уличного войска», к чьей помощи можно было прибегнуть для того, чтобы угрозой и силой подкрепить определенные требования, но это «уличное войско» крайне трудно было обуздать и успокоить после того, как оно расходилось вовсю. Группировкам, оспаривавшим друг у друга власть, необходимо было обеспечить себе материальную и моральную поддержку Парижа. И потому в эти беспокойные годы с той и другой стороны то и дело раздавались «призывы к общественному мнению» в виде манифестов, памфлетов, объявлений и даже проповедей.
Бургундский герцог Иоанн Бесстрашный умел особенно ловко управлять общественным мнением: именно он дважды возвращал «цепи» народу Парижа. Кроме того, заботясь о сохранении собственной популярности у мясников, он присылал руководителям корпорации бочки с вином из своих бонских виноградников, а в 1412 г. пешком следовал за гробом одного из мастеров Большой Бойни, Жиля Легуа. Не менее почтительно он вел себя с преподавателями Университета, подчеркивая, что относится к ним с величайшим уважением, и предлагая им высказывать свои мнения по поводу планов правительственных реформ. Кампания, которую Иоанн Бесстрашный вел против Людовика Орлеанского, обвиняя его и клевеща на него, достигла наконец своего пика: в один прекрасный день Иоанн Бесстрашный приказал убить своего кузена, а затем попытался оправдать свое преступление на ассамблее в отеле Сен-Поль перед королевскими служащими и представителями Университета, которым пришлось выслушать длинную обвинительную речь метра Жана Пти, возложившего на жертву ответственность за все свалившиеся на королевство беды и несчастья.
Представители другой партии старались склонить общественное мнение на свою сторону теми же методами. Через несколько недель после ассамблеи в отеле Сен-Поль другой университетский магистр по настоянию вдовы убитого, Валентины Висконти, прибывшей в Париж в сопровождении облаченной в траур свиты, опроверг выдвинутые Жаном Пти обвинения. Каждый старался свалить на противника ответственность за развязывание военных действий или провал мирных переговоров. Обвинители не пощадили даже самого короля и его ближайшее окружение: во время диктатуры кабошьенов на дверях церквей вывешивались клеветнические пасквили, и после возвращения арманьяков советники короля сочли необходимым на них ответить. Народ звуками трубы сзывали на городские площади, и глашатай зачитывал королевские грамоты, текст которых впоследствии вывешивался на порталах: «Мы желаем, чтобы истина сказанных раньше вещей была известна всем и каждому, желаем избежать всяческих ошибок и неразумных чаяний, которые могли бы с различными целями и намерениями ввести в заблуждение человеческие сердца…» За этим предисловием следовал подогнанный под потребности арманьякской пропаганды рассказ о событиях, которыми была отмечена бургиньонская диктатура.
Существует верный способ завоевать симпатии народа: пообещать ему упразднить налоги. Но совершенно очевидно, что к этому способу может прибегнуть лишь тот, кто в данный момент не облечен ни ответственностью, ни властью. В 1417 г. – в то время как Париж находился в руках его противников – Иоанн Бесстрашный обратился к главным городам государства с манифестом (а тайные эмиссары распространяли экземпляры этого манифеста в самой столице), обещая всем, кто его поддержит, «что отныне они не будут платить податей, пошлин, налогов, налога на соль, ни какой-либо другой дани, как того требует благородное имя Франции». Другой действенный способ затронуть общественное мнение: пустить слух, приписывающий партии противника самые чудовищные – и иногда самые невероятные – планы. Этот способ тоже использовали достаточно активно. Так, в 1413 г., к тому моменту, когда население Парижа уже устало от господства кабошьенов и жаждало восстановления мира между обеими партиями, кабошьены начали кампанию против соглашения с арманьяками, «поскольку арманьяки, не считаясь с желаниями парижан, поступят, как им будет угодно… Хорошо известно, – пишет сочувствующий бургиньонам Парижский горожанин, – что они всегда будут хотеть разрушения славного города Парижа и уничтожения его жителей». Несколькими годами позже бургиньоны распустили слух, будто их противники готовят массовую резню населения, и натаскали к себе все полотно, какое только смогли найти, чтобы сделать из него мешки, в которых собираются топить в Сене парижских женщин. Для того чтобы придать достоверности этой выдумке, были прибавлены «точные» детали:
«Всем, кто не должен был умереть, следовало вывесить на доме черный щит с красным крестом…»
Подобные слухи, способствовавшие тому, что немедленно возникала паника, стали причиной нескольких наиболее кровавых «дней» той эпохи: в 1418 г., сразу после возвращения бургиньонов, распространился слух о том, что арманьяки вот-вот попытаются отбить столицу при помощи оружия. Тотчас же улицы заполнила вооруженная толпа. Поднять тревогу не удалось, но в толпу был брошен приказ, тот самый, который будет еще раздаваться и в другие революционные эпохи: необходимо покончить с «внутренними врагами», которые плетут заговоры даже в тюрьмах, куда их заточили! Народ, поначалу бросившийся к укреплениям, отхлынул к королевскому дворцу, где были заперты некоторые арманьякские предводители, несколькими днями раньше захваченные в плен. «Они распалились сверх всякой меры, снесли двери, разбили замки и в полночь, войдя в темницы этого дворца, принялись кричать во все горло: „Убейте, убейте этих псов, предателей-арманьяков“ и „От Бога отрекаюсь, если хоть один сегодня ночью останется в живых!“». Затем толпа направилась в другие тюрьмы, в Пти Шатле, Гран Шатле, Фор-л'Эвек, Сен-Маглуар, Тампль, убивая без разбору всех, кто там находился, «в том числе и многих попавших туда из-за судебного разбирательства или за долги, хотя они и держали сторону Бургундии», – пишет Монстреле. Власти тщетно пытались положить конец резне: «Когда (королевский) прево увидел, до чего они распалились… он прекратил взывать к разуму, жалости или справедливости и просто сказал им: „Делайте что хотите, друзья мои…“
Несколько недель спустя волнения разгорелись еще с большей силой, подогреваемые озлоблением, вызванным дороговизной жизни (Париж в то время был наглухо окружен арманьяками, препятствовавшими подвозу продовольствия). Народ с оружием в руках двинулся в Шатле, узники которого, догадавшись о том, какая участь их ожидает, попытались сопротивляться и стали бросать в нападавших камни и черепицу. Но осаждавшие тюрьму взобрались по лестницам на стены, узников со стены побросали на мостовую, где и прикончили. Затем волна народа хлынула к укрепленному замку Сент-Антуан. Герцог Бургундский, которого известили о происходящем, попытался утихомирить мятежников, но у него ничего не вышло. Толпа потребовала выдать всех узников, чтобы под надежной охраной препроводить их в Шатле, «потому что, говорили они, тех, кого помещают в этот замок (Бастилию), потом всегда освобождают за деньги, а после выпускают наружу через поля, и они творят еще больше зла, чем прежде». Герцог согласился выдать заключенных – при условии, что им будет гарантирована жизнь, но когда сопровождавшее их войско добралось до Шатле, крепость была окружена толпой, и «у них сил недоставало спасти узников, и сами они покрылись ранами». Охота на арманьяков продолжалась всю следующую ночь, и улицы к утру оказались завалены трупами.
Должно быть, подобные дни были исключением, но все же они показывают, в состоянии какого постоянного напряжения жило население Парижа, и высвечивают многочисленные раздражающие факторы, в конце концов приводившие к этим кровавым сценам. К числу таких факторов относились дороговизна жизни, угроза голода, полное прекращение дел, ненависть простого народа к тем, «у кого водятся деньги» и кто благодаря этому может избежать наказания, наконец, патриотизм, который при одном только упоминании о предательстве возбуждал толпу и толкал ее на худшие крайности.
Это состояние напряжения поддерживалось системой террористической диктатуры, которая в течение почти двух десятков лет тяготела над Парижем. Бургиньоны и арманьяки, поочередно овладевавшие столицей, прибегали к одним и тем же методам правления, только с более демагогическими тенденциями у бургиньонов, чьими главными союзниками были мясники и их приспешники. Побежденного противника не щадили, и каждая «перемена большинства» приводила к одним и тем же последствиям: смещение с должностей и назначение на все важные посты – в превотстве, военном правительстве города, канцелярии, – «надежных» (читай – «своих»!) людей, в то время как занимавшие их накануне люди бывали осуждены, приговорены, казнены, если только им не удавалось ускользнуть. После возвращения арманьяков в 1414 г. «те, кто был приближен к королевскому правлению и управлению добрым городом Парижем… одни бежали во Фландрию, другие в заморскую Империю… но почитали себя очень счастливыми, если могли бежать как бродяги, или пажи, или конюхи, или еще каким-нибудь таким способом»7 . Для того чтобы беглецы не могли оставить в городе сообщников, их жены были изгнаны из столицы и под надежной охраной препровождены в местности, подчинявшиеся армань-якам. Надо отметить, что при этом жене не давали разрешения присоединиться к мужу.
Тех, кому бежать не удалось, ждал скорый суд победителей. В статьях обвинений – всегда одних и тех же и всегда одинаково способных возмутить общественное мнение – недостатка не было: растрата государственных средств, хищения, заговор с целью сдать город врагу и способствовать его разорению. Казнь превращалась в настоящее представление, устроенное с целью доставить народу удовольствие видеть, как вчерашних его хозяев, все еще украшенных знаками отличия, везут в повозке к месту пыток. Жан де Монтегю сделался очень непопулярным из-за своего слишком быстрого обогащения, непомерных расходов и постройки роскошного отеля в Орсе и стал первой жертвой бургиньонского террора в 1409 г.
«Где же Монтегю мог взять
Средства, чтобы сюда вложить?..» –
спрашивалось в сатирическом куплете, появившемся за несколько лет до того. А когда Монтегю схватили и пытали, он признался во всем, в чем его обвиняли, и даже признал, что старался при помощи колдовства умертвить короля. К месту казни его доставили на телеге, на которой было установлено некое подобие трона, а впереди шли два трубача. Приговоренному пришлось облачиться в парадный костюм мажордома королевского двора, наполовину белый, наполовину красный упланд, а на ногах у него были золотые шпоры.
Подобным же церемониалом, но на этот раз во времена арманьякского террора, сопровождался «провоз» по Парижу Никола д’Оржемона, обвинявшегося в заговоре с целью возвращения бургиньонов в столицу. «Одетый в длинный фиолетовый плащ и такую же шляпу», он был вместе с двумя сообщниками, университетским магистром и бывшим эшевеном, привезен на телеге на рыночную площадь. Сообщников обезглавили у него на глазах, сам же он благодаря своему духовному званию казни избежал, но закончил свои дни в тюрьме.
Казни тех, кто вызвал в народе особенно сильное негодование, особенно старались сделать публичными: Коллине де Пюизе, отдавший арманьякам мост Сен-Клу (от которого в значительной степени зависело снабжение Парижа продовольствием), был обезглавлен на рыночной площади, затем его тело разрубили на части, все четыре конечности прибили к главным воротам города, обрубок тела повесили на монфоконской виселице, а голова, насаженная на пику, осталась на рыночной площади, выставленная на всеобщее обозрение.
В эти трагические годы недели не проходило без того, чтобы кого-нибудь не казнили; осужденных, нередко под крики толпы, провозили по городу, и это становилось чем-то вроде уличного представления. Иногда на монфоконской виселице болталось по три десятка тел, над которыми кружили хищные птицы. При каждой смене власти к казням людей, приговоренных судом, прибавлялись скорые расправы и массовые убийства, когда жертвами становился каждый, кто попал под горячую руку. Во время великого кабошьенского террора достаточно было, по словам Жювенеля дез Юрсена, крикнуть: «Вот арманьяк!», чтобы несчастного, на которого таким образом указали, убили на месте.
Именно потому население города всякий раз спешило наглядно продемонстрировать свою, по крайней мере, внешнюю лояльность к сегодняшним хозяевам и украсить себя их эмблемами. Четыре раза за семь лет, между 1411 и 1418 г., Париж менял внешность: в октябре 1411 г. парижане украсили себя андреевским крестом, эмблемой герцога Бургундского, чья популярность к тому времени достигла предела, «и не прошло и пятнадцати дней, как в Париже насчитывалось не меньше сотни тысяч человек, взрослых и детей, помеченных этим знаком, потому что никто не мог без него покинуть Париж». Доходило даже до того, что этим знаком украшали статуи святых, и некоторые священники, совершая богослужение, вместо литургического крестного знамения осеняли себя жестом, повторявшим очертания андреевского креста. Несколько месяцев спустя мясники, правившие посредством террора, заменили бургиньонский крест белым колпаком, эмблемой Парижа, и заставили короля и дофина надеть на головы белые капюшоны, «и месяц еще не кончился, а в Париже их уже стало такое множество, что других капюшонов вы и не видели, и белые носили и служители церкви, и придворные дамы, и торговки, продававшие съестное». Но вот с господством кабошьенов было покончено, и произошла новая перемена: теперь всякий торопился облачиться в фиолетовый плащ с белым крестом, указывавший на принадлежность к партии арманьяков. Эти плащи исчезнут, как будто их и не было в 1418 г., когда вместе с бургиньонами вернется андреевский крест.
Эти внешние признаки сочувствия той или иной партии, явно вызванные страхом, внушали очередным правителям очень слабое доверие, – особенно арманьякам, знавшим о том, что парижская буржуазия на самом деле преданна бургиньонам. И потому в городе вовсю развернулся полицейский шпионаж, в особенности в кабаках или на праздниках, где вино порой толкало на неосторожные признания. Расследование, проведенное по делу о заговоре д’Оржемона, показало, что тайные сборища устраивались под видом семейных обедов, свадебных пиров или пирушек братств. И потому королевским ордонансом вплоть до особого распоряжения были запрещены «любые собрания братств и все прочие большие собрания». Свадебные пиры разрешили при одном условии: «чтобы никто ни о чем не мог сговориться», но и такие семейные торжества можно было устраивать лишь при участии комиссаров и королевских сержантов, приглашенных «за счет новобрачной», – уточняет Парижский горожанин". Доносы и оговоры подозрительных людей поощрялись, доносчику причиталась четверть конфискованного имущества. Особенно доставалось – под предлогом требований гигиены – мясникам, на которых лежало клеймо воспоминания о жестокости Кабоша и его шайки, а Большую Бойню возле Шатле, ссылаясь на дурные запахи, которые из нее исходили, власти вообще приказали разрушить. Наконец, население Парижа было полностью разоружено: у него отняли право на использование пресловутых «цепей», и все, у кого были оружие, доспехи или боевое снаряжение, обязаны были, под страхом виселицы, сдать все это в Бастилию. Больше того, парижанам запрещено было держать на окнах домов «ларцы, а также горшки, или заплечные корзины, или бутылки» – словом, на окнах домов не должно было находиться ничего такого, что могло бы стать импровизированным снарядом в уличных боях. «И не нашлось ни одного человека, – пишет наш Горожанин, – который осмелился бы носить при себе нож и не оказался бы в тюрьме».
К внутренней тирании присоединилась внешняя угроза. В течение тридцати лет в Париже сохранялась атмосфера осажденного города. Те, кого победа партии противника выгнала из столицы, старались снова завоевать город или добиться того же разультата при помощи голода, отрезав его от источников продовольствия. Сражаясь против внешнего врага, хозяева Парижа умножали меры бдительности и безопасности. Городские укрепления и рвы под наблюдением квартальных приводились в порядок; на стенах были размещены артиллерийские орудия, приготовлены запасы камней на случай возможного штурма. Когда становилось известно о том, что приближается вражеское войско, горожанам предписывалось участвовать в ночных и дневных патрулях, а к воротам приставляли усиленную охрану. Но, несмотря на все меры предосторожности, городские ворота все-таки оставались самым слабым местом обороны: внезапное нападение или предательство (вроде того, что открыло в 1418 г. бургиньонам ворота Сен-Клу) могло отдать столицу Франции в руки врага. И потому правительство, не довольствуясь частой сменой замков и ключей, принимало радикальные меры: ворота, которые считались трудными для обороны, замуровывали, к величайшему негодованию жителей квартала, вынужденных после подобной превентивной меры делать огромный крюк для того, чтобы попасть в ближайшее предместье или соседнюю деревню. Так, ворота Сен-Мартен оставались наглухо замурованными с 1405 по 1422 г. – с коротким перерывом, когда между 1414 и 1416 г. их ненадолго открыли. И когда в 1422 г. жители квартала Сен-Мартен добились от английского правительства, в то время распоряжавшегося в Париже, разрешения на то, чтобы предыдущие шесть лет не существовавшие эти злосчастные ворота были опять размурованы, – причем все расходы они взяли на себя, – это событие превратилось в великий праздник. Ремесленники, буржуа и даже духовные лица взялись за дело, каждый десяток поочередно приходил поработать, притащив с собой множество лопат, мотыг, простых и заплечных корзин. Трудились все настолько вдохновенно, что работы были закончены на семь недель раньше, чем предполагалось. Когда ворота были открыты и движение восстановилось, парижане хлынули туда толпой, ради одного только удовольствия снова выйти за укрепления… Однако, к величайшему всеобщему сожалению, уже в сентябре следующего года из-за усиления внешней угрозы ворота снова пришлось закрыть. В тот раз их закрыли всего на четыре месяца, но, когда в 1429 г. Париж был осажден войсками Жанны д'Арк, их замуровали в третий раз, и очень надолго: до 1444 г.
У всех этих мер предосторожности, какими бы эффективными они ни выглядели или даже были, оставался один серьезный недостаток: они окончательно отрезали столицу от окрестных деревень. В результате даже предместья оказывались беззащитными перед отрядами врагов, не говоря уж о деревнях, которые грабили и поджигали, забирая или уничтожая урожай. Париж больше почти ничего не получал с этих разоренных полей. Горожане едва решались, да и то – лишь в периоды затишья, высунуться за городскую стену, чтобы присмотреть за своими виноградниками и полями. Иногда собирались обозы, чтобы отправиться из города за продовольствием, но за благополучный исход таких экспедиций никогда нельзя было поручиться. Так, в 1430 г. около шестидесяти повозок выехали из города, чтобы свезти хлеб, сжатый поблизости от Бурже, но арманьяки, рыскавшие вокруг столицы, узнали об этой вылазке от шпионов, которые были у них в Париже. Они напали на обоз, перебили часть охраны, а раненых бросили в костер, в котором горели подожженные теми же армань-яками повозки. Для того чтобы обречь Париж на голод, многочисленного войска не требовалось: контроль за ближайшими мостами, в Сен-Клу, Шарантоне и Мелане, давал возможность помешать подвозу продовольствия как по суше, так и по воде. В начале 1421 г. двадцать или тридцать «злодеев» захватили замок и мост в Мелане, после чего стоимость жизни в Париже «сказочно» возросла. Движение восстановилось только после того, как от бандитов откупились деньгами и они ушли, – впрочем, прихватив с собой все, что успели награбить.
Но случалось и так, что кольцо блокады на какое-то время, наоборот, разжималось, и в таких случаях к столице немедленно устремлялись обозы с продовольствием, поскольку торговцев привлекали новые цены, невиданным доселе образом взлетевшие из-за спровоцированного голода. В первые же дни после прихода обозов скудость сменялась изобилием, и благодаря огромному количеству выброшенного на рынок товара цены резко падали. Таким образом, изменения политической ситуации и превратности борьбы враждующих партий немедленно сказывались и на стоимости жизни.
Закрытие ворот, о чем было отдано распоряжение в 1416 г., в тот момент, когда арманьяки умножали меры предосторожности, вызвало немедленный рост цен на хлеб, который за несколько дней подорожал втрое. В следующем году ворота Сен-Дени, до тех пор остававшиеся открытыми для провоза товаров, в свою очередь были закрыты на два месяца «в самый сезон сбора винограда» – и цена на вино взлетела с двух до шести денье за пинту. Когда в Париж в 1418 г. вошли бургиньоны, положение от этого нисколько не улучшилось, поскольку теперь столицу окружили арманьяки, тогда как англичане методично занимали Нормандию, откуда Париж получал основную часть зерновых. Хлеба стало недоставать, и у дверей пекарен, где еще оставались кое-какие запасы муки, выстроились длинные очереди. Соответственно выросли цены: стоимость сетье зерна увеличилась с одного ливра до восемнадцати. Правительство пыталось сдержать рост цен, устанавливая свои нормы: на всех перекрестках глашатаи объявляли, что «никто не посмеет торговать зерном: рожью – больше чем по четыре франка за сетье, а пшеницей – больше чем по семьдесят два су парижской чеканки за сетье». Но из этого вышло немного толку, более того, установление твердых расценок произвело свое обычное действие: «Когда торговцы, которые ездили за зерном, и булочники услышали этот приказ, то пекари перестали печь хлеб, а торговцы – выезжать из города, так что через несколько дней на рынке было невозможно найти хлеба, даже заплатив по двадцать су за дюжину». Все прочие продукты подорожали соответственно: мясо, птица, яйца сделались совершенно недоступными для обладателя обычного кошелька. Но как только между арманьяками и бургиньонами было заключено перемирие, изобилие вернулось, цены тотчас упали, и на рынке выросли горы сыров «в человеческий рост». Однако передышка оказалась недолгой: англичане, взяв Руан, приблизились к столице, разорили Понтуаз и окрестные деревни. С другой стороны, убийство на мосту в Монтеро Иоанна Бесстрашного подлило масла в готовый угаснуть огонь гражданской войны. И сразу же цена на зерно взлетела с двух до семи франков за сетье, к началу 1420 г. достигла десяти франков, а к сентябрю – тридцати двух. Пекарни снова осаждали, «и никому не удавалось найти хлеба, если он не отправлялся к пекарям до рассвета и не поил вином хозяев и слуг, чтобы его получить… А когда время близилось к восьми часам утра, у дверей пекарен теснились уже такие толпы, что никто и не поверил бы, будто такое возможно, если бы не видел собственными глазами, и несчастные создания, которые не могли купить хлеба для своих несчастных мужей, находившихся в полях, или для детей, потому что или денег у них недоставало, или они не могли пробиться сквозь толпу, умирали от голода у себя дома»14 . В те дни Париж узнал настоящие муки голода, и можно было наблюдать, как дети, мальчики и девочки, ища отбросы, роются в навозных кучах и кричат: «Я умираю от голода». В следующем году положение стало еще хуже, потому что зима выдалась суровая, и посеянное в землю зерно замерзло. Несчастные, оголодавшие люди на улицах дрались со свиньями из-за отбросов и объедков. Волки, тоже оголодавшие донельзя, отрывали трупы на кладбищах в предместьях, а были среди этих диких зверей и такие, что вплавь перебрались через Сену, вошли в город и съели нескольких детей.
Между 1422 и 1429 г. парижанам стало жить чуть полегче, удручавшие их материальные заботы немного отступили, поскольку англичане, которые в то время хозяйничали в городе, одержали несколько военных побед, в результате чего дороги для подвоза продовольствия расчистились. Ярмарка в Ланди (поблизости от Сен-Дени), с 1418 г. не устраивавшаяся, в 1426-м вновь открылась. Но победы Жанны д'Арк снова привели к резкому изменению ситуации: войска Карла VII, хотя их поход на Париж и закончился неудачей, остались стоять лагерем в окрестностях столицы. Стоимость жизни в начале 1433 г. опять начала колебаться. Когда Сена замерзла и подвоз продовольствия прервался, цена на зерно взлетела до восьми франков за сетье, причем продержалась на этом высоком уровне до июня. Но к концу того же летнего месяца из Нормандии прибыл большой обоз с зерном, цена на него упала до двадцати четырех су (чуть больше одного франка), и для того чтобы привлечь покупателей, «зерном, как углем, стали торговать вразнос».
Колебания цен не прекратились и после того, как Карл VII вновь завладел столицей, поскольку изгнанные из Парижа англичане сохранили контроль над всеми ведущими к нему дорогами. Королевская власть еще усилила недовольство народа, вводя особые налоги, неизменно оправдываемые потребностями ведения войны и необходимостью отбить у врага занятые им главные города в окрестностях столицы. Налогами были обложены все категории населения, в том числе и духовенство, протестовавшее против такого посягательства на свои привилегии; но бороться с этим было трудно, ибо всем поборам пытались придать вид налогов, сообразных с имущественным положением. В 1437 г., «ссылаясь на необходимость взять Монтеро», правительство установило, по словам Парижского горожанина, «самый странный налог, какой когда-либо существовал, поскольку никто во всем Париже не был от него свободен: ни епископ, ни настоятель, ни приор, ни монах, ни послушник, ни каноник, ни священник с бенефицием или без, ни сержант, ни уличный музыкант, ни клирики из приходов, ни еще кто-либо, к какому бы сословию он ни принадлежал». Сумма налога от сорока парижских су для обычных людей доходила до огромной суммы в четыре тысячи франков для богатых горожан и купцов. Два года спустя был установлен новый налог с продажи скота, а для того, чтобы заставить платить самых непокорных, правительство прибегло к системе постоя: в их домах размещали сержантов, «которые сильно обременяли бедных людей… и причиняли куда больше зла, чем даже можно было предположить». Та же система использовалась в 1441 г. для того, чтобы заставить вернуть заем, насильно навязанный всем королевским служащим и советникам Парламента и Шатле.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































