Текст книги "Четырёхгорка"
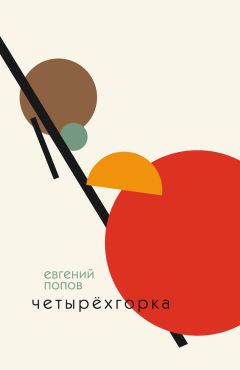
Автор книги: Майкл Кайзер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Встреча
(Из рассказов Екатерины Николаевны)
Когда я покалечилась в колхозе – упала с копны на камни, – брат прислал мне телеграмму: мол, приезжай, живи у нас, сестра Анна тебя привезет, я уже ей написал.
Приехала Анна с мужем, забрали меня, привезли к брату. А врачи говорят: «Ты сначала вылечи главную свою болезнь, тогда мы будем тебе ноги лечить». А нашли они у меня рак желудка. Направили в областную больницу. Там говорят: «Сдавай анализы. Будем резать». А мне неохота, чтобы меня резали.
Сдала анализы, назначили день операции. Брат говорит: «Что делать, – ложись».
Взяла я сумку, поехала. А не хочется, чтобы резали. Ну, думаю, зарежут! Пришла.
– Готовься, бабуля, – говорят. Принесли ножи, вилки, салфетки. – Готовься, скоро сюда залезешь, – и показывают на стол.
А я им:
– Ой, живот болит! – схватилась за живот. – Ой, в уборную хочу! Где она тут у вас?
– Иди, вон, возле лестницы.
Схватила я сумку.
– Куда ты сумку-то? – спрашивают.
– А-а, вы думаете, я вам свою сумку с деньгами оставлю? – догадываюсь чего сказать-то!
Побежала на лестницу, потом вниз, скорей, скорей! А они все тоже выбежали на лестницу, стоят, человек семь, и сверху кричат:
– Вернись! Вернись! Потом будешь проситься, не возьмём!
А я им машу рукой-то:
– Потом я, потом…
– Потом не возьмём. Вернись!..
– Я потом, потом…
Выскочила я. Ну, думаю, надо молебен в Лавре заказать. Села на троллейбус, а он до Лавры-то не едет. Доехали до Невского. Хочу пересесть на «семерку». А народу-то много, тьма народу. Я в переднюю дверь, а меня какой-то парень не пускает:
– Куда ты, бабушка, – вон сколько народу!
А парень такой симпатичный, и пиджачок на нём коротенький, не пускает, и всё.
– Пусти! Мне в Лавру надо! Мне сорокоуст заказать!
– Да закрыта Лавра-то!
– А ты кто такой?
– Да я староста там!
– Врёшь!
– Да не вру, вот ключи у меня в сумке!
А сумка у него маленькая такая, на животе. Показывает ключи.
– Чего ты так рано закрыл-то? Ещё второй час всего!
– Да в монастырь мне надо. Матери молебен заказать. Давай и тебя запишу.
– Я тебе деньги-то вперёд не дам. А ну как обманешь!
– Ладно, деньги потом отдашь.
– Отдам-отдам. Как звать-то тебя?
– Записывай: Николаев Петр Николаевич. Спросишь, там знают.
– Найду, милый, дай тебе Бог здоровья.
– И тебе, бабуся, дай Бог.
Приезжаю в Лавру на второй день. Спрашиваю. Не знают такого.
– Да вы посмотрите в своей книге, может, там он есть, не может не быть. Он сам мне сказал: Николаев Петр Николаевич.
– Нету, бабушка, у нас такого.
– Ну что вы не хотите посмотреть. Должен он быть!
– А-а, так тебе, наверно, в академию надо пойти. Он там, наверно, работает.
– Где же эта академия? Как туда пройти?
– Выйдешь, – отвечают, – пройдёшь налево через дворы и потом направо повернешь. Там и академия.
Прихожу в академию. Спрашиваю. И там такого не знают!
– Да не может быть! – говорю.
Они же опять:
– Не-ту! Нет у нас такого!
А рядом мужчина стоял, слушал меня. Я ему рассказала всё, как было. Он священником оказался, только без облачения, в простой одежде. Пошёл куда-то, приносит икону. Спрашивает:
– Он?!
Смотрю:
– Он! Он, батюшка!
А это, оказалось, целитель Пантелеймон был!
– Ну теперь, – говорит батюшка, – ты должна пойти в Лавру и заказать сорокоуст.
Хотел он сказать, что на год должна заказать, да видит, что денег-то у меня столько нет. Заказать на четыре месяца велел.
Вот и отдала я долг целителю Пантелеймону. А операцию так и не пришлось делать. Уж тридцать шесть лет с тех пор прошло, десятый десяток живу. Слава тебе, Господи! Слава тебе!
Люлиниана
Вы, читатели, такие… Пока в ваши мозги не зарядят кого-то через какое-нибудь средство быстродействующей информации – через кувалду телевизора, укол радио, примочку политолога или сеанс шоумена, – не желаете замечать. А в отсутствие этих спецсредств у критиков мало шансов сказать вам нечто вразумительное. Писатели вообще выпали из доверия государства. Научаствовались в революциях и контрреволюциях. Теперь вот мечтают присоединиться к восстановлению монархии. То есть к реставрации. Но какие же из них реставраторы…
Вот и с поэтом Александром Люлиным история случилась – не знаете вы его. А зря. Поэт очень хороший, и человек своеобразный.
Расскажу для начала несколько простых историй об Александре.
Парадокс Люлина
Люлин спит с открытым окном, потому что любит свежий воздух. Вологодские все любят свежий воздух. Поэтому, говорят, на Вологодчине вырастает много хороших поэтов.
В окно влетел поэт с тверскими корнями, стряхнул с корней землю, высморкался, встал на них со словами: «От свежего воздуха у меня насморк поднимается!» – и надулся, качая над головой толстой книгой.
Этот поэт был похуже поэта Люлина, но поздоровее, поэтому Люлин его уважал.
– Знаешь ли ты, что про меня написала энциклопедия? Недаром, значит, я живу на этом свете. Она написала про меня!
– Значит, ты циклоп… А кто же тогда клоп? – поинтересовался поэт Люлин.
– При чём тут клоп? Ты, Люлин, говори, да не заговаривайся, а то уволю из литературы.
Поэт Люлин ощутил беспокойство всем своим древним спинно-мозжечковым путём и стал оправдываться:
– Я слово разбираю, пытаюсь понять его: эн-энцик-циклоп-клоп-педия…
– К педии мы с тобой, слава богу, не относимся. И это хорошо вдвойне, ведь учёные говорят, что у них, у этих педий, что-то в мозгу сильно преувеличено.
Тверской поэт пошуршал своими энциклопедическими страницами.
– Вот, смотри. Видишь, моё лицо. А вот здесь всё про меня…
После чего тверской поэт опять надулся и улетел под потолок. Поэт Люлин посмотрел на него с восхищением.
– И правда не клоп, – тихо пробормотал он. – Ведь клопы не летают, они только падают с потолка. Но ведь и циклопы не должны летать… Какой интересный парадокс.
– А про тебя здесь тоже написано, – нехотя пробормотал сверху вниз тверской поэт.
– Правда? Интересно! – мгновенно надувшись, взлетел под потолок и поэт Люлин.
И они стали вместе медленно шуршать энциклопедическими страницами.
Аки пчела
– Что стоишь, качаясь, / Тонкая рябина… – пела женщина нежным голосом. Она была хороша собой. Именно такие, чернобровые, темноокие, всегда нравились Саше. А у этой ещё и бархатистый ласковый голос…
– К людям тянутся ветви таланта / В ожидании встречной любви, – рождались в голове поэта Люлина встречные строки. – Хорошо бы не мокрую курицу, / И не злую бы, и не змею… / Не раскольницу или распутницу, / Не сгубить чтобы душу мою!
И уже дальше наматывалось, накручивалось:
– Зачем же я живу на свете / Почти сто сорок девять лет? – задал вдруг себе вопрос поэт Люлин и испугался.
– Боже мой! Сто сорок девять лет! А что я сделал за эти полтора века? Ну, допустим, написал я сто две книги общим тиражом двадцать тысяч экземпляров. Ну, признавали меня своим поэты Кузнецовы. Взяли меня в свою стаю Орлов, Скворцов и Голубев. Награждали своим признанием и Беловы, и Красновы.
Но ведь я пережил всех своих современников! Всех своих однокашников по Высшим литературным курсам! Всех перебывавших в этой комнате на четвёртом этаже. Я пережил здесь четыре капитальных и восемнадцать косметических ремонтов! На стене этого дома уже сорок лет висит доска, объявляющая, что «в этом доме живёт городская недвижимость Александр Сергеевич Люлин».
Что ж у меня, – ведь не калека,
И предки ведь не алкаши —
Нет ни родного человека,
Ни близкой родственной души?
– выкрикнул в отчаянье Александр Сергеевич.
– Но ведь ты прямой потомок по поэтической линии великого Александра Сергеевича! – послышался голос с неба. – А также великого поэта современности Лю Лина! Это всё у тебя от гордыни! Одумайся и не ропщи!
Да поймите же, бедная Оля,
Ересь – это духовный разврат.
До свидания: вольному воля,
А спасённому – рай, говорят. —
Одумался поэт Александр Сергеевич Люлин, вновь заговорив на языке бессмертия.
– И не плачьте! Мои стихи всегда будут сопровождать вас, ведь я вас запечатал в файле бессмертия, – так, выходя из утробы инобытия, закончил он, слегка подталкивая слабо сопротивляющуюся, захлёбывающуюся в рыданиях женщину к дверям.
Люлин осваивает цивилизацию
На столе Люлина появился компьютер. Стоят пока обломки, не соединённые проводами. Саша смотрит на них. У них, у вологодских, как? Сначала идёт процесс созерцания, потом привыкания, потом ощупывания, потом проявляется любопытство, потом они принюхиваются, потом их захватывает страсть и так далее. Это у них как с женщинами. Почитайте стихи Люлина и многое поймёте. В страсти своей он становится быком. Мечется туда-сюда, как бык на корриде, завидевший красную тряпку, желает овладеть и на рога поднять или растоптать, ежели не овладевается.
Но поставим честный диагноз – у Люлина хронический тихий омут. Он и слова выдавливает, и слова эти, как будто пузыри, поднимаются из глубины. Сидит он на этой своей глубине и бессмертно выбулькивает свои слова-пузыри. Но это не болотный газ, потому что вода в люлинском омуте довольно чистая. А представляется он мне налимом, потому что всё-таки он не рак, и не щука, и не окунь какой-нибудь наглый. Из-под коряги своей жизнь наблюдает и нет-нет, а чего-нибудь да ухватит из проплывающего мимо. Перекусит и опять наблюдает. Такой вот водолаз!
Но польза от него, несомненно, есть. С ним можно поговорить. С таким тихим и спокойным омутом люди смягчаются, начинают разговаривать человеческим языком. Прибегут в соседнюю комнату, накричатся, наспорятся. А зайдут к Люлину и думают: чего кричать? Вот живёт человек, ходит туда-сюда или сидит под корягою и не кричит, не спорит противными голосами. Вот как, оказывается, можно жить, удивляются они. А потом эти люди всё опять забывают. Пройдут в соседнее помещение и опять давай кричать.
Скоро зайдёт к Саше какой-нибудь благотворитель, например поэт Никитин, склеит-соединит обломки компьютера и начнёт обучать Сашу работе на ПК. И сравняется поэт Люлин в своём компьютерном мастерстве с самим Орловым, а возможно, и с самим что ни на есть Ахматовым или Скворцовым, изберут его в бюро секции поэзии, и начнёт он в этой секции вещать да пузыри свои подъёмные пускать, добавляя к своим регалиям неформальным бремя формального лидера. И обидятся на него поэты, тоже затаятся, жалеть перестанут. Станут лаять и огорчать Сашу своими придирками.
А пока дожидается его на столе ещё одна новинка: мобильный телефон «Симпсон». Тихо и покорно лежит, но побаивается его Александр Сергеевич. Если б не отчество – выбросил бы этот телефон к чёртовой матери в окошко, но боится, во-первых, какую-нибудь тихую старушечку во дворе зашибить, а во-вторых, принадлежность к цеху поэтов обязывает. И он терпит эти мучительства, тихо булькает, выхватывая из проплывающих благ цивилизации только самые необходимые.
Но одна промашка у него всё-таки случилась. Большой писатель Коняев предлагал забрать цветной телевизор в хорошем состоянии, а Саша подумал – плохо, надо сказать, о Коняеве подумал, – что тот предлагает телевизор этот купить. И отказался.
Пришлось Н. М. Коняеву телевизор выставить на лестницу.
Такая грустная история.
Безотрадное
(Дурацкая попытка создания люлинской биографии)
Почему А. Люлин не прижился в Отрадном, в этом городке между Невой и железной дорогой (станция Ивановская)? А ведь там, на судостроительном заводе строят красивые корабли. Это, конечно, не белоснежные лайнеры, бороздящие океанские просторы. Но портовые трудяги-буксиры да и тот же тральщик «Валентин Пикуль» всё же навеивали грусть на привыкшего к лесам поэта.
Нет, не приняла крестьянская сущность поэта стихию Невы в её среднем течении. Даже Ивановские пороги не пленили её.
Тихая почтовая служба, скромный деревянный домик, областное захолустье претили Александру, гнали, выталкивали в мегаполис. Умерла мама, и жить в Отрадном Александр уже тем более не мог, и он, хоть и с запозданием, но влекомый тем же чувством, что тянуло в город его сверстников лет тридцать пять назад, тоже оказался среди каменных сфинксов-домов северной столицы.
Переехал Люлин в город, пригляделся, пообжился, а потом заявляет: «Я Люлин, а вы кто такие?» Ну и обиделись горожане. Особенно некоторые петербуржцы, поэты в шестом поколении.
И в сё же… Поэзия, будь стойкой! Поэты, не загибайтесь раньше времени! Крепче держитесь за рифму, за аллитерацию, за традицию – к? ому за какое место удобней. Славьте жизнь и не обижайте чиновников, а главное – не беспокойтесь за них. Они и сами себя прославят своим большим мастерством. (Лирическая вставка)
Что касается поэта Люлина, то и его нет-нет да кто-нибудь постарается прославить и пригреть: то крупный издатель А. Белинский издаст его книжку по доброте разумной, то иной меценат найдётся.
Раздарит А. Люлин свой двухсотштучный тираж друзьям и знакомым – и все довольны. Люлин – оттого что вошёл в историю литературы. Все – оттого что бесплатно книжку получили.
Так и парил Люлин в петербургских небесах, блаженно улыбаясь. Парил так спокойно, покорно и нагло, что иногда хотелось сбить его из рогатки. Но не сбить, потому что стрелять из рогатки по тихому омуту бесполезно – рикошет получится.
Я долго спрашивал себя и его, почему поэт не вернулся в Отрадное? Я спрашивал это так долго, что он в конце концов вернулся. Вернулся, потому что красивое название посёлка заставило. Отрадное для Люлина состояние. Отрадное составляет суть его литературного бытия. И как бы я ни запутывал фразу, в сознании поэта красота всегда берёт верх и перекидывается на его бытие.
Лучи
Потому что
Вот идёшь-идёшь – и вдруг понимаешь, почему время так течёт. Пока идёшь и думаешь вообще, о чём-то расплывчатом, о будущем например, о том, чего не знаешь, или скользишь, мысли запутываешь в узелки, закручиваешься в омутках мутного течения паразитирующего сознания – и выясняется, что время протекло быстро, незаметно как-то. Хоть с мыслями, но бессмысленно и бессистемно. И расстояние пройдено незаметно. Одна только и польза, что прогулка на свежем воздухе.
Остановишься. Начнёшь рассматривать полотно асфальта с выбоинами, трещинами, наледью и разными картинками почти реалистическими. Рядом газон весенний, вытаивающий, забор металлический, крашеный, с зазубринами и плешинами коррозии.
Смотришь долго, а потом замечаешь, что время пошло медленно, будто в благодарность за внимание к составляющему его пространству.
То же при взгляде на женщину. Только больше обращаешь внимание на выражение – глаз, лица, жеста. Родинки и морщинки, линию профиля и улыбку тоже замечаешь, но всё – между прочим. Важен весь облик, образ, регистр, интонация, движение бровей. Всё мгновенно, разом. Это не анализ, а восприятие. Раз! И всё ясно. И пошёл дальше. Раз! И как вкопанный. И мозги набекрень.
Тут фокус в другом. Такая скорострельность восприятия возникает, что появляется уверенность, что ты внутри времени оказываешься. Управляешь им изнутри, как подсобным компьютером. Это, конечно, упрощение. Компьютер виртуален, а женщина реалистична. Из-за её реалистичности весь романтизм мужчин уходит в войну; доказать, завоевать, победить, преподнести к ногам и в итоге присоединиться к женщине, как антипартийная группа Молотова, Маленкова и Булганина. И все маршалы Жуковы на этом фронте терпят поражение.
Сам-то Жуков побеждал и был сердцеедом. Но в данном случае женщина побеждает, как победил Хрущёв. В том числе и Жукова. Бесповоротно, но не окончательно.
Логика эта ужасна, но железна. Как похмелье после сильного, продолжительного возлияния. Так продолжительные аплодисменты сводят с ума принимающего аплодисменты, и он заряжается этой инопланетной энергией, требующей мужества святого, борющегося с искушениями.
Все сразу начинают требовать примеры. А примеры не всегда нужны. Хотя… читайте дальше.
Бабушкин снег
В городе снег. Выкатившаяся из подворотни собачонка кажется розовым бесшумным клубком шерсти. Тихо подходит к остановке трамвай. Ехать в исправном тёплом вагоне зимой – одно удовольствие. И люди задумчивые, и водитель кажется каким-то внимательным и вежливым, и ход трамвая более мягкий. А вот и ностальгический разговор двух немолодых мужчин.
– Вообще-то я этим маршрутом езжу почти сорок лет. В техникум, потом на работу. Помнишь, тогда здесь ходил «семнадцатый»? А в от здесь, у больницы Раухфуса, росли громадные тополя. И дальше, там, где сейчас «Октябрьский», была Греческая церковь.
– Конечно, помню. Я у Московского вокзала садился на «четверку», когда учился на Васильевском. И помню, как ломали эту церковь. Пацаном был, радовался, интересно было, что здесь новое построят.
– Ее несколько недель шаром разбивали. Но мне как-то жалко было. Церковь небольшая была, зато площадь казалась большой. Теперь «Октябрьский» огромный, а площади нет.
– Да, крепкая была церковь. Бьют-бьют шаром, а только осколки мелкие летят да пыль красная поднимается.
– Это при Никите, кажется, было?
– По-моему, уже при Брежневе. Никиту только сковырнули.
– А Ленька бойкий тогда был, шустрый, говорливый.
– Что ты! Это он уже на восьмом десятке сдал, после осложнения гриппозного. И космонавтов, как и Никита, любил встречать.
– А я вот в этот гастроном с бабушкой ходил, она кусковой сахар любила. Покупала только здесь почему-то. Большие такие куски, красивые, таяли медленно… Глянь-ка, вон тоже бабуся вошла. Садись, бабушка, отдохни.
– Спасибо, милый! – Бабушка усаживается, пристраивает свою кошёлку. – Мне ехать-то недалеко, – вздыхает. – А редко теперь бабкам места-то уступают, у-у, редко. То на ушах наушники, то в окошко глядят, то хихикают меж собой. Да, уж Бог с ними, может, кто и вправду усталый, жизнь-то нынче тяжёлая. Пусть уж лучше сидят, отдыхают.
– У меня, бабуся, свой такой же – без царя в голове. Учёбу бросил, хорошо хоть работать пошёл – кладовщиком на складе каком-то паршивом. Дома вот врубит музыку в двенадцать ночи, скажешь: соседей хоть бы пожалел, если нас не жалеешь. А он: «Я люблю громкую музыку». Короче, как об стенку горох…
– А у меня внучок толковый. Учится хорошо, чего попросишь – сделает. Старухе много ли надо-то? И я ему стараюсь угодить. Может, хоть память о себе хорошую оставлю, вспомнит бабку.
– Я вот свою вторую бабку ни разу не видел. Думал, что её и не было никогда. Потом уже узнал, что жила на Орловщине. До нас так и не доехала, и мы почему-то у неё не бывали.
– Ничего, милый. Ты поставь в церкви свечечки за упокой. Тебе будет легче, и она порадуется.
Мужчины глядят друг на друга, улыбаются.
– Может, и правда поставлю. Спасибо за совет, бабуля.
– Поставь-поставь. Глядишь, Господь и смилостивится.
Разговор прервался. Трамвай повернул, стал притормаживать.
– Ох, батюшки! Чуть не проехала, дура старая, – бабуля засуетилась, схватила свою кошёлку и засеменила к выходу. Двери открылись, порыв ветра, как в меру торопящийся пассажир, вскочил на подножку в сопровождении стайки снежинок, потом резко отступил, пропуская старушку. Оглянулась: – Свечечку-то поставь…
– Смешная… – улыбнулся первый мужчина и взглянул в окно. Снег на минуту утих. Потом пошёл с новой силой. – Я вот смотрю на трамваи, автобусы размалёванные – рекламы, рекламы, рекламы. Сначала нравилось, а теперь глаза отдохнуть хотят. Везде пестрит, особенно в центре! А так вроде как у людей, говорят, стало. Цивилизованная жизнь…
– Да ну их знаешь куда! Я уж о рекламе не говорю. Начнёшь расстраиваться, покой потеряешь. А тут ещё на работе нелады, то зарплату задерживают, то сокращения, то дома какие-нибудь фокусы… И ничего не можешь поделать. Н-да…
Говоривший махнул рукой, тяжело вздохнул и стал глядеть в окно.
Мимо проплыл голливудский всадник с сигаретой в зубах. В снежной окантовке он выглядел бесшабашно и даже как-то по-свойски. Лошади были пририсованы большие уши, а всаднику – запорожские усы и шаровары.
Трамвай гулко въехал на мост. В этом снегопаде всё показалось одиноким и заброшенным. Пассажиры молчали.
Но вот вагон съехал с моста, повернул направо.
– Ну, бывай. Телефон мой у тебя есть, адрес тоже. Звони, заходи. Да и Новый год, Рождество не за горами. Думай! Может, вспомним годы молодые…
– Что ж, может, и вспомним. Надо действительно подумать. Валентине привет и скажи, что за мной должок – бутылка шампанского. Карпов ведь тогда проиграл… А жаль… Будь здоров.
Двери смыкаются. Трамвай идёт дальше.
В городе зима. Идёт снег.
Странно
Они долго стояли под снегом. Потом медленно шли, похожие на новогодних персонажей.
От дамы тихо тянуло нафталином. Стояла ранняя зима и хотелось залечь в берлогу. Не очень хотелось ложиться в берлогу с таким запахом, но сам ритм их движения и убаюкивал, и укачивал. Сонно зажигались фонари, росли сугробы. Странно выглядел трамвай. Он продирался сквозь эту перину, напоминая о железном потоке, но выглядел отчаявшимся трубачом, пытающимся разбудить заколдованное царство и окостеневшую армию, которая ещё совсем недавно была преисполнена сил, источая нахальный оптимизм.
– Знаешь, я не поверила, когда тебя встретила…
– Почему? – он удивлённо посмотрел на спутницу и задумался.
– Мне показалось, что так везти не может. Особенно мне.
Он почти автоматически пожал её локоть (ободряюще или одобряюще – он ещё не понимал как). Она отозвалась, слегка прижавшись к нему.
Они зашли в кафе. Сидя за столиком, он загляделся на её руку. Рукав шубки слегка подвинулся к локтю, виднелся рукав клетчатой рубашки. Тонкая рука держала чашку кофе уверенно, хотя чувствовалось какое-то неповторимое волнение.
Он понял всё. Понял, что никогда уже не забудет этого вечера, этого мгновения, этой руки. Даже дыхание слегка перехватило. Он сообразил вдруг, что в кафе тепло и уютно, взял её за руку, освободил руку от чашки и снял с женщины шубку, повесил на спинку стула. Он теперь просто смотрел. Смотрел и радовался. Как это было непросто и как хорошо. Хорошо радоваться её радости и непросто видеть их будущее, ощущая запах нафталина.
Но когда они опять вышли на улицу, под этот огромный снег, запах снега победил, заставил поверить всему.
– Я так боялась этого страшного запаха нафталина, – говорила она среди ночи. – Я чувствовала себя мумией, дурой, идиоткой. Достать утром шубу, а вечером надеть… И вообще пользоваться нафталином сейчас нелепо. Ты простишь меня?
– Для начала я прощаю твой нафталин. Хотя этот гад чуть было не отбил тебя. Но теперь-то я вышибу его отовсюду. Так и знай!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































