Текст книги "Четырёхгорка"
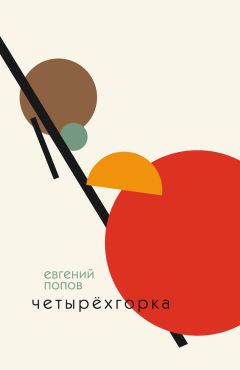
Автор книги: Майкл Кайзер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Два портрета
1
Своей улыбкой он доказывает, что во рту живут одни зубы. И не тридцать два, а не менее девяноста шести. Такая мононациональная Республика.
Когда язык должен вступить в дело, зубы выдвигаются наружу в составе улыбки, которой трудно что-либо противопоставить. И все всё понимают.
2
Его лобастополнолунный лоб занимает основное место в портрете. Голос – глуховатый, отчётливый и несгибаемый. Свою похожесть на Ленина он не афиширует, но гордится, хотя, как и многие современники, не одобряет его жизнедеятельности в целом.
Его невысокий цельнометаллический каркас покрыт рыжими волосами, хотя косвенно напоминает сталактит.
Шарфик
Один весёлый человек, по имени Бродвей, с ярким-преярким шарфиком на шее шёл гоголем по Невскому проспекту. Очарованный, он нашёптывал заветные слова своей молитвы, улыбался встречным девушкам, этим вечным спутницам молодых людей. А нашёптывал он «па-да-буда, ла-ба-дуба» и представлял наших северных девушек то негритянками, то индейками, то креолками, на худой конец японками и правил бал своего романтического воображения начинающего подавать надежды писателя.
Он сильно не наглел – времена стояли ужасно тоталитарные, – и хотя душа его требовала экзотики, но, пройдя Аничков мост, снимал он яркий шарфик с шеи и, бережно сложив, торжественно клал в карман.
Недавно они с приятелями спёрли партию этих ярких шарфиков на складе готовой продукции, где по просьбе Сэма Бубукина два дня подрабатывали грузчиками. Сэм попросил их поработать за компанию. Его родители были бедны, а на студенческую стипендию прожить было сложновато. Сэмовы друзья были из семей обеспеченных, но, когда узнали про шарфики, согласились пойти на разгрузку.
Шарфиков такого цвета почему-то не было в продаже. На улицах города царили сдержанные цвета, характерные для севера. А тут пестрота необыкновенная, прямо завораживающая и обволакивающая креольская пестрота.
Операция по захвату шарфиков прошла успешно, но использовать эти шарфики по назначению решились только двое – Боб и Бродвей. Боб как отпетый хулиган и стиляга, и Бродвей – как начинающий подавать надежды писатель: его дважды напечатала «Искорка» и один раз – газета «Смена».
Когда невский ветер теребил шарфик на шее Бродвея, в нём начинал вдохновенно ворчать голос Лэймса Армстронга. Тёрка этого голоса зацепляла душу Бродвея, тёрла, как молодую морковку, делала её мягкой и податливой, делала пластичной, готовой для любви и великих дел. Ему хотелось уехать на Гавайские острова, заглянуть на Кубу и сказать «хелло!» папе Хемингуэю, а потом засесть в гарлемском кабачке, где классно играют и поют чёрные звёзды.
«Железно! – мечтательно думалось Бродвею. – Обязательно надо сгонять туда, воздуха тропического глотнуть, рома кубинского нюхнуть, по Бродвею похилять, с негритянкой переспать… Если мы факаемся – значит, существуем!»
Друзья-стиляги предавались неге у Елисеевского. Они радостно дымили нафарцованными американскими сигаретами, бережно поправляли дудочки своих брюк, подтягивали красные носочки, вели длинные многозначительные беседы, сговаривались послушать новые бобины и мягкие диски с записями…
Прошло сорок лет. Бродвей Васильевич далеко продвинулся в своём исполнительском мастерстве, занял многозначительные посты, стал вальяжным и представительным и жизнь свою описал и жену обрисовал в произведениях своих праздничных. Объехал он и Гавайские острова, и Америку, тусовался и в негритянских кварталах, повидал и креолок, и чёрных порнозвёзд Бродвея. Не застал Васильевич только папу Хэмингуэя, но зато с самим Маркесом потягивал кубинский ром.
Всё нравилось Бродвею Васильевичу – и музыка, и небоскрёбы, и Маркес, и томный тёплый океан. Не хватало только всему этому чудесному сервису свежести, первозданности.
И всё видит Бродвей Васильевич себя, Бродвея, сорокалетней давности, радостно шагающим ветряным ленинградским маем по Аничкову мосту, с ярким шарфиком на шее, навстречу своим клёвым друзьям, умно избегая железной хватки народных дружинников, цепко охраняющих страшный тоталитарный строй.
Обломок
В небе висел тонюсенький месяц. Похрустывали позвонки бывших республик. Шёл девяносто третий год…
Ранняя весна. По улице медленным, но бодрым шагом движется человек, пенсионер бывшего союзного значения Василий Никанорович Бурмистров.
Мы не будем выяснять, за что он получил заслуженную пенсию – мы же не суд над заговорщиками. Мы просто пройдём с ним триста метров, проводим его домой. Дело в том, что Василий Никанорович немного расстроен, хотя только что навестил свою дочку Нину и внученьку Настеньку. Внучка щебетала вместе с канарейками, шустрыми и жёлто-зелёными, а сама была румяная, какими бывают в сказках-мультиках новогодние яблоки.
Нина была приветлива, но очень сокрушалась, что бабушка приболела и осталась дома. А вот зять… Зять Николай был мрачен неизвестно отчего. Он давно относился к тестю настороженно и вообще всю свою сознательную молодую жизнь был на четверть, а может, и наполовину диссидентом. А сегодня вдруг заявил Василию Никаноровичу, что тот – обломок застоя, а вот он, Николай, и ему подобные будут жить нормально, со своим куском масла и сала.
Обломок! Так называть себя Василий Никанорович повода не давал. Тем более Николаю. Он вообще с зятем мало разговаривал, боясь неловким словом или советом навредить семейной жизни дочери. А тут такое… А ведь и квартира, и мебель, и ещё много чего!.. Все помогали!
Да-а, с этим ещё разбираться и разбираться.
– Пора домой! – Василий Никанорович отказался от традиционных проводов до перекрестка. Идти, мол, совсем близко, да и весна уж, прогуляться одно удовольствие. Дочь не настаивала, чувствуя, что настроение у отца действительно неважное и лучше оставить его в покое.
Теперь он хрустит мартовским заледенелым снежком, а в небе проклёвываются звездочки. Душа немножко успокаивается.
– Прогуливаешься, дед?
Вдоль тротуара медленно движутся «жигули» тёмного цвета, одно стекло опущено, и парень в чёрной шапочке и чёрной кожанке: «Прогу-уливаешься… Садись, дедуля, подвезём».
Голос уверенный и не сказать, чтобы сильно приветливый, но какой-то лениво-доброжелательный и властный.
– Спасибо, ребята, я пройдусь, мне недалеко осталось.
– Садись, дед! – уже настойчиво и жёстко повторил. – То, что недалеко, мы знаем, садись.
Непонятно какая сила потянула Василия Никаноровича под арку, оказавшуюся в трёх шагах. Он засеменил, сначала медленно, потом всё быстрее, быстрее и скрылся во дворе.
Двор оказался небольшим, захламлённым обломками деревянных и пластмассовых ящиков, какой-то бумажной вонючей дрянью. Дальше стояли мусорные бачки.
– Стой, дед, хуже будет! – не громко, но угрожающе раздалось вслед. Хлопнули дверцы автомобиля, послышался торопливый хруст под ногами.
Василий Никанорович хотел сначала вбежать в парадную, схватился за ручку, приоткрыл дверь, но, почувствовав, что не может уже бежать, отпустил дверь, из последних сил доковылял до мусорных баков и спрятался под открытой крышкой одного из них, прижался к его шершавой, вонючей, спасительной поверхности и затих, с трудом сдерживая дыхание и сердце.
– Куда же он делся? – голос раздражённый и капризный. – Сука!
– Слыхал, когда мы вышли из машины, дверь парадной хлопнула? Надо заглянуть, там он, голубчик.
Открылась и хлопнула дверь. Шаги второго обогнули гору мусора. Первый вышел из парадной.
– Нет его там. Ладно, чёрт с ним, поехали.
Схватив валявшийся ящик, швырнул его. Ящик, хромая, скатился с мусорной кучи и затих.
– Мало ли стариков в городе? Найдём.
– Так искать опять надо. Тебе-то хорошо, тебе есть чем собаку кормить. А у меня мясо кончилось.
Матерясь, он вышел на улицу, подойдя к машине, зло оглянулся, пнул ногой колесо и, ещё раз выругавшись, сел в неё.
Уехали.
Весь взмокший Василий Никанорович просидел ещё минут десять, прижавшись к баку, потом осторожно, медленно выполз, в полуприседе сделал несколько шажков и в полуприседе же, таясь, вдоль стеночки, не чуя и не узнавая себя, выглянул на улицу.
Никого не было. Медленно разгорались фонари. В небе висел яркий месяц. А Василий Никанорович уже быстро, как мог, неверными шагами шёл домой.
Вот окно. Вон фигура в окне. Родная, ждёт, волнуется, зябко поёживается.
Появились прохожие, где вы были раньше! Вот уже и сосед поздоровался. Лестница, квартира 82, звонок. Вот и дома!
И жив, и дома, и жена, и чай горячий, и ванна, тоже горячая. Всё. Всё…
1994
Уроды
По Неве барабанит речной трамвайчик – из флотилии речных трамвайчиков, бороздивших наши реки ещё в семидесятые годы. На этой посудине висит транспарант с эмблемой какого-то банка и призывом давать ему деньги на сбережение.
«Ну-ну, – подумал Кравцов, – все наперегонки побегут к вам. Эта гремящая рухлядь, ждущая утилизации, как символ вашего будущего банкротства».
– Дяденька, а дяденька! Дай сотню на хлеб, – нахальная мальчишеская мордочка почти всунулась в окно автомобиля, дыхнула запахом пива.
Кравцов достал из портфеля два бутерброда, протянул мальчишке.
– Дядька, ты – урод. Мне сотня нужна, а не твои объедки.
Кравцов нажал на газ и удалился от этого юного укора совести, тихо выругавшись.
Иногда он не знал, куда смотреть – везде виднелись следы распада и гниения. Слабо тешили только летящие иномарки, за тёмными стёклами большинства которых сидели морды.
«Сам я почти такой же. Сегодня только что-то совесть, как юный пионер, начеку. Битва гигантов: моя совесть и наша действительность. Побеждает дружба.
Сколько меня учили воровать. Учили, учили. Выучили. А я опять забываю, как надо правильно это делать. На всё ведь талант нужен».
Экскурсии
Я хожу на экскурсии в прошлое. Прохожу по знакомым улицам, толкаюсь в старые знакомые двери. А они уже и не старые. Они новехонькие, красивые, хотя бывают и картонные. И о – ни не всегда открываются. Но в не открывающиеся мне входить не хочется, потому что я знаю, что там. Но я начинаю в них стучаться, и они иногда отворяются. Я не вхожу в них, а только заглядываю. А при заглядывании мало что видишь. Но заглядывать всегда интересно. Вот, думаешь, ухватишь вдруг что-то новое…
Это как смотришь на лица, и углубляться, вглядываться в них не надо. Их как будто выскребли, как будто в них нет жизни, один хищный оскал. В них как будто есть красота, но нет тепла. Они чужие. Чужие-пречужие. Раньше говорили – несимпатичныые. И видно, как они нас ненавидят. И видно, как они нас ненавидят за то, что зависят от нас. И высасывают нас, и ненавидят, и мстят за то, что не могут без нас.
А их детям интереснее с нами. Потому что мы не воспитываем их детей. Мы их жалеем и этой жалостью любим. Ведь эти детей своих кормили самым дорогим, но самым, как выяснилось потом, говённым, самым ядовитым. Зато заграничным. И кормили много. Теперь их детей начинает тошнить…
Насмотревшись в окно
Жизнь, пропущенная через призму печали, окрашивается совсем в иные тона. Но кто может их рассмотреть? Кому дано в один день постигнуть, увязать с собственным опытом, например, провал памяти, превратив его в откровение? Кому это нужно?..
1
Бабе Наташе было восемьдесят девять лет. Но она могла ещё сама есть, ходить и смотреть запавшими глазами – выцветшими, дымчатыми глазами – на серое небо, серую реку и гудящую серую струю асфальта.
Речка была маленькая и гранитная, машины сильные и нетерпеливые. Они досадливо тормозили у светофора, порыкивали на красный свет, скапливались и рассыпались, увозили кусочки бабы-Наташиной жизни.
А бабы-Наташина жизнь была старая и не имеющая цены, а машины, эти гордые создания, каждое утро пробуждали бабу Наташу от её холодного сна и поэтому казались добрыми созданиями.
Ближе всего к этому холодному сну бабы-Наташина душа была в дни выходные, особенно по воскресеньям, когда грузовые машины отдыхали, а легковые просыпались поздно и старались проскочить быстро и незаметно, будто несли в себе проклятье или выходящие за грани приличия гадкие поступки.
Правда по субботам бабу Наташу выручали панелевозы строителей. Они провозили серые экраны панелей, на которых не было видно ни прошлого, ни будущего – лишь серое затягивающее пространство. И это было очень неприятно, а кроме того дом начинал мелко дрожать, вибрировать и, казалось, куда-то проваливаться. Но она была благодарна и панелевозам за предоставляющуюся возможность ещё раз проснуться.
А по воскресеньям бабу Наташу радовал правнук-студент, который отсыпался в воскресенье недолго – жаворонок! – просыпался и врубал!.. Его стереоустановка восходила мгновенно, не так, как солнце. И это было хорошо. Сердце получало желанный толчок, ударная вибрация массировала застывающее тело – и наступало не очень раннее бабы-Наташино утро.
Знакомые голоса на знакомом, но непонятном языке объявляли об этом. Напористо подпираемые ритмическими, мощными фигурами инструментов, они перебрасывали мостки через пропасти очередной ночи – и жизнь продолжалась.
Баба Наташа немного удивлялась бешеной истеричности поющих и кричащих голосов, но усталому сердцу было отрадно и это.
А когда неизбежно приходило время дочкиных отпусков, бабу Наташу удавалось пристраивать в больницу, где работала уборщицей младшая сестра бабы Наташи.
В больнице делали какие-то уколы, от которых баба Наташа просыпалась сама, но уже с чувством страха и долго смотрела в потолок, напоминавший панели строителей своей пустотой. Окна же в палате всегда оказывались далеко от её кровати.
В больнице бабе Наташе чаще снились грузовые автомобили. Они везли её, молодую, на уборку урожая, на рытьё траншей, на завод. А за рулём чаще всего оказывался её покойный муж Василий. И только один раз Колька Тетерин. Но если Василий постоянно оглядывался, подмигивал, покуривал папироску, то Николай только раз полуоглянулся, словно вёл машину по какой-то очень важной и страшной дороге. Было темно и холодно, шелестела вода, что-то выло и грохотало вдали, и они очень спешили.
Просыпаясь, баба Наташа думала, что снится блокада…
Раньше по праздникам её будила громкая музыка. Музыка билась о стены домов, отражалась от них и была похожа на удары колоколов. Баба Наташа медленно вставала, подходила к окну и долго смотрела на колыхание флагов, на транспаранты, на этот крупчатый людской поток и вспоминала что-то невозможно далёкое.
2
Когда влюбился правнук, стояла весна. По реке плыли белые игольчатые льдины. Мать его очень тревожилась, ждала допоздна, стыдила, умоляла познакомить с девочкой, просила быть осторожным – ведь раньше он приходил не позднее двенадцати, а теперь и в два не всегда появлялся.
Года два назад он увлёкся фотографией и между прочим несколько раз снял прабабку. А потом подарил ей большой портрет: баба Наташа держится рукой за стену и смотрит в объектив. Вернее, портрета он не дарил, а просто поставил его на этажерку, в изголовье бабы-Наташиной кровати. И теперь она, неизменная на портрете, смотрела на себя, стареющую дальше.
Была праздничная весна, по реке плыли белые игольчатые льдины, правнук был влюблён, а баба Наташа сидела у окна и, спиной чувствуя свой взгляд с фотографии, смотрела на серый асфальт, на гранитную речку, на деловой поток автомобилей.
Она не могла не смотреть туда, как не могла не смотреть в своё прошлое, в котором слишком много изменилось за эти восемьдесят с лишним лет. Почему-то люди, живущие там, стали понемногу её забывать, поэтому и баба Наташа стала забывать их имена, а только смотрела на то, что они думают, что делают, куда идут, как смотрят на неё.
А ещё она стала разговаривать с Богом, который всегда внимательно смотрел из своего красного угла комнаты. Баба Наташа была из того поколения людей, которое перестало креститься ещё в юности или было вовсе не крещёным. Но всё-таки баба Наташа никому не позволила снять иконы в своей комнате и проявила в этом большую твёрдость, когда в хрущевскую «оттепель» зять попытался-таки ликвидировать этот её пережиток.
Насмотревшись в окно, баба Наташа поворачивалась на табуретке и начинала подолгу разговаривать с Богом. Она разговаривала с ним совсем тихо, только изредка глубоко вбирая в рот свои морщинистые высохшие губы. Она никогда не боялась сказать лишнего, потому что лишнего в этой жизни не было ничего. Ей так казалось. А ещё она понимала, что выйти из этой комнаты ей уже не удастся и что нужно ждать, глядя в это окно, на эту фотографию и на Бога, который относился к ней хорошо. Так хорошо, что даже мог сделать то, что она попросит. Но она никогда ни о чём не просила, а только рассказывала о своей жизни всё, что знала, всё, что помнила. Хотя знала и помнила всё меньше. Он слушал, не перебивая, хотя знал всё и так.
По реке плыли белые игольчатые льдины, а она смотрела на них и чувствовала их холодные прикосновения, словно уже сама была рекой, тихой наполненной рекой, то ли проснувшейся, то ли засыпающей.
И она попросилась у Бога умереть, потому что не хотела больше ложиться летом в больницу, а потом выходить из неё.
И она пошла в ванную, вымыла лицо и руки, вытерла их насухо. Потом, как могла, навела в комнате порядок, переоделась, подошла к окну посмотреть на речку. Потом открыла форточку.
Занавески зашевелились, запорхали, ветер облетел комнату, будто обнюхивая. Машины старательно гудели, в небе надувались паруса облаков. Проплывшее облако освободило солнце, и солнечные лучи так весело отразились в реке, что она улыбнулась и долго ещё смотрела на искрящуюся воду, вытирая слезящиеся глаза…
В воскресенье правнук явился под самое утро и впервые проспал до двенадцати.
На передовой
Эти гады бьют всё прицельней! Берут не то чтобы в вилку, а все средства применяют: и на понт берут, и блесну кидают, и сети раскидывают, и флажками обкладывают, и травить пытаются, и высокоточное оружие используют, и пропагандой давят. Но мы пока держимся. Тактику боевиков используем, по военной науке действуем, в бункерах, по-хуссейновски, отсиживаемся. Всегда находимся в постоянном движении, всегда готовы отразить любую угрозу.
Но всё равно – то сзади бабахнет, то сверху профырчит, то снизу толканёт. Приходится создавать видимость присутствия везде. Они же от этого ещё больше звереют и наседают, потому что любят нас панически, хотя виду и не подают. При случае, встретившись на нейтральной полосе, в разведке, могут и руку не подать, могут проворковать что-нибудь непотребное. Особенно опасна их тихая, слезоточивая вонь. Она проникает незаметно, парализует основные узлы сопротивления, поэтому большую часть времени мы вынуждены проводить в противогазах.
Но иногда происходят ночные стычки. Они самые кровопролитные. И хотя солдаты их армии рождены в потёмках, мы им не уступаем по причине нашей большой среднестатистической устойчивости. Это означает, что наш условный Берег Слоновой Кости стоит им поперёк горла. Мы же, хату покинув, дерзаем вернуться в евродом, потому что развиваемся скачкообразно и непредсказуемо. Они же боятся именно пространства и непредсказуемости, а также и нашего присутствия в евродоме. Они хотят оставаться там одни.
Вот опять обстрел начинается: то Букером пытаются накрыть, то Российским бестселлером шпарят, то премией Фета обложат. Вот ещё и Антибукер выползает, примеряется, вынюхивает. Но и он вдруг пропал. Госпремия зависла в космосе – выискивает, Пушкинская – глобально отслеживает. Бывают, конечно, потери – недавно грохнули одного. Под Российский бестселлер попал.
Но наше сопротивление продолжается. Не знаем, откуда силы берутся. Крепнем не по дням, а по часам. Потому что «ещё не ведомый избранник» – самый сильный и породистый.
Голубиная почта
Наш дом – кубик. А вернее – параллелепипед. Потому что вытянутый. С зелёненькими балконами. Мне он нравится, потому что я в нём живу, потому что квартира удобная, потому что вдали, между домами, видно Неву и потому что я молод.
Говорят, понимание скоротечности жизни приходит гораздо позднее, но я, как ни странно, это, в свою очередь, понимаю и любуюсь жизнью во всех её проявлениях. Недаром ведь мои близкие и друзья, не сговариваясь, называют меня разумным.
Я довольно толковый инженер. Я могу постоять за себя. И то, что я, в наше время, имею работу, – лишнее тому свидетельство. Может быть, скоро женюсь…
Но, несмотря на всё это, мне кажется, что я ещё студент. Кажется, и всё.
А теперь в путь, бегом по серенькой лесенке, потому что лифта не дождёшься, потому что ждать вредно, потому что ноги пружинят. А потом по бугристому, морщинистому асфальту, хотя ему ещё от силы три года, мимо скромных газонов, утыканных молодыми деревцами, между которыми снуют шавки, между которыми гуляет ветер, – к трамвайной остановке, чтобы, плюхнувшись в кресло и проехав одну остановку, нырнуть в метро и задуматься в глубине вагона, и задремать или всю дорогу нахально смотреть на хорошенькую девушку, нагло думая, что ей это приятно тоже.
Город накануне лета. Светло. Входишь в подъезды домов, как в тоннели, вылетаешь в маленькие и большие, асфальтовые и зелёные питерские дворы, где чирикают дети и птицы, где на скамеечках, если они ещё есть, дремлют или судачат старушки, подвыпившие мужички, собираются стаями фирмачи и даже светит солнце.
Всё в городе нарядно, и уже слышишь листву, её накаты, перешёптывания и взрывы. Слушаешь и не наслушаешься. Даже автомобили, которых порою становится слишком много, уже почти не мешают.
Город накануне лета. Ещё чуть-чуть – и вспыхнет Марсово поле, его знаменитая сирень, брызжущая, раскинувшаяся, ласковая, томная. И почти задыхаешься красотой, её радостным криком, сильным, здоровым, уходящим в небо.
Только я могу понимать и чувствовать всё это, я, живущий на окраине, в Невском районе, хотя и знаю, что могу ошибаться. Но это я, живущий там, где много Невы, где она одна, без рукавов, где у неё только один приток и тот – СЛАВЯНКА. Но Невы никогда и нигде не может быть много. И это я, живущий сейчас, смотрю в ваши глаза, я, инженер, вчерашний студент, проработавший по специальности всего три месяца!
И это я гуляю по городу, любуюсь его красотами, я, как этот сумасшедший Евгений. Наверно, скоро будет наводнение, чтоб я смог развернуться на всю Шлиссельбургскую. Потому что я живу на Шлиссельбургском проспекте!
Ну а пока нет у меня ни ковра, ни кота – всё пока родительское, – пока я не исковеркотовал жизни ни одной Тоньке или Надьке, а они не исковеркотовали жизни мне, и пока что о существовании коверкота мне известно только из толкового словаря да из русско-советской классики, которой вольно или невольно приходится интересоваться, потому что…
Потому что мне очень нравится Верка Ивановна Пономарёва, студентка нашего знаменитого университетского филфака.
– Штольц мы сегодня будем делать? – спросила, загадочно улыбаясь, Вера Ивановна, и я очень обрадовался, потому что загадочная улыбка её означает, что В. И. Пономарёва сегодня в хорошем настроении и что мы сегодня будем в хороших отношениях.
Верка – девушка строгая и неуравновешенная. Ей нравится, когда я называю её по имени-отчеству. Я часто её так и называю, но чаще – просто Вера, хотя ужасно хочется называть ласково. Но пока не получается…
Папа её писал статьи по научно-техническому прогрессу. Вроде как писатель. А мама работает в какой-то геологоразведочной фирме, рисует там карты. Хотя Верка говорила, что у неё какие-то там сложности начались. Короче, её маму я называю фирмахен, а фирму её – головедка. Потому что люблю слова кособочить, свивать-развивать, мять, стирать, полоскать и вывешивать на солнышке, прицепив на скрепочках к бельевой верёвке. И уж такими они становятся свеженькими да нарядненькими, звучными и энергичными. Верка говорит, что мне-то и надо было учиться на филологическом.
– Вера, давай поцелуемся? – и Верка вдруг поворачивается ко мне, делает шаг навстречу, привстаёт на цыпочки, берёт в ладони моё лицо и крепко целует в губы. Всё это так быстро, так нелепо и так здорово, что я останавливаюсь и стою как дурак. А она уже далеко впереди, и моё остолбенение уже позади, и я уже рядом, и мне этого мало… Но Верка делается ужасно строгой, и это значит, что всё для меня уже закончилось. Осталось мгновение растерянности, удивление жестковатому, скорому поцелую и светлое полукольцо её волос, особенно запомнившееся на фоне синего неба и неслышно шелестящей липы.
Как мне нравится эта липа!
Милая Верка! Мы ещё тогда не знали с тобой, что мама твоя больна и ей срочно нужна операция. И что денег у нас у всех нет. Ну вот нет, и всё! Что её головедка обанкротилась. Что нужно искать знакомых, у которых деньги есть. Что мы их найдём.
Но начнётся другая жизнь. Мы станем другими. И как бы нам ни было потом хорошо, так уже не будет никогда. Потому что это так.
Весна. Листья. Справа – решётка Михайловского сада. Мелькание, шелестение листьев, сквозь грохот трамваев и автомобильный гул. И – солнце!
И это мой мир и моя родина, заплёванная, измордованная, разорённая недругами, негодяями, друзьями, нами…
И появляются в душе какие-то почти незнакомые слова. Они сразу набирают высоту и гудят раскатом, каким-то густым, родным, и будоражащим, и спокойным.
Замыкаю зубы и губы злым сердцам,
А ключи бросаю в окиян-море, в свою железную падь.
И злобный защитник её не страшен,
Как не страшен злой ворог
И носитель пустого сердца…
Не забудем ничего, потому что надо жить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































