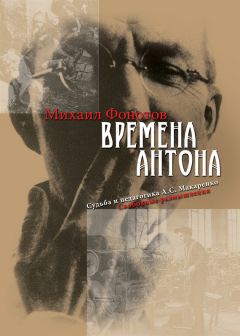
Автор книги: Михаил Фонотов
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Такое впечатление, что в педагогике ничего не устоялось. Все оспорено, и не по одному разу. А вопрос «как?» – остается. Например, как воспитывать – с насилием или без него? С наказанием или без него?
Время сослаться на Макаренко. На тот эпизод, когда он, не сдержавшись, ударил Задорова.

Группа педагогов коммуны им. Дзержинского
«Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня – я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках оказалась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей.
– Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убирайтесь из колонии к чертовой матери.
И вышел из спальни».
«Пройдя к сараю, в котором хранились наши инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес – не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили все, что им полагалось. Все равно. Я был готов на все, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револьвер».
«Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашел в насилии какое-то всесильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому Задорову».
Еще было происшествие – с Волоховым, когда Антон Семенович схватил его за воротник:
– Слушай! Последний раз предупреждаю: не морду набью, а изувечу!
И – случай с Осадчим.
«И вдруг педагогическая почва с треском и грохотом провалилась
подо мною. Я очутился в пустом пространстве. Тяжелые счеты, лежавшие на моем стуле, вдруг полетели в голову Осадчего. Я промахнулся, и счеты со звоном ударились в стену и скатились на пол. В полном беспамятстве я искал на столе что-нибудь тяжелое, но вдруг схватил в руки стул и кинулся с ним на Осадчего. Он в панике шарахнулся к дверям, но пиджак свалился с его плеч на пол, и Осадчий, запутавшись в нем, упал».
Самое поразительное в этих эпизодах то, что Антон Семенович не уберегал себя – хотя бы инстинктивно – от таких откровенных, «некрасивых» подробностей, нисколько не заботясь о том, как он выглядел в них. А выглядел он – и как человек, и как педагог – психопатом, которого опасно допускать до «пацанов». Мог бы он, однако, что-то «забыть», слегка приукрасить картину схватки, у него было время понять – до «Педагогической поэмы», что такими сценами ставит себя на место педагогической мишени. Но открыв перед всем миром себя – «такого», ничего не поправив и не пригладив, Антон Семенович, наверное, знал, что делает.
Позже одна из воспитательниц, Лидия Петровна, по поводу одного из конфликтов, съехидничает:
– Будем бить морду? И мне можно? Или только вам?
Однако – она же:
– А ведь ребята в восторге от вашего подвига. Это привычка к рабству?
– Нет, они понимают, что я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок.
Эффект искренней «потери сознания»? Эффект аффекта? Наверное. Но и с какой-то долей игры? Знать бы, чего больше? Наверное, в этих эпизодах действовал человек-Макаренко, но при этом присутствовал педагог-Макаренко, и своим присутствием педагог-Макаренко попридерживал человека-Макаренко от впадения в полное безумие.
Не сказать, что искренность – абсолютная ценность, но ценится она высоко. Даже подростки, оторвавшие себя от людей и замкнувшие в себе всякое сочувствие и сострадание, оценили этот взрыв эмоций, этот приступ гнева, это безоглядное отчаяние, такое, казалось бы, несвойственное этому человеку. И они, будто бы впервые, «увидели» Макаренко. И сразу же поняли. И открылись ему. И зауважали. И полюбили его.
Остается только предположить, что другого способа проникнуть в души этих беспризорников у Макаренко и не было. Может быть, только этот «язык» им близок и понятен. Им близко и понятно как раз то состояние человека, когда он в полном бессилии и глубоком отчаянии. Это состояние их и сроднило, как после вспышки молнии. На какой-то миг он, кабинетный начальник, и они, бездомные пацаны, – сошлись в одном озарении…
И что теперь? Вводить эти «взрывы» в педагогическую систему, в метод? Сделать правилом? Узаконить?
Нет, конечно. Такое буйство – непедагогично. Но – эффективно. Результат – сто баллов. И – отставить? Избегать? Не применять?
Такая она, педагогика – поди ее пойми. Один раз, так и быть, можно. Ну, два раза. Ну, три. Сколько-то можно. Иногда. И не каждому. Но – без системы.
Можно заключить, что система педагогики состоит из одних исключений. Впрочем, «взрывы» обнаруживают и одну закономерность, правда, очень трудную: всегда быть искренним.
Наказывать нехорошо, но можно…А, вообще, наказывать – можно?
Был такой случай. Коммунар Иванов украл у другого коммунара радиоприемник. На общем собрании было решено: Иванова – исключить. Выгнать из коммуны. Вплоть до того, что спустить с лестницы. Антон Семенович возражал и пытался разубедить коммунаров, но разубедить не смог.

Бюро комсомольского коллектива
Дальше продолжает он сам:
«Позвонил в НКВД и сообщил, что есть такое постановление общего собрания – выгнать, и выгнать символически таким-то образом. Они мне ответили, что этого постановления не утвердят и что я должен добиться отмены его.
Я обладал очень большим авторитетом у коммунаров и мог добиться, чего хотел, иногда очень трудных вещей. Тут я ничего не мог сделать – они меня лишили слова в первый раз за всю жизнь коммуны.
– Антон Семенович, мы вас лишаем слова».
«На другой день несколько видных чекистов приехали в коммуну. Их встретили так:
– Вы чего приехали? Защищать Иванова?
– Нет, добиться справедливости».
Чекисты убеждали коммунаров: «А куда Иванов пойдет? На улицу? Неужели вы не можете его перевоспитать? Вас же 456 человек, а он один».
Коммунары чекистам отвечали: «Пусть Иванов пропадет! Конечно, мы можем с ним справиться, но чтобы мы могли справляться с такими, как Иванов, его надо выгнать».
Спор шел весь вечер. Иванова выгнали. Дети настояли на своем. Взрослые отступили. Это – как?
Насчет наказаний Антон Семенович высказывался весьма витиевато. «Наказание не такое большое благо» – говорил он. Значит, все-таки благо. Но – небольшое. Еще он говорил, что «наказывать можно», но «хороший педагог не наказывает». То есть наказание – поражение. И еще он говорил: «Там, где нужно наказать, там педагог не имеет право не наказывать». То есть наказывать – долг.
Если все прояснить, получится так: наказывать – плохо, но жизнь заставляет. То есть в очередной раз жизнь заставляет применять то, в чем педагогика сомневается.
В коммуне было принято так: наказанию подлежат не только воспитанники, но и воспитатели. Если, разумеется, провинились.
Антон Макаренко:
«У меня был Иван Петрович Городич. Это было еще в колонии имени Горького. Он что-то не так сделал в походе. Он дежурил по колонии. Я разозлился. Спрашиваю:
– Кто дежурный? Пять часов ареста!
– Есть пять часов ареста.
Слышу голос Ивана Петровича, педагога. Мне даже холодно немножко стало. Он снял с себя пояс, отдал дежурному, пришел ко мне в кабинет:
– Я прибыл под арест.
Я сначала хотел было сказать ему „брось“. А потом думаю: „Ладно, садись“. И он просидел под арестом пять часов. Ребята заглядывают в кабинет – Иван Петрович сидит под арестом.
Когда кончился арест, он вышел на улицу. Ну, думаю, что-то будет. Слышу гомерический хохот. Ребята его качают.
– За что?
– За то, что сел под арест и не спорил».
С одной стороны, наказание воспитателя на глазах у воспитанников – не педагогика. А с другой стороны, – неожиданный, поразительный эффект. Сработало чувство равной, а не двоякой справедливости. Виноват – признай. И ответь. Если признал и ответил взрослый человек и воспитатель, то они, дети, готовы последовать его примеру – охотно, если не радостно.
Антон Семенович больше ценил близость друг к другу и равноправие воспитателей и воспитанников, чем высокий авторитет одних перед другими. А «признанная» педагогика – как? Она не так демократична, она более аристократична.
Настрадался Антон Семенович от наробразовских чиновников, обвинявших его в «аракчеевщине», в «военщине» и называвших его правила «жандармскими». Но не думал, не гадал он, что через десятилетия, уже в другой России, найдутся у него среди коллег еще более непримиримые противники.
В начале 2010 года в Харькове вышла книга «Педагогические апокрифы. Этюды о В. А. Сухомлинском». Составитель – академик Ольга Васильевна Сухомлинская, дочь педагога. Автор признает, что в молодые годы Сухомлинский был сторонником Макаренко, но позднее «отошел от некоторых его постулатов». Но открыто, в прессе Сухомлинский никогда не выступал против Макаренко. «Это была скорее внутренняя научная дискуссия». Оно и сразу ясно: тут дело не в Сухомлинском, а в Сухомлинской.
В каждой фразе выказывая свою ненависть к социализму и советской власти, Ольга Сухомлинская вместе с социализмом вдогонку мстит и Макаренко. Она сразу же его «расстреливает» первым же «выстрелом»: «Антон Макаренко был марксистом в педагогике». Как это понимать? В чем его марксизм? А в том, что он считал: «только коллектив может воспитать личность».

В. А. Сухомлинский с детьми
Ольга Сухомлинская пытается кому-то доказать, что ее отец, известный педагог В. А. Сухомлинский, Герой Социалистического Труда, отмеченный всеми мыслимыми в те годы наградами и званиями, «в суровых реалиях социализма» был гоним советской властью, подвергался травле, преследовался и так далее. И противопоставляет его Макаренко. В чем же они разошлись?
Будто бы пока славословили Макаренко, жизнь шла вперед и «на первый план стал выходить человек». И далее – коммуна Макаренко «не оставляла наименьших шансов для развития личности. Коллектив полностью ее поглотил». А в школе Сухомлинского «эти методы не пошли». И цитата: «Сфера личности ученика должна быть независимой, автономной, в которую никто не имеет права вмешиваться. Тем более коллектив. На первом плане не „мы“, а „я“». С этим ясно. Хотя стоит упомянуть, что Сухомлинский не отвергал «власть коллектива над личностью», при условии, что она – человечна.
Второе обвинение: Макаренко воспринимал только мажор. Он не любил тех, кто скулит и ноет. И ссылка на Сухомлинского: «Ребенок в разные периоды имеет право на минор».
Третье обвинение. С некоторых пор будто бы Сухомлинский «взялся за гуманизацию воспитания ребенка в суровых реалиях социализма». Гуманизация состояла в том, что Сухомлинский высказал свое предостережение: «Нормальное воспитание не должно знать наказаний». Наконец, последнее, категоричное: «Детей можно воспитывать только добром, только лаской, без наказаний». С поправкой на то, что «многие учителя не умеют еще воспитывать без наказаний, а в Павлышской школе – умеют».
Я не знаю, стал ли бы Антон Семенович спорить с Сухомлинским. А тем более с его дочерью. Может быть, и не стал бы. А я стану. Тем более что это просто: надо ссылаться не на дочь, а на отца.
Василий Сухомлинский, из «Писем сыну»: «Помни, что наша Родина – первое в мире социалистическое государство. Она открыла человечеству путь к коммунизму. Помни, что наша Родина дала миру великого Ленина».
Василий Сухомлинский: «Нет более прекрасных, величественных идей, чем идея коммунизма».
Василий Сухомлинский: «Школа должна воспитывать убежденных борцов за коммунизм».
Василий Сухомлинский: «Коммунизм – в самом человеке, в его счастье».
Что было, то было – говорил. Правда, некто Г. Глейзер взялся объяснить и «оправдать» Сухомлинского. Сначала он «посочувствовал» известному педагогу, которому пришлось жить и работать «в условиях лицемерия, ханжества, морального разложения, в условиях насквозь прогнившего строя». А потом – «чтобы выжить, а тем более творить» – предположил в нем «определенную гибкость» и «умение приспосабливаться». И не заметил, как в пылу славословия приписал и самого Сухомлинского к лицемерам и двурушникам…
Да, у Сухомлинского были научные оппоненты и откровенные противники. А у кого из известных людей их не было? В газетах появлялись «злые» статьи, и Василий Александрович воспринимал их очень остро. Наверное, он мог заподозрить, что это – гонения «сверху». Однако «сверху» сыпались награды и звания, подавались знаки признания и почтения. Как не раз это бывало, высокая власть не могла в каждом отдельном случае рассудить спорящих и, для верности, держалась одной линии – не обязательно верной. Но сказать, что советская власть «не любила» педагога Сухомлинского, – сомнительно. Наверное, она не любила его так сильно, чтобы всегда и везде бросаться на его защиту, но так она относилась ко всем без исключения.
Легко согласиться и с тем, что Василий Сухомлинский был искренним коммунистом. Сыном коммуниста (его отец – большевик с 1920 года). Что вынуждена признать и его дочь, которая, однако, с некоторых пор – вызывающая антикоммунистка. По ее мнению, «Василий Александрович, так же как многие другие, не представлял себе другой тип мышления, не в русле категорий марксистско-ленинской философии». Нет нужды задним числом находить в Сухомлинском какие-то либеральные прозрения. Допустимо ли, что, доживи до либеральных времен, он, как и многие другие, как и его дочь, перешел бы с одних позиций на другие? Наверное, этого нельзя уверенно отрицать. Но тогда, в 70-е годы, ветер перемен им еще не угадывался.
Что касается его разногласий с Макаренко, то они, скорее всего, объясняются не идеологическими расхождениями. Здесь – другое побуждение. Честолюбивое. Может быть, не вполне осознанное. Так бывает. Долгие годы Павлышская школа Сухомлинского и сам он не сходили с зенита славы. К последним годам он ощутил себя создателем некоего педагогического учения, которое вправе посягать на масштабы отнюдь не павлышские. Это внутреннее восхождение и придало Сухомлинскому смелости «в чем-то» не согласиться с Макаренко, со своим учителем. Однажды Сухомлинский обнаружил, что все остальные кумиры педагогики уже где-то ниже его. Выше оставался только Макаренко – Первый педагог. Не так ли?
Судя по всему, Василий Александрович и сам обладал теми качествами, которыми хотел наделить своих учеников, – он был сердечным, чутким, отзывчивым, светлым и очень добрым. Вот именно – духовно красивым. И это очень покоряет – то, что он хотел воспитывать доброту добротой. Хотел – и воспитывал. Он воспитывал – Сухомлинский. Но много ли таких, как он? И, значит, правильно ли возводить доброту в главный и едва ли не единственный принцип воспитания? Да, в жизни отведено место и доброте, но и много чему другому. Она – разноцветная, разносторонняя, разнообразная. Наверное, и воспитание должно быть, как жизнь, всеохватывающим.
Людям никак не наскучат споры о борьбе добра со злом. Философы уже сошлись в том, что зло – неистребимо. Что добро и зло – два конца одной палки. Что добро способно превращаться в зло и, наоборот, – зло в добро. Все вроде бы трезво рассуждено. Однако мы продолжаем чего-то ждать, на что-то надеяться. На то, в конце концов, что все-таки возможен мир, состоящий из одного добра.
Все сомнения развеяны, кроме трех. Первое: что будет, если люди прекратят борьбу со злом? Второе: если все-таки бороться со злом надо, то на какую меру рас-считывать – на половину добра, на треть, на две трети, на три четверти? И сомнение третье: как бороться – только добром за добро или можно привлекать зло? То есть злом – за добро? Как говорится, должно ли добро иметь кулаки?

Санобработка беспризорника в приемнике-распределителе
Не случайно то, что Сухомлинский мечтал, чтобы «доброта стала таким же обычным состоянием человека, как мышление». Что вознамерился он воспитывать добротой, красотой, радостью, мечтой, музыкой природы, верой в светлое будущее. Как это ни романтично, но так ему подсказала реальная жизнь. На его долю пришлись одно-два самых мирных, спокойных, сытых, благополучных десятилетия в истории России. У Макаренко были другие условия.
Добавлю, что обстоятельствами определялось и другое в деятельности Сухомлинского, – то, что к концу жизни он склонился к индивидуализму: Украина раньше других восприняла веяния с Запада, тот самый эгоизм, который подается под обликом «человека на первый план» и «права человека».
В условиях, данных Антону Макаренко, было не до тонкостей. Первоначально все сводилось к тому, чтобы привести, вернуть в общество подростков, отрицающих общество, отколовшихся от него и, в сущности, потерявших человеческий облик. Надо было, как ни странно, внушить им, что они – люди, такие же, как все. Не отбросы, не изгои, а люди, которые где-то там, внутри, ничем не хуже других. Дать им надежду – найти себя среди людей. Прежде всего, наделить их такими «фундаментальными» качествами, как честность, трудолюбие, уважение к другим. Да, Макаренко учил их, как есть (не чавкать!), как дышать (не сопеть!), как стоять, как сидеть и как ходить, но это были элементарные навыки поведения среди людей. До более тонких вещей – тактичность, учтивость, обходительность, снисходительность, вкус, изыск, манеры – дело не доходило. Сухомлинский работал и жил в других обстоятельствах. Ему было легче, чем Макаренко? Нет, не легче, но иначе. По-другому.
Пресловутый индивидуальный подход…О. В. Сухомлинская, имея в виду своего отца, высказалась категорично: «Главным, безусловно, является индивидуальный подход к каждому ученику». Слова красивые и будто бы правильные. Возразить нечего. Хорошо бы так: индивидуальный подход. К каждому. А реально ли? Надо ли возводить в абсолют тот таинственный «синхронный процесс воздействия двух субъектов» – воспитателя и воспитанника? Много ли таких учителей, сердце которых способно каждого ребенка «возлюбить», к каждому подойти индивидуально? Подойти, но ведь не только подойти, а побыть с ним и потом – отойти… Речь идет о массовом воспитании, о миллионах детских душ.
Однажды известного педагога Ш. Амонашвили спросили: «В России 13 миллионов школьников. Где найти для всех учителей-творцов?» «И не надо, – ответил Амонашвили, – невозможно найти миллион учителей и всех сделать новаторами». И добавил: одного бы такого учителя на школу – и то хорошо.

Группа ребят, которые были переведены в коммуну им. Дзержинского из колонии им. Горького. Вместе с ребятами их руководитель – В. Н. Терский. На столе военная игра, изобретенная и изготовленная в коммуне изокружком в свободной мастерской. 1928

Те же ребята через пять лет. На столе уже не игрушки, а электросверлилка, выпуск которой освободил страну от импорта. 1932
Индивидуальный подход невозможен не только потому, что не хватит «индивидуальных» учителей. Допустим, что «подходящих» учителей мы нашли. Будет ли их «подход» индивидуальным? Нет. Он будет одним из тысяч. У каждого воспитанника не один, не два, не десять, а тысячи воспитателей. Никто не в состоянии их учесть. Я думаю, Нобелевской премии достоин тот исследователь, который разберется, сколько индивидуальных влияний ощутил человек и как они на него повлияли. Это такая стихия, которая не поддается никакому моделированию. И потому в начале воспитания мы не можем предугадать, что получим в конце. Каким будет результат. Сколько их, великих, известных, признанных людей, которые ссылались и продолжают ссылаться на то, что в школе их не «раскусили»? Что никто из учителей и не подозревал, что он так вознесется. Вознесение пророчили другим, которые как-то «стушевались» и – не видать…
Антон Макаренко то и дело повторял, что человек «чертовски сложен». Да, человек сложен сам по себе, а общество, состоящее из человеков, в тысячу раз сложнее. И мы говорим: «Жизнь сложна». И пока мы ее не распутали, не познали.
Тот же Антон Макаренко отказался от индивидуального подхода к каждому из своих норовистых пацанов – не только потому, что не успеть каждого понять и каждому помочь, тем более каждого
возлюбить. Воспитание он «отдал» коллективу, а себе оставил воспитание коллектива. Как бы перевел полет на автопилот. Влияние коллектива – оно шире, объемнее, и что важнее, более жизненное, то есть более «от жизни». Вообще, воспитание – дело коллективное, а не индивидуальное.
Значит, сам воспитатель – ничто?
Это сложный вопрос. Воспитатель – профессия очень редкая. Если это профессия. Таких воспитателей, которые остались бы в душе человека на всю жизнь, – единицы. Каждый из нас может заглянуть себе в душу и убедиться в этом.
Вообще нельзя переоценивать роль личности в истории. Человек, сам по себе, мало что может. Почти ничего. А воспитатель – это, по истинному счету, человек, который хочет изменить человечество. Ключевое слово в этом предложении «хочет». Эту страсть что-то изменить мы и ценим. Пусть у него мало что получилось, но он – хотел. Суть в том, сколько таких «хотений».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































