Текст книги "Вокруг политехнического. Потомку о моей жизни"
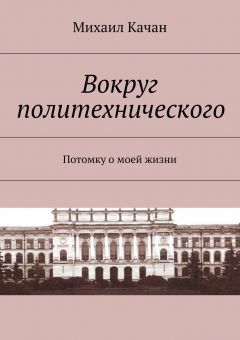
Автор книги: Михаил Качан
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Качан привёз барана
Тяжелая физическая работа без мяса (сейчас бы сказали: «без белков) – это почти невозможно. И, тем не менее, так оно и было. Нам совсем не давали мяса. Нам не давали и фондов на мясо, а все мои попытки решить этот вопрос в партийных и советских органах Оредежского района ни к чему не приводили. Мяса в районе не было.
Это было одно из чудес советской системы. В колхозах и совхозах было много коров, свиней и овец. Они регулярно забивались, но мясо их отправлялось в Ленинград или Москву. Никто не имел права продавать его в своем районе.
Если бы кто-то разрешил это сделать, последствия для него были бы самыми печальными. Снятие с работы было бы самым легким наказанием. Могли бы и под суд отдать.
Вот и получалось, что, требуя мясо, я бился головой о стенку. Тогда я стал звонить в Ленинградский Обком комсомола. Там на летний период был создан отдел комсомольско-молодежных строек.
Я знал, что не имею права обращаться через голову Сталинского райкома ВЛКСМ в Обком, но меня вроде как оправдывал летний период, когда многие были в отпусках, и «чрезвычайный» характер вопроса.
Для того, чтобы понять до конца, как трудно было туда звонить, надо представить себе уровень связи в середине ХХ века, да еще в ленинградской деревне. Я бы ниоткуда и не дозвонился, если бы мне не разрешили звонить из райкома КПСС.
Секретарь райкома нехотя позволил мне сделать «пару звонков», надеясь, видимо, что я все равно никуда не дозвонюсь. Но я дозвонился. И я убедил находившегося в обкоме ВЛКСМ комсомольского работника, что наши студенты «падают от усталости». Что без мяса они не смогут «выполнить задание партии и правительства и построить Оредежскую ГЭС» (такими красивыми словами я говорил).
Нас на стройке было 120 человек и, в конечном итоге, нам выделили фонды по 100 г мяса баранины на человека, и это было всего 12 кг, т.е. мясо одного барана. Я переспросил его:
– На каждый день?
– Нет, – ответил он. – Всего.
– Ты понимаешь, что это насмешка?
– Больше не дают. Бери хоть это.
На меня смотрели сочувственно и в райкоме партии, и в райисполкоме, но они были удивлены даже тем, что вообще что-то выделили, и не наложили на район дополнительной контрибуции.
Секретарь райкома тут же позвонил председателю какого-то колхоза и рассказал обо мне и о фондах на 12 кг баранины, которые я получил.
– Отпусти ему сегодня, – сказал он, – он сейчас к тебе подъедет.
Через час я был в правлении этого колхоза и познакомился с молодым и симпатичным председателем.
Потом мы вместе с ним поехали на какой-то луг, где паслись овцы и бараны. Он самолично выбрал крупного барана и сказал:
– Будет больше, – все-равно получишь. Что такое один баран на 120 человек?
Барана быстро зарезали, вырезали у него печень и сразу ее поджарили. На столе появилась бутылка водки, и мы с председателем выпили за мою настойчивость, и за мой успех, а потом и за его успех, и уже не помню за что еще, закусив жареной бараньей печенкой.
К вечеру я возвращался с бараном на стройку.
Уже вся стройка знала, что Качан везет барана, и по этому поводу было ликование. Студенты на протяжении недели следили за всеми перипетиями моей борьбы за «Мясо для строителей Оредежской ГЭС!» И вот теперь Победа!
На следующий день повар сварил все мясо. Был накрыт праздничный стол. Мясо было разрезано на куски и положено в какую-то кашу, так что каша тушилась вместе с ним.
Когда эту кашу с бараниной разложили по тарелкам, пахло бараниной, но самой баранины мало где было видно: лишь кое-где виднелись какие-то вкрапления мяса.
Через несколько минут хохотал весь обеденный зал. Я же еще до обеда предусмотрительно скрылся из виду.
На следующий день вышла стенгазета, и я прочитал остроумную статью под огромным заголовком: «Качан привез барана!»
Жаль, что эта стенгазета не сохранилась.
Морально я был готов к временному расставанию
Я вернулся в конце августа в Ленинград, и мама, вернувшаяся с дачи, возобновила разговоры со мной о необходимости расстаться с Любочкой, чтобы проверить свои чувства.
Все во мне кричало, что этого не следует делать, но почему-то доминировала мысль о необходимости расставания.
– Ведь это же временно, – думал я. И тут же другая мысль:
– А зачем? Кому это надо?
Я понимал, что ни Любочке, ни мне это не надо. Маме зачем-то надо. Но она ведь желает нам добра. Считает временное расставание очень важным для нашего (нет, не нашего, моего!) блага. Но мое благо совсем не в этом. Мне ничего проверять не надо!
Все эти мысли постоянно крутились у меня в мозгу друг за другом. А как сказать Любочке об этом. Она же ничего не поймет! Это же какой-то абсурд.
И я решил, что не надо ничего говорить Любочке о проверке чувств, а надо просто расстаться.
Да, просто расстаться. И пусть это будет моя инициатива. И пусть это будет не очень понятно Любочке. Как непонятно мне, даже после всех разговоров с мамой. Я понимал, что я делаю какой-то совершенно дурацкий шаг, и непонятно с какой целью, и в то же время уже зачем-то решился на него.
Мне тогда казалось, что я сумею в любой момент вернуться обратно, что Любочка будет любить всю жизнь только меня.
Увы, я чуть не разрушил всю мою жизнь. Я перечитал то, что сейчас написал. Путано и без всякой логики. Но примерно такой же абсурд был у меня тогда в мыслях.
Ах, мама, мама! Как же ты была неправа тогда…
Расставание с Любочкой
Любочка запаздывала к началу занятий, и я уже расслабился. Но в один из первых дней сентября ЭТО все же произошло, причём совершенно неожиданно для меня.
Утром я стоял на трамвайной остановке с портфелем в руках. Накрапывал мелкий дождик – обычная ленинградская погода.
К остановке подходил мой трамвай номер 32, и я подошел к месту, где должна была оказаться задняя площадка первого вагона, чтобы сразу вскочить в вагон. И в это время меня окликнула Любочка.
Я не видел, когда и откуда она подошла, но я сразу оглянулся, увидел ее, и чувство радости от того, что я вижу ее, пронзило меня. Я выбрался из кучки людей, которые вместе со мной пытались запрыгнуть в вагон, и оказался рядом с ней. Она тоже светилась радостью встречи. Мы поцеловались.
– Что же мне делать? Еще минута, и я уже не сумею сказать ей то, что задумал.
– Когда ты приехала? Только что? – я начал задавать глупые вопросы, чтобы выиграть время и собраться с мыслями. – Нет, нельзя сейчас на остановке трамвая об этом говорить.
Я видел, что Любочка явно ждала, что я сейчас заброшу мой институт, и мы куда-нибудь пойдем вместе. И мне смертельно этого хотелось. Даже не разговаривать, а просто быть рядом с ней.
– Не делай этого, – сказал мне какой-то гнусный внутренний голос. – Ты же решил расстаться с ней. Если ты сейчас пойдешь с ней, у тебя не хватит сил сказать ей об этом.
В это время я увидел, что к остановке подходит еще один трамвай №32. Так бывало часто. То ждешь трамвая по 15—20 минут, то они приходят друг за другом.
– Ну, хорошо, – сказал я решительно. Мне очень нужно сейчас в институт, и я не могу не поехать. Я очень рад, что увидел тебя, что ты приехала и уже здесь. Вечером поговорим. Я увидел, как вмиг потускнело ее лицо, и сердце мое пронзило болью.
– Что же я делаю, идиот? Я же ее так люблю! Зачем же я ее обижаю?!
Я вскочил на подножку и помахал ей рукой. Мне показалось, что ее сотрясают рыдания. Она отвернулась.
Трамвай тронулся, а я подавил желание спрыгнуть с него. А надо было. Сколько раз я потом мысленно спрыгивал с трамвая и возвращался к Любочке!
Не живу
Первое, что я сделал, приехав в институт, – пошел в профком к председателю. Именно студенческий профком (был еще и профком преподавателей и сотрудников) распределял места в общежития. Да и вообще он заправлял там всеми делами.
Я хорошо знал председателя Шлычкова, и я обратился к нему с просьбой дать мне место в общежитии. Разумеется, в общежитии мехмаша на Прибытковской ул.
Я сказал ему, что наши мероприятия заканчиваются поздно, а домой мне ехать далеко, – и это мешает мне работать. Он отнесся с пониманием к моей просьбе и написал мне записку. По этой записке уже через 10 минут мне выдали направление.
Общежитие тогда получить было совсем непросто. Жителю Ленинграда – просто невозможно. Но для меня было немедленно сделано исключение. Да я и не сомневался, что так и будет.
После утреннего неразговора с Любочкой я не представлял себе, как я вернусь под родительский кров и буду жить в одной квартире с Любочкой. Мое сердце было сплошной кровоточащей раной.
Самым разумным было бы извиниться перед Любочкой и как можно скорее. Но я себе не представлял, как я буду объяснять то, что произошло.
Голова шла кругом. Мысли вращались в голове тоже по кругу – я десятки и сотни раз вспоминал ее радостное лицо, когда она окликнула меня и ее поникший взгляд, когда она осталась на остановке. Все слова, которые были произнесены тогда, врезались мне в память, и они перекатывались в голове, как булыжники.
Меня не было, – я был раздавлен своим поступком и последствием того, что я сотворил. Я ненавидел себя за то, что я совершил. За то, что я поступил по-садистски по отношению к человеку, которого безумно люблю.
– Какая проверка чувств?! Зачем?! Кому это надо?!
Сегодня, через 53 года, когда я пишу эти строки, мое сердце разрывается от нахлынувших чувств, а стыд переполняет меня. Стыд и ощущение огромной невосполнимой потери.
Я не вернулся домой в тот вечер, а ушел в общежитие. Я позвонил маме и постарался, чтобы мой голос не дрожал. Телефон в нашей квартире стоял в коридоре, и я явственно почувствовал, нет, увидел, как изменилось лицо моей мамы, когда она услышала, что я не вернусь домой. Я не хотел огорчать маму и сказал ей буквально то же самое, что и председателю профкома, но мама все поняла с полуслова. Она всхлипнула, и я подумал:
– Ну вот, еще одному любимому человеку сделал плохо!
– Я зайду на-днях, мамочка, возьму кое-какие книжки и вещи. Ты не волнуйся, мне здесь будет хорошо. Ты представь, у меня прибавится два часа каждый день, – представляешь, как много я сумею сделать дополнительно.
Голос у меня был наигранно бодрый, но я был уверен, что мама знает причину моего ухода из дома. Она меня не спросила об этом, а я тоже ничего ей не сказал.
Телефон в общежитии стоял на столе у вахтера, на первом этаже напротив входной двери в этот шестиэтажный корпус. За мной уже стояли в очередь три студента, и я сказал маме, что не могу больше разговаривать, а она, видимо, по доносившимся голосам студентов, довольно громко разговаривавшим рядом со мной, поняла, что разговора не получится.
Я поднялся к себе в комнату на третий этаж и лег на койку поверх одеяла.
В комнате, кроме меня, было еще три студента с нашего, третьего курса мехмаша. Один из них был женат, но жена жила у своих родителей, а он жил в общежитии.
У нас были в общежитии комнаты для семейных студентов, но, чтобы получить такую комнату, надо было иметь еще и ребенка, долго стоять в очереди на ее получение (до двух лет) и надо было удовлетворять еще каким-то критериям, – вести общественную работу и т. п.
Этот парень тоже лежал на кровати, поджидая жену. Вскоре она пришла, а следом пришли и остальные двое. Молодая парочка немного посидела на его кровати, прижавшись друг к другу, возбуждаясь так, что, казалось, комната наэлектризовалась, и я уже хотел уйти, но они внезапно вскочили и убежали.
Ко мне в комнату, видимо, прослышав о моем переселении в общежитие, пришли двое студентов из моей группы, которых я знал с первого дня учебы в институте – Эллочка Реброва, крупная девушка с голубыми добрыми глазами, и Рафик Хасапетьян, очень спокойный, рассудительный парень. Он сразу заметил, что я не в себе, но в силу врожденного такта не пытался меня ни о чем выспрашивать. Но и так было ясно, что, если я ушел из дома, значит что-то не в порядке. Он знал Любочку, потому что дружил с девочкой из химфарминститута, да еще и с Любочкиного курса – Любой Давыдовой.
Потом Рафик ушел и вернулся с бутылкой вина. Мы выпили, но вот о чем говорили, я совершенно не помню. Может, за жизнь, а, может о пустяках.
Ничего не помню. Да и слышал ли я эти разговоры? Эллочка тоже пригубила стакан, но в основном молчала и слушала. И смотрела на меня печальными синими глазами.
А Рафик все время что-то говорил, и я только помню, что его голос то поднимался, то опускался. Так и прошел вечер. Если бы не они, я бы, наверное, в тот вечер сошел с ума.
Поехали на картошку

Студенты 445 группы мехмаша на уборке картофеля. На крыльце в погожий осенний день в первом ряду сидят: справа третья – Лида Динецкая, справа вторая – Элла Реброва; во втором ряду: третий справа – Витя Гофеншефер, второй справа – Витя Потехин. Фамилии и имена остальных, увы, забыл.
А на следующий день нам объявили, что занятий не будет, – едем убирать картофель в Ленинградской области.
Я уже привык к тому, что ежегодно в сентябре мы месяц, а то и больше проводим в селе. Я позвонил маме, попросил собрать одежду потеплее и сапоги с шерстяными носками в мой потасканный рюкзачок. Заехал домой и быстро попрощался. А на следующее утро из общежития пошел к месту сбора.
Разговор состоялся
С картошки я приехал к маме. Мама меня встретила радостно.
Мы поцеловались с Аллочкой, а Боренька просто не отходил от меня, все время улыбался мне и предлагал сыграть в шахматы, что я, в конечном счете и сделал.
Я уже собрался уезжать в общежитие, когда к нам в комнату зашла Любочка. С того момента, когда я покинул ее на трамвайной остановке прошло больше месяца. За это время я ни разу не позвонил ей, хотя собирался это сделать тысячу раз. Она вошла, и сердце мое прыгнуло, а душу защемило, и меня бросило навстречу ей, но, к сожалению, только мысленно. А внешне…
Внешне я не шевельнулся. Только посмотрел на нее и сказал
– Здравствуй.
Но, по-моему, и это слово я не произнес, потому что у меня перехватило горло. Любочка присела к столу.
Мама деликатно вышла, забрав с собой и Бореньку.
– Так ты теперь живешь в общежитии?
– Да.
Разговор не клеился, и Любочка сразу заговорила о встрече на трамвайной остановке.
– Как ты мог уехать?
Я выслушал о себе, все, что она думала. Я молчал и не перебивал. Любые ее слова обо мне были заслуженны. А если бы она знала всю правду?
Правда была еще хуже. Но я решил не говорить, почему я тогда уехал. Да и не было у меня подходящих слов. И обижать ее дополнительно я не хотел. Мне не было оправдания.
С каждым словом, с каждой минутой моего молчания я терял Любочку и понимал это. Может быть, надо было повиниться? Просить прощения? Броситься к ее ногам? Почему-то я не мог этого сделать.
Я и сегодня не уверен, что Любочка простила бы меня тогда. Должно было пройти время, чтобы все забылось. Или не забылось, такое не забывается, а хотя бы потускнело.
Но вот прошло уже более полувека, а Любочка и сегодня помнит о той обиде. Она оставила в ее душе кровавый рубец на всю жизнь, и виной тому только я…
Мы расстались, как чужие.
Замечу, что этот эпизод Любочка помнит по-своему. Не так, как я написал. Как я сейчас понимаю, это естественно.
Насер покупает оружие у СССР
31 августа 1955 года президент Египта Гамаль Абдель Насер заявил:
«Египет принял решение направить своих героев, учеников фараона и сынов ислама, и они будут очищать землю Палестины…
Не будет мира на границе с Израилем, потому что мы требуем мести, а месть – это смерть Израиля».
В сентябре 1955 года Египет закупил в Чехословакии 230 танков, 100 самоходных орудий, 200 бронетранспортеров, около полутысячи орудий, 200 самолетов (в том числе 128 реактивных), несколько эсминцев, катеров и подводных лодок. Это была техника советского производства, и она тогда превосходила западную, которой был вооружен Израиль.
Разумеется, и численное превосходство тоже было на стороне Египта.
В октябре 1955 года было создано объединенное военное командование Сирии и Египта, а через год к нему присоединилась Иордания.
Снова избирают в комитет комсомола Института
Меня снова избрали в комитет комсомола Института, но на этот раз меня рекомендовали уже заместителем секретаря по оргработе. По-моему, моя должность называлась тогда официально – 2-й секретарь комитета комсомола, потому что комитет комсомола института получил статус райкома ВЛКСМ. Первым секретарем комитета ВЛКСМ стал Веня Извеков, а Витю Пушкарева избрали первым секретарем Сталинского райкома комсомола.
Я стал правой рукой 1-го секретаря. Моя обязанность была – подбор людей на все комсомольские должности на факультетах, и работа с ними, прием в комсомол, все персональные дела, подготовка заседаний Комитета комсомола и многое другое.
Неожиданно для себя я стал крупной комсомольской шишкой. Меня приглашали на заседания к ректору и его заместителям, в партком, в профком, сажали в Президиум всех собраний, выдвинули и избрали членом пленумов Сталинского райкома и Ленинградского горкома ВЛКСМ.
Мое мнение выслушивали и, как я заметил, с ним считались. Ко мне начала стекаться масса информации, которую я жадно поглощал, впитывал …и мотал себе на ус. Я стал осторожнее в своих суждениях. Оказалось, что во многих случаях лучше промолчать, чем высказываться.
В ноябре мне исполнился 21 год, я был достаточно красноречив и отнюдь не косноязычен. Ребятам нравилось, как я выступал на собраниях и заседаниях, и мой авторитет постоянно рос.
С Веней Извековым у меня постепенно сложились хорошие, даже теплые отношения.
Ему было около 30 лет, он носил выпуклые очки, через которые глядели его добрые глаза, и его взгляд располагал к доверию. У него были принципы в жизни, но он не был ортодоксом, и считал, что перемены неизбежны.
Веня учился на 5 курсе металлургического факультета, жил в общежитии на Флюговом переулке, и я частенько бывал у него в комнате.
По работе мне приходилось часто заходить в райком, и каждый раз я заглядывал к Вите Пушкареву. Он всегда был рад мне, и мы подолгу говорили обо всем, что нас волновало.
А тогда в 1955 году комсомол, наконец, проснулся, студенты захотели получить ответы на многие вопросы и, прежде всего, на вопрос, почему в комсомоле стало скучно, неинтересно, формально.
Мы не хотели больше жить, как прежде, но мы и не знали, как можно по-другому. И об этом начали говорить на всех собраниях. Предлагали какие-то решения. Спорили до хрипоты. И ждали, что же нам скажут наши старшие товарищи. А старшие товарищи тоже не знали, что сказать, и пока молчали.
На четвертом курсе мехмаша
Работы в комитете комсомола было очень много. Теперь с утра я уже шел не на лекции, а в комитет комсомола. И стоило мне только показаться в комитете, как дверь в мой кабинет уже не закрывалась. Постоянно кто-нибудь входил с вопросом, и нужно было проявить усилие, чтобы бросить всё и пойти на лекции.
Сначала я такое усилие проявлял, и уходил на вторую пару лекций. Но бывало, что я не мог прервать разговор, и приходилось пропускать вторую пару. Потом я начал пропускать и лабораторные работы, и семинарские занятия.
Во второй половине дня надо было делать довольно сложные курсовые проекты, а я, вместо этого, оставался в комитете и занимался какими-то делами, которые казались мне очень важными.
Часто так и было, например, надо было налаживать работу комсомольского патруля, о чём речь впереди, или готовить материалы к очередному заседанию комитета комсомола, или беседовать с секретарями факультетских бюро, а эти беседы никогда не были короткими.
Мне всё же нравилась работа в комитете, я чувствовал, что нужен людям, что приношу пользу. И теперь я стал использовать малейший повод, чтобы не пойти на занятия.
Не могу сказать, чтобы это сильно радовало меня. Я понимал, что я поступил в институт не для того, чтобы заниматься общественной работой, а для того, чтобы получить специальные знания.
Но мне нравилось заниматься делами в комитете комсомола и совсем перестало нравиться то, что преподавали.
Время от времени я спохватывался и пытался наверстать пропущенное. Мне это вначале удавалось, потом уже перестало получаться, и, получая зачет за лабораторную работу, например, я чувствовал, что она не оставила во мне никакого следа. На следующий день я уже не помнил, что делал накануне. Если раньше я понимал все, что говорили преподаватели, объясняя новый материал, то теперь, пропустив пару лекций, я смотрел на доску, где преподаватель писал какие-то формулы или что-то рисовал, как баран на новые ворота, ничего не понимая.
Я глядел на ребят и девочек и видел, что даже троечники теперь знают больше, чем я. Иногда даже термины, произносимые преподавателем, были мне неизвестны. Я расстраивался, хотя старался не показать виду, что я не понимаю.
И, забегая вперёд, скажу, что я очень удивился, когда в апреле следующего года, меня наградили Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ за активную общественную работу и успешную учёбу именно за этот период моей жизни, – 1-й семестр 4-го курса мехмаша.
В воскресенье я иногда уединялся в читальном зале библиотеки или в комнате общежития и читал учебники, чтобы подогнать свои знания. Я нервничал и дергался. Мне казалось, что вся жизнь пошла наперекосяк. Главные ценности, которые у меня были в жизни, отступили на второй план, а на первый выступило то, о чем я раньше никогда и не думал. Иногда ложась спать, я пытался подвести итог закончившемуся дню. Но ничего интересного и серьезного не находил.
В течение дня было много разговоров, но эти разговоры мне лично ничего не давали. Занятия опять были пропущены, – а, значит, я ничего не получил. А занятия, на которых я бывал, тоже мало чего давали, потому что я почти ничего не понимал и почти ничего не запоминал.
– В общем, – думал я, – еще один день прошел впустую. Надо что-то делать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































