Текст книги "Вокруг политехнического. Потомку о моей жизни"
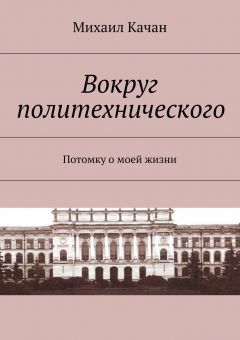
Автор книги: Михаил Качан
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
В СССР испытана сверхмощная водородная бомба
В ноябре 1955 года в СССР впервые было проведено испытание водородной бомбы, сброшенной с самолета Ту-16.
В США сброс водородной бомбы состоялся лишь 21 мая 1956 года.
История создания водородной бомбы связана с ошибками и жертвами. Оказалось, что первая бомба Андрея Сахарова – тоже тупиковый путь, и больше она не испытывалась.
После испытания, обернувшегося жертвами среди мирного населения, академик Тамм потребовал от коллег отказаться от всех прежних идей, даже от национальной гордости – «слойки» и найти принципиально новый путь:
– Все, что мы делали до сих пор, никому не нужно. Мы безработные. Я уверен, что через несколько месяцев мы достигнем цели.
Американцы 1 марта 1954-го у атолла Бикини подорвали заряд неслыханной мощности – 15 мегатонн. В его основу была положена идея Теллера и Улама о сжатии термоядерного узла не механической энергией и нейтронным потоком, а излучением первого взрыва, так называемого инициатора.
Советские физики весной 1954 года тоже пришли к идее взрывного инициатора. Авторство идеи принадлежит академикам Зельдовичу и Сахарову.
22 ноября 1955 года самолёт Ту-16 сбросил над Семипалатинским полигоном бомбу проектной мощности 3,6 мегатонны. Во время этих испытаний тоже были погибшие, радиус разрушений достиг 350 км, пострадал Семипалатинск.
Впереди была гонка ядерных вооружений. Но в 1955 году стало ясно, что СССР достиг ядерного паритета с США.
А от советского народа жертвы и разрушения при этих испытаниях скрыли.
Отменен приговор членам ЕАК
И еще одно событие произошло 22 ноября 1955 года – был отменен приговор членам Еврейского Антифашистского Комитета (ЕАК). Все они были расстреляны еще в августе 1952 года, но об этом никому не было известно. Только у родственников, которые пытались передать заключенным посылки, их перестали принимать.
А вскоре, в январе 1953 года, сослали в деревню Тасеево Красноярского края и родственников.
Чтобы не быть голословным приведу фамилии. Тогда сослали:
– вдову и дочь начальника Совинформбюро Лозовского,
– вдову и сына с женой писателя Бергельсона,
– вдову историка и профсоюзного деятеля Юзефовича,
– вдову и двух детей врача Шимелиовича,
– вдову, сына и дочь поэта Маркиша, его сестру и племянника.
– вдову актера Зускина и его дочь,
– вдову поэта Квитко,
– вдову поэта Гофштейна и их троих детей,
– мать редактора Теумина, его брата с женой,
– вдову журналиста Тальми.
Лишь после реабилитации расстрелянных членов ЕАК их сосланные родные смогли вернуться в свои дома.
Проекты и зачёты
Жизнь моя в этом семестре была совершенно иной, чем прежде. Я засиживался до позднего вечера в комитете комсомола. Я не пропускал ни одного вечера отдыха, которые устраивались то одним факультетом, то другим, и я оставался на танцы, чего я прежде никогда не делал.
Выбирал какую-нибудь девушку и провожал ее до дома. Целовался, если она позволяла, но новых встреч ни одной не назначал. После этого приходил домой в общежитие и ложился спать.
Комсомольская работа в этом семестре занимала все мое время. Я сидел либо в своем кабинете, либо в кабинете первого секретаря Вени Извекова, и не было ни секунды свободной. Все обсуждения, разговоры, – абсолютно все дела мне казались самыми важными делами на свете. Поэтому я теперь уже спокойно пропускал лекции, лабораторные и практические занятия.
Но мне не дали никаких поблажек в сдаче проектов, зачетов и экзаменов. И когда наступило время зачетов, Веня сказал мне:
– Ты должен быть примером и в учебе. Иди и сдавай.
Я ахнул. Хорошенькое дело – «сдавай». А если я ничего не знаю?!
Зачетная сессия наступила быстро и неожиданно. Я перестал ходить в комитет комсомола, да там сейчас и делать было нечего, и погрузился в учёбу. Буквально чудом я успел сделать все лабораторные работы, выполнить и сдать проекты и получить все зачеты. Удивительным было то, что я, по-прежнему, получал отличные оценки.
Я не просто чувствовал, я знал, я был уверен, что я ничего не запоминаю, что я этих предметов не буду знать.
Мне не нравились предметы, которые мы изучали. Они были очень важны для подготовки инженера—механика по специальности «Технология машиностроения – Металлорежущие станки и инструменты», но я уже понял, что я не буду и не хочу быть ни инженером-технологом, ни инженером-конструктором. Я не хотел заниматься ни металлорежущими станками, ни изучать скучную, как мне казалось тогда, технологию машиностроения.
Лихорадочно готовясь к зачетам, а потом и к экзаменам, я просто пользовался своей памятью. Не долговременной, при которой запоминаешь надолго, если не навсегда, а короткой, когда после зачета или экзамена через несколько дней ты уже ничего не помнишь.
Кстати, я оказался неправ. Во-первых, впоследствии оказалось, что я многое запомнил. Во-вторых, многое из того, что я тогда изучил, мне в жизни пригодилось, в частности, технология машиностроения. Впоследствии мне, например, пришлось разрабатывать технологию производства ракет и снарядов, а потом читать лекции по технологии их производства.
В учебном плане этого семестра из общих курсов много времени уделялось теплотехнике. Помимо лекций, там был большой курсовой проект. Надо было рассчитать и спроектировать паровую турбину.
Я приступил к выполнению этого проекта буквально за неделю до сдачи.
Я сидел в чертежном зале, обложившись книгами, пытаясь разобраться в том, что надо было познавать в течение трех месяцев. При всей моей нелюбви к тому, что я читал, и к черчению особенно, я разобрался и сделал проект. С трудом в последний день я сдал его и даже защитил на отлично. Но какой ценой! Я был совершенно вымотан.
Как в тумане, я выполнял одно задание за другим, ходил вместе с группой сдавать зачеты. Хорошо, что на зачетах редко ставилась оценка – отметку ставили, когда зачет назывался дифференцированным.
Я получал свои «зачтено», а на дифзачётах «отлично», но не испытывал никакого удовлетворения. Мне было как будто бы все равно. У меня не было никакого желания читать техническую литературу, рекомендованную лекторами. Может быть, потому, что я почти не ходил на лекции, а, может быть, и потому, что я не читал учебников, а лабораторные работы делал формально, поэзия, которую я чувствовал раньше в каждом предмете, куда-то ушла.
Я все же иногда приходил в комитет комсомола. К приходу экзаменационной сессии его помещения совсем опустели. Туда никто не приходил, и я с грустью смотрел на пустые комнаты, еще недавно заполненные толпой комсомольцев.
Зимняя сессия – последняя на мехмаше
Сразу после зачетов пошли экзамены, и я их сдавал один за другим и тоже почему-то на отлично.
Так было, пока не наступило время экзамена по теплотехнике. И вот тут-то я поплыл. Причем на каком-то пустяковом вопросе. Это было закономерно. Я безусловно не знал этого курса на отлично. И все же получив «хорошо», я расстроился. Я все-таки уже начал надеяться, что сдам сессию на отлично.
Итог – одна четверка, вторая за всё прошедшее время учебы в Политехническом. Четверку мне никак нельзя было получать, если я хотел сохранить стипендию им. Молотова.
– Правда, подумал я, – одна четверка, полученная на экзамене, не обязательно должна привести к снятию с меня этой стипендии. Но потом мелькнула другая мысль:
– А зачем мне нужна Молотовская стипендия? Зачем мне деньги, если Любочки все равно нет рядом.
Опять кольнуло сердце.
Мысли о переводе на физмех
Я все еще не решался попросить о переводе меня на физико-механический факультет, взвешивал все плюсы и минусы.
Минусов было много. Факультет, по-прежнему, был секретным, и я боялся, что меня не переведут. Евреев туда не брали, как и раньше.
Но и плюсы были. Главное, – время уже было все—таки другое. У меня было высокое положение в комсомольской иерархии, – все-таки второе лицо в институтском комитете. Я понимал, что просто так мне не откажут. И учился я хорошо, я же был Молотовским стипендиатом.
Я знал многих студентов с этого факультета по работе в комсомоле – секретаря факультетского бюро Володю Назаренко, в частности. У нас с ним были хорошие отношения, но я понимал, что его голос в этих вопросах весит мало.
Я знал, что деканом факультета был ученый-математик Георгий Иустинович Джанелидзе, и студенты о нем отзывались очень хорошо.
И мысли о переходе на физмех всё чаще посещали меня.
Расстрельные списки Сталина
Сегодня мне стыдно, что я именовался Молотовским стипендиатом, – Молотов был не только жертвой (я писал о том, что Сталин отправил в ссылку его жену Полину Жемчужину), но и одним из палачей Сталинского режима.
В тридцатые годы действовал «списочный» механизм осуждения. Расстрельные списки были рассекречены в 1998 г. На сайте Мемориала об этом можно прочесть более подробно.55
Сайт Мемориала: [битая ссылка] http://stalin.memo.ru/images/intro.htm.
[Закрыть]
В Политбюро утверждались списки лиц, чьи (чаще всего расстрельные) приговоры должна была потом оформлять Военная Коллегия Верховного Суда. За 1936—1938 годы Сталин и другие члены Политбюро рассмотрели и подписали 383 списка, представленные тогдашним наркомом внутренних дел Ежовым и прокурором Вышинским. Просмотр и утверждение пофамильных списков с заранее намеченной мерой наказания осуществлял сам Сталин. Формальных решений Политбюро по спискам не принималось, их роль выполняли резолюции «за» и подписи на самих списках.
Наиболее активно работали со списками Сталин и Молотов, причем лидировал Молотов – им завизировано 372 списка. Резолюции «за» и подписи Сталина сохранились на 357 списках. Каганович подписал 188, Ворошилов – 185, Жданов – 176. После утверждения таких списков, как правило, дела уже не рассматривались в Военной Коллегии Верховного Суда, а людей просто расстреливали. Таким образом, подписи Сталина и его ближайших соратников имели силу окончательного приговора.
Реальное число людей в этих списках было, по подсчетам общества «Мемориал» в период «Большого террора», – 43 768.
За 1940 год обнаружено два списка – от 16 января – на 457 человек и от 6 сентября – на 537 человек.
Представляли их Сталину Берия, сменивший Ежова на посту наркома, и тот же Вышинский. Берия в сопроводительной записке к одному из списков сообщил о том, что НКВД считает необходимым передать их дела в Военную коллегию Верховного суда для рассмотрения, причем 346 человек следует приговорить к ВМН (высшей мере наказания – расстрелу), а 111 – на сроки не менее 15 лет.
Просим Вашей санкции, – завершал записку Берия.
Среди 346 человек, которых должны были расстрелять, были Исаак Бабель, Михаил Кольцов, Надежда Бухарина-Лукина, Всеволод Мейерхольд.
Решение было принято Политбюро уже на следующий день – 17 января. Причем, предложение Берия приняли без каких-либо поправок и изменений. Сегодня кое-кто пытается обелить Берию. Ни его, ни палачей из Политбюро обелить невозможно.
Убийцы!
События моей жизни, которые я только что вспомнил и записал, отстояли от последних двух расстрельных списков всего на 15 лет.
На распутье
Я расстаюсь с моим читателем, досмотревшим книгу до этого места, в момент тяжёлой депрессии. Я мучился от неопределённости. У меня было два, как мне казалось, неразрешимых вопроса: отношения с Любочкой и учёба. Разные вопросы и решать их следовало по-разному.
И причины их возникновения были разными. В том, что у нас произошло, виноват был я сам. Надо было слушать только себя, своё сердце. Я никого не винил в том, что случилось, – я злился на самого себя. И я понимал, что разрешить эту проблему одним разговором нельзя.
Если, вообще, возможно.
Я всё время мыслями возвращался к Любочке: надо было решаться и делать какие-то шаги. Но какие?
А по второму вопросу – переходу на физико-механический факультет – нужно было решаться сразу сделать один решительный шаг. Если это возможно.
Я с родителями не советовался ни по второму, ни, тем более, по первому вопросу. Решения надо было принимать мне и только мне.
Глава 4. До свадьбы заживёт

Переход на физико-механический факультет
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день, и ночь, и день, и ночь!
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день, и ночь, и день, и ночь!
Николай Заболоцкий
В феврале 1956 г. я перевелся на физико-механический факультет. Вот как это было.
В конце концов я послушался совета Володи Назаренко и пошел к декану физмеха Джанелидзе. Он внимательно меня выслушал. Когда я рассказывал ему кратко свою историю поступления в институт, было видно, что он понимает больше, чем я говорю.
Да, я это увидел по его лицу. Я понял, что он не только понимает, но и сочувствует. Это вселило в меня некоторые надежды на переход, но холодный душ ожидал меня с другой стороны, и это было неожиданно..
Джанелидзе хорошо знал, какая большая разница в программах на физмехе и мехмаше. Он поручил своему заместителю посмотреть эту разницу и определиться, какие предметы мне нужно досдавать.
Я вначале и не понимал, что это так серьезно. После сверки учебных планов оказалось, что я могу перейти только на третий курс и то при условии, что я дополнительно сдам 12 экзаменов. О четвертом курсе, на котором я сейчас учился, не могло быть и речи. Джанелидзе, к которому мы с замдекана снова зашли, испытующе посмотрел на меня.
– Подумайте, – сказал он. – очень непросто.
У него был грузинский акцент, который мне нравился. Мне трудно сказать сейчас, сколько ему было лет. Тогда он казался мне почти стариком, но вряд ли ему было больше пятидесяти.
– Если решитесь, скажите об этом в нашем деканате. Вам выдадут направления на сдачу экзаменов.
Я чуть подумал и положил перед ним заявление о переходе, которое я заранее написал. Он молча его подписал.
Я сам всё решил и сам всё сделал. Родители мои действия не одобрили. Правда, они и не были категорически против. Да это и было бесполезно. Я уже всё сделал и не собирался отступать.
Появился приказ ректора института о моем переводе с механико-машиностроительного на физико-механический факультет, с 4-го курса на 3-й. И было там еще одно слово – условно, что означало – в случае успешной сдачи 12 экзаменов до 1 октября 1956 г.
Я расписался, что ознакомлен, и стал (условно) студентом 3-го курса физмеха. Через неделю я получил направления на экзамены.
Молотовскую стипендию с меня сняли, – оказывается, она была закреплена за факультетом. Из общежития мехмаша я выехал и вновь поселился дома.
С первого дня нового семестра я пошел в группу на физмехе. Только тогда я понял, что меня перевели не на специальность «Ядерная физика», о которой мечтал, а на специальность «Динамика и прочность машин». Я понял, что проситься на «ядерную физику» и теперь бессмысленно, и смирился.
И ещё одно сразу обрушилось на меня: я понимал далеко не всё, о чём нам рассказывали на лекции. Моего мехмашевского багажа нехватало, особенно математического. Теперь я на практике убедился в том, что разница в программах была огромной.
ХХ съезд КПСС
Ты к людям нынешним не очень сердцем льни,
Подальше от людей быть лучше в наши дни.
Глаза своей души открой на самых близких, —
Увидишь с ужасом: тебе враги они.
Омар Хайям, перевод Осипа Румера
Съезды в Советском Союзе проводились нечасто. ХVIII – был в 1939 году, XIX – в 1952-м, но вот теперь, в 1956 созвали съезд вовремя – через 4 года. Этот съезд – ХХ съезд КПСС – войдёт в историю.
Съезд заслушивал отчетные доклады, и мы выслушали доклад Хрущева, который был Первым секретарем ЦК КПСС, потом был доклад Булганина, он был Председателем Совета Министров, – о директивах к 6-му пятилетнему плану развития народного хозяйства. Потом выбрали Центральные органы партии.
Но в последний день съезда, а это было 25 февраля, совершенно неожиданно для всех Хрущев выступил с докладом «О культе личности Сталина и его последствиях». Доклад был секретным, в газетах он не публиковался, и мы узнали о нем не сразу, хотя какие-то слухи поползли. Сначала узнали в парткоме, а от комсомольских функционеров, каковыми мы являлись, они такие вопросы не скрывали. Но знали пока мало.
– Будет письмо ЦК, – сказали там. Тогда и узнаем все подробно.
Первый после смерти Сталина съезд партии состоял из двух неравных и различных по характеру частей.
Первая часть мало чем отличалась от предыдущих партийных форумов. В ее рамках обсуждались отчеты центральных органов партии и основные параметры 6-го пятилетнего плана.
Неординарной была лишь речь члена Политбюро А. И. Микояна, который резко раскритиковал сталинский «Краткий курс истории ВКП (б)» и отрицательно оценил литературу по истории Октябрьской революции, Гражданской войны и советского государства. По свидетельству другого члена семьи Микоянов, авиационного конструктора и делегата съезда Артема Микояна зал воспринял выступление брата негативно.
О второй части съезда – Письме ЦК КПСС – разговор особый. Мы не сразу узнали, что была эта часть, поскольку они были засекречены, и газеты об этом не писали. Хотя для всех нас именно эта часть оказалась самой важной.
Снова стал жить дома
Се, стою у двери и стучу…
Откровение Иоанна Богослова 3:14—2
Во всё хорошее я верю,
Мечту о счастье не унять,
Иисус Христос стоит пред дверью
И просит в дом Его принять.
Сергей Иванов
В феврале 1956 я снова стал жить дома. Была веская причина, почему это было необходимо. Двенадцать предметов, которые я должен был досдать, висели надо мной, как дамоклов меч: математический анализ, аналитическая и дифференциальная геометрия, дифференциальные уравнения, две части гидроаэромеханики и уже не помню, какие еще. Декан физмех факультета профессор Джанелидзе считал, что это будет очень трудно и, скорее всего, невозможно. Я же готов был на все, лишь бы перейти на физико-механический факультет. Мне казалось, что, если я не перейду, моя жизнь сложится несчастливо, потому что я всю жизнь буду заниматься нелюбимым делом.
Вечером в общежитии мехмаша заниматься было невозможно. А как будет в общежитии физмеха, мне еще предстояло переезжать.
– С кем там в одной комнате мне придется жить? Я на физмехе никого не знаю. Будет ли у меня возможность работать над книгами?
В конце концов, я понял, что лучше вернуться домой, здесь, хоть и в одной комнате, но можно будет и ночью посидеть, поработать.…
Я перечитал написанное здесь и понял, что не привел главной причины моего возвращения домой – меня неудержимо тянуло к Любочке. Я думал о ней постоянно. И я совершенно не понимал, почему я расстался с ней. Я пытался вспомнить причину, и не мог вспомнить.
Я теперь четко осознавал, что это было не мое решение, а моя слабость. Я поддался влиянию моей мамы. Но я ее ни в чем не обвинял. Я понимал, она думала, что так будет лучше для меня, а я ей поверил. А вот этого я не должен был делать. Я должен был жить своим умом. Я понимал, что я натворил что-то ужасное.
Как-то мама мне сказала:
– У Любочки кто-то есть.
И у меня кольнуло в сердце. Мне почему-то раньше казалось, что Любочка так сильно любит меня, что будет ждать, пока я не одумаюсь и не вернусь к ней. А теперь оказалось, что это не так.
– Сумею ли я вернуть ее любовь? И как это сделать?
– Надо вернуться домой. Надо чаще видеть ее. А как это сделать, когда к моей учебе на новом факультете и моей общественной работе, отнимавшей массу времени теперь еще добавилась сдача 12 экзаменов по предметам, где я, что называется, «ни в зуб ногой»?
Уже в феврале с началом занятий в новом семестре на новом факультете я снова стал жить дома.
Откуда такая уверенность в себе?
Между тем, начались занятия на третьем курсе. Никаких поточных лекций на 200 или даже на 100 человек здесь не было. Была одна группа около 25 студентов, в которой я должен был находиться весь день, – лекции, практические занятия, лабораторные работы, – и так шесть или восемь часов в день (три или четыре пары)
И я ходил на лекции, практические занятия, делал лабораторные работы, стараясь не пропускать занятий, но это плохо получалось, потому что комсомольская работа отнимала, по-прежнему, уйму времени, и иногда я уходил с занятий и с грустью смотрел на пропуски в тетрадях, где я записывал лекции.
Я и так из того, что нам читали на лекциях, многого не понимал, потому что пробелы в знаниях на первых двух курсах были значительными. Восполнить же их можно было только, досдав 12 предметов. Получался какой-то порочный круг, разрубить который можно было только одним путем, – заниматься с группой и заниматься дома или в библиотеке. Заниматься и сдавать. Но, кроме этих 12 предметов, я должен был сдать еще и весеннюю сессию. Я должен был выполнить свое обещание декану физмеха, а времени у меня не было совершенно. И я должен был прийти в хорошей форме к весенней сессии.
Я не понимал, как я это все успею. Но, откровенно говоря, я был уверен, что все успею и все сделаю. Я даже мысли не допускал, что провалюсь на чем-либо. И откуда такая уверенность в себе, в своих возможностях?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































