Текст книги "Поцелованные Одессой"
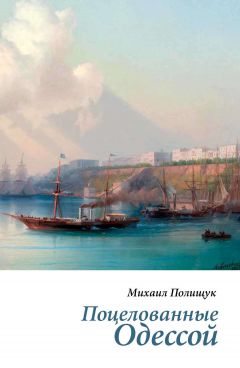
Автор книги: Михаил Полищук
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
«Ваше слово, товарищ маузер…»
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
В. Маяковский
«… Привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал… мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учёт и дали бы ей паёк по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни своё удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают…
– Его кушают с порохом, – ответил я старику, – и приправляют лучшей кровью…» (И. Бабель. Конармия (Гедали)).
Прообраз будущей ЧК – Автономная коллегия по борьбе с румынской и украинской контрреволюцией – создаётся в Одессе во времена так называемой Одесской Советской Республики, которая просуществовала с января по март 1918 года. Главой этой «Коллегии» из бран комиссар-организатор Совнаркома РСФСР Христиан Раковский. В своём первом обращении к одесситам, помещённом в местной прессе, самопровозглашённые карательные власти города предупреждают:
«Будем вешать и расстреливать всех, кто посмеет задержать дорогу буйному потоку революции».
Сменившая этот кратковременный карательный орган Одесская ЧК (ОГЧК) – Одесская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности – просуществовала в промежутках апрель-август 1919 и с февраля 1920-го по февраль 1922 года. Ликвидирована в связи с передачей полномочий новому ведомству по вооружённой поддержке и укреплению диктатуры власти – ГПУ (Главному политическому управлению).
Под свои нужды одесская «Чрезвычайка» занимает лучшие здания в наиболее престижных районах города. С момента своего основания и до конца 1920 года она обосновывается на Екатерининской площади в доходных домах Ждановой.
В реквизированных с этой целью квартирах, где поселилось руководство ЧК, сохранялась обстановка прежних весьма состоятельных хозяев, отличавшаяся завидной роскошью.
Здесь же рядом располагалась комендатура ОГЧК с «особой тюрьмой», вместимостью свыше 500 мест арестованных.
Впечатляющее зрелище дебюта беспощадных новоявленных распорядителей жизни и смерти граждан Одессы описывает очевидец Ефросиния Кресновская – бывшая бессарабская помещица, писательница, со временем разделившая участь узниц ГУЛАГа, автор мемуаров в шести томах, опубликованных в 2001–2002 годах:
«Всех юристов, весь “улов” этой ночи [20 июня 1919] – говорят, их было 712 человек – согнали в здание на Екатерининской площади, где разместилось это мрачное учреждение – Одесская ЧК. Заграждение из колючей проволоки. Статуя Екатерины Великой, закутанная в рогожу, с красным чепцом на голове. Шум. Толчея. Грохот автомобильных моторов, работающих без глушителя. И всюду китайцы. И латыши.
Прибывших выкрикивали по каким-то спискам и выводили небольшими группами по два, три или четыре человека. Отец провожал их глазами и не заметил, откуда появился человек в кожаной куртке. Он поднялся на нечто, напоминающее кафедру, полистал какой-то гроссбух под удаляющийся треск моторов. Впереди колючая проволока и узкий проход, который вьется, огибая статую Екатерины, и поворачивает обратно – почти до самого входа…»
По узкому проходу, змейкой огибающему статую императрицы, закутанную в карнавальное одеяние из рогожи и с пришпандоренным на голову красным чепцом, под грохот работающих без глушителя незатихающих автомобильных моторов обречённые участники карнавала смерти отправлялись в вечность.
В конце 1920 года ЧК переезжает на одну из красивейших улиц города – Маразлиевскую, заняв целый квадрат со всеми фасадными и внутридворовыми зданиями, где и просуществовала в лице своих преемников – ГПУ, НКВД – вплоть до вступления в Одессу румынских оккупантов в 1941 году.
На ранних этапах своего существования деятельность этого карательного органа (вооружённого отряда партии большевиков) отличается гласностью. В городской газете «Известия Одесского Совета…» почти еженедельно печатается рубрика «Деятельность ОГЧК», в которой граждане информируются об очередных расстрелянных.
Вспоминает доживший до восьмидесятых годов XX века комендант ЧК Н. Мер:
«Расстрелами занимались практически все сотрудники ЧК, дежурившие по ночам. Но в основном, как и по всей стране советов, для казней использовали комендантский взвод ЧК. В Одесской ЧК он состоял из китайцев, командовал которыми негр Джонсон. Во дворе дома на время расстрелов заводили мотор грузовика, чтобы заглушать звуки выстрелов. Приговорённых к смерти раздевали донага, разделяли на “партии” по 10–12 человек и расстреливали в гараже».
Активность одесских чекистов высоко оценивает нарком просвещения Луначарский. Находясь в городе, в ответ на многочисленные жалобы на бесчинства карательных властей, нарком обращается к Ильичу с просьбой прислать товарища Дзержинского в Одессу с тем, чтобы он поддержал «своим огромным авторитетом местную ЧК».
На поступившую просьбу главный чекист страны реагирует немедленным письмом своему коллеге в Одессе Станиславу Францевичу Реденсу, в котором, в частности, говорится:
«Всё, что я слышал о вашей работе, свидетельствует, что вы полностью на месте…»
«Железный Феликс» прибывает в Одессу в июне 1920 года и требует от местных товарищей «активизации борьбы с контрреволюцией». Последовал всплеск террора. Отвечая конкретными делами на призыв своего начальника, одесские чекисты, как вспоминал зам. ГубЧК тов. П. Подзаходников, «уничтожили многочисленные контрреволюционные организации с сотнями членов».
Время дворов и патриархальных одесских двориков стремительно уходит в небытие. Вместе с тем на место случайных подвалов и расстрельных площадок, окружённых заборами, обвитых травой забвения – плющом, приходит нечто более основательное и функционально соответствующее масштабной задаче по очищению страны от неугодных элементов, «лишних людей», – ссыльные лагеря, покрывшие необъятные просторы Евразии.
Свет погасшей звезды
«В Черноморске [Одессе. – М.П.] гремели крыши и по улицам гуляли сквозняки. Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра нежное бабье лето было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помирало среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. Холодные хризантемы тонули в мисках цветочниц… Голуби говорили “умру, умру”. Воробьи согревались, клюя горячий навоз. Черноморцы брели против ветра, опустив головы, как быки» (И. Ильф. Е. Петров. Золотой телёнок).
Под порывами «северо-восточного ветра» город долго и мучительно расстаётся с легендарным прошлым. Вместе с загнанным к мусорным ящикам «бабьим летом», лучи которого совсем недавно высвечивали плеяду ярких дарований, стремительно испаряется зависшая над Одессой аура, питавшая вдохновение и не знающий границ энтузиазм жизни сынов Южной Пальмиры. Некогда поразившие Марка Твена – первого американского туриста, посетившего Одессу, – своей чистотой и ухоженностью дома стремительно ветшают. В легендах, которые каждый пересказывает на свой лад, обретают свою посмертную славу герои Молдаванки и другие самобытные персонажи из иных мест обитания города.
Погружающийся в небытие город, подобно свету погасшей звезды, продолжает о себе напоминать всё ещё сохранившимся своеобразным укладом жизни, который теплится в местных двориках, в неповторимом одесском языке, в ностальгических нотках, которые угадываются в обращении к женщине – мадам, в упорном неприятии горожанами переименований улиц.
Гротескным воплощением категорического неприятия наступивших перемен воспринимаются кажущиеся нелепыми джентльмены, живущие призраками канувшего в Лету одесского прошлого.
Пикейные жилеты
«Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей панамской соломы. И, уж конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи. Здесь, у столовой № 68, где раньше помещалось прославленное кафе “Флорида”, собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска [Одессы. – М.П.]: маклера, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок).
«Почесать старые языки» означало поговорить за Одессу. которой уже нет, но которая глубоко застряла в их памяти. Они всё ещё там – в зависшем, подобно изображению на мониторе компьютера, вчера. Их не волнуют будни грядущих строек и преобразований. Они манкируют местную прессу с её сиюминутными новостями и литературными изысками – будь то знаменитый «Одесский листок» либо набирающая силу собравшая вокруг себя созвездие литературных талантов газета «Моряк».
Они равнодушны к байкам «бродячего летописца» – журналиста Антона Ловенгардта, знаменитого своими остроумными материалами с элементами иронии и подробными репортажами «за жизнь» одесситов, который в поисках занимательных сюжетов ежедневно обходит портовые причалы, общается с работниками порта, поднимается на палубы прибывающих и отбывающих в манящие дали кораблей.
Они грезят эпохой графа Ланжерона, который подарил Южной Пальмире статус «порто-франко» («свободного города»). При этом, по странной прихоти, они удостаивают внимания большевистский официоз – газету «Правда», материалы которой позволяют им «поговорить за жизнь», далёкую от реалий их повседневной обыденности.
«— Читали про конференцию по разоружению? – обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету – Выступление графа Бернсторфа.
– Бернсторф – это голова! – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. – А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов?
– Ну, о чем говорить… Сноуден – это голова! Слушайте, Валиадис, – обращался он к третьему старику в панаме. – Что вы скажете насчет Сноудена?
– Я скажу вам откровенно, – отвечала панама, – Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой телёнок).
Однако больше всего их взволновал Бриан с его проектом «пан-Европы».
При этом Валиадис, обращаясь к мсье Фунту, торжественно прошептал:
«– …все в порядке. Бенеш уже согласился на пан-Европу, но знаете, при каком условии?
Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.
– При условии, что Черноморск [Одесса. – М.П.] будет объявлен вольным городом» (там же).
В ответ, возможно, прозвучал еле уловимый звук стона.
Последнее прибежище в «языке»…
Последним прибежищем против мучительного расставания с совсем ещё недавно блистательным прошлым Южной Пальмиры служит неповторимый местный язык – язык, который позволял её обитателям ещё какое-то время лелеять особенности своей идентичности в виртуальном мире.
«Русский язык Одессы – региональный (территориальный) вариант русского литературного языка, сформировавшийся при значительном историческом влиянии средиземноморских языков, с субстратом языка идиш и украинского языка, распространённый среди жителей Одессы. Существует несколько точек зрения на лингвистический статус речи коренных жителей Одессы: помимо регионального варианта русского языка, он рассматривается также как городское койне, одна из разновидностей еврейских языков или как смешанный язык…» (Википедия)
«Таков одесский язык, начиненный языками всего мира, приготовленный по-гречески, с польским соусом. И одесситы при всем этом уверяют, будто они говорят “по-русски”…» (Влас Дорошевич, автор, которого вся дореволюционная Россия называла королём фельетона)
Не вдаваясь в лингвистические и прочие тонкости «одесского языка», отметим лишь – не существует подобного языка (мы говорим о языке, а не об акцентах) в вариантах петербургского, московского, киевского, саратовского самовыражения…
Получивший своё художественное выражение на поприще одесской литературы, в одесском фольклоре, в одесском анекдоте и т. п., «одесский язык» демонстрирует некую обособленность одесситов, нестандартность восприятия ими окружающих реалий жизни, их отстранённость, дистанцированность от её несуразностей и абсурда с помощью неподражаемой иронии, юмора, ставших неотъемлемой составляющей их самовыражения.
Смех для одессита – это нечто органичное его природе. Он, вероятно, даже не отдаёт себе отчёт в том, что смех – неотъемлемая составляющая его дыхания, своеобразное средство, помогающее восполнять господствующую в атмосфере кислородную недостаточность, в которую погружается город.
Святая простота
Портной Абрам Кац был на собрании, где сказал пламенную речь министр-патриот А. Ф. Керенский, все время называвший слушателей своих – «товарищи»!
Портной задумчиво пришел домой и на другой день прибил к своим дверям медную дощечку:
«Абрам Иосифович Кац. Товарищ военного и морского министра»
В одесской гимназии
Учитель: Скажите, Кошкер, как будет повелительное наклонение от глагола «молчать»?
Ученик (подумав): Ша!
Из воспоминаний Леонида Утёсова:
Двадцатые годы. В клубе одесского порта идёт концерт. Публика собралась совершенно неуправляемая – в зале шум, гвалт, звучат нелицеприятные реплики. За кулисами, в ожидании выхода на сцену, молодой пианист в ужасе шепчет:
– Как я буду выступать?! Меня же освистают.
Конферансье, старый эстрадный зубр, пытается его успокоить:
– Всё дело в том, господин пианист, как подать номер – смотри…
Конферансье выходит на сцену и, прерывая царящий в зале шум, орёт изо всех сил:
– Загадка, господа!!!
Зал настороженно притихает.
– На заборе написано слово из трёх букв, – обращается он к зрителям, – начинающееся с буквы Хэ. Какое это слово?
Зал дружно скандирует столь знакомое слово.
– Таки нет, – звучит в ответ. – Это слово – Хам, босяки… А теперь, биндюжники, слушают сюда – Бетховен! Лунная соната! Исполняет…
P.S. Особую окраску языку «одессизмов» придают его афористичность и интонационная ирония, позволяющие в толпе сохранить индивидуальность и дистанцироваться от реалий, не вызывающих особого оптимизма.
Утро 22 августа 1968 года. С дачного пригорода Одессы – Большого Фонтана еду в город на трамвае № 18. Передо мной мужчина почтенного возраста разворачивает газету «Правда» и перед притихшей публикой хорошо поставленным голосом (под Левитана) неожиданно зачитывает экстренное сообщение:
«Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены Договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верные этому Договору, наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма обязаны прийти на помощь друг другу…»
Смысл прочитанного сообщения начинает доходить до пассажиров, и вдруг кто-то с неподражаемой одесской интонацией восклицает:
«О! Дружба таки не знает границ!..»
Вагон разразился саркастическим смехом.
За призраком путеводной звезды, засиявшей над «Новым Вифлеемом»…
Пока фантазёры в пикейных жилетах и соломенных шляпах холили Одессу в своих грёзах и мечтах о возвращении городу благословенного статуса вольного города, пока простые горожане и не только они полагали, что сохраняют аромат Одессы в плоти местного языка, очарованные светом засиявшей в их воображении на северном небосводе сверхновой звезды, волхвы из Одессы отправляются к призраку очередного Вифлеема – в Москву, неся с собой в дар народившемуся младенцу революции самобытное одесское Слово.
Но прежде чем вписать это Слово в бурлящий поток героического пафоса социалистического реализма, появлению которого предшествовало настойчивое требование поэта – «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» (В. Маяковский), многим из них предстояло избавиться от наваждения прошлым, которым всё ещё была отягощена их память.
Перед дилеммой – абортировать творческий плод, зачатый в лоне стремительно уходящего вчера, либо рожать его на потребу чуждого и непонятного им мира, некоторые принимают решение в пользу сохранения жизни ещё не родившегося младенца.
Messengers[5]5
Messenger – вестник, глашатай, посыльный, курьер (англ.).
[Закрыть]
Зачатые под благодатным южным солнцем во времена, когда с лиц обитателей города не сходило ещё выражение, некогда позволившее восторженному поэту причислить их к жителям Авзонии счастливой, герои-посыльные, герольды Одессы устремляются в эпоху, где им, в лучшем случае, уготовлена участь чужаков, ненужных людей, нелепых литературных персонажей.
Оказавшись в мире не в своё время и не в том месте, они не ждут ничего хорошего от строящегося под заманчивыми лозунгами царства высшей справедливости. В их лице впадающая в состояние духовного анабиоза Одесса посылает провокативные тексты прощального привета тем, кто, охваченный слепым пылом, бодро «шагает влево…».
Персонажи, озвучивающие эти тексты, зачастую с непривычно звучащими для русского уха именами – Беня Крик, либо Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендербей, он же Бендер-Задунайский, он же Остап Ибрагимович, и иже с ними. Далекие по «обликус моралес» от идеалов борцов за светлое будущее, игнорирующие либо открыто презирающие окружающую действительность, они неожиданно востребованы читающей публикой и отличаются удивительным долгожительством на жёстко цензурируемом поприще литературы соцреализма.
Истоки этой востребованности, по-видимому, – не только в таланте авторов, воссоздавших яркие образы героев, манера поведения и даже язык которых воспринимались как откровенный эпатаж, вызов окружающей действительности, но и в том, что им удалось уловить нечто сокровенное – всё ещё пребывающее томление души по стремительно утрачиваемой свободе самовыражения.
В этой ситуации нетрудно себе представить реакцию сохранившего хотя бы остатки здравомыслия читателя на встречу с героем, который, в лучшем случае, никак не реагирует на настойчиво внедряемую мысль о том, что поступать не по «классовому чутью», но «по совести» (по личным устремлениям и чувствам) – недостойное проявление человеческой слабости, навлекающее на тебя «позор за подленькое и мелочное прошлое», поскольку, умирая, ты лишён «великой благодати» прошептать: «вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества» (Н. Островский).
Этот герой не готов принять на себя роль жертвы во имя превосходящего его понимание мессианского призыва к борьбе «за освобождение человечества».
Ему чужда испанская грусть деревенского хлопца, который вместо того, чтобы позаботиться о земле для своих близких и заняться обустройством собственного жалко выглядевшего жилья, хаты -
…хату покинул,
Пошёл воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
(Михаил Светлов)
Он не разделяет наивный энтузиазм масс и отказывается пристраиваться к марширующим толпам, откликающимся на романтический истерический вопль:
Крепи у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
(В. Маяковский)
Вместо того чтобы примкнуть к тем, кто стремится крепить «у мира на горле пролетариата пальцы». он с усмешкой и с редким упорством продолжает шагать не в ногу с остальными – «правой!», защищая право быть самим собой – право поступать по велению сердца и здравого смысла, которым не чуждо его «подленькое и мелочное прошлое», право дистанцироваться от толпы строителей нового непонятного мира, право на личное пространство, в котором обитает высшее таинство жизни.
Свои жизненные установки он черпает не извне, мало заботясь о том, насколько они вписываются в идеологическое пространство нового политического и культурного истеблишмента. Для него так называемый идеал нового человека, с пафосом восклицающего – «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше» (В. Маяковский), – пустой звук. Он есть то, что он есть – и не старается становиться кем-то другим. В своих действиях и поступках он предельно эмоционален (страсти, как известно, правят миром) либо крайне расчётлив и хладнокровен.
На вопрос одного из персонажей рассказа Бабеля «Как это делалось в Одессе» – почему именно Бене Крику, при наличии иных достойных претендентов на это место, удалось завоевать титул «Короля Молдаванки», следует удивительный ответ:
«Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот – забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. <…> Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле».
Беня становится «королём», не рассчитывая на поддержку вырастившей его семьи, во главе которой отец-биндюжник – Мендель Крик, думающий лишь «об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях – и ничего больше». Он тот, кто по праву может называться «self-made man» – человеком, который сделал себя сам. Он не интеллектуал. Слово – не та стихия, где он упивается свободой: «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал ещё что-нибудь» (там же).
Он живёт и действует в мире «по понятиям», который для окружающих его обитателей оказывается более приемлемым и справедливым, чем мир, живущий якобы по законам, в котором, по свидетельству несчастной старухи, «они», то бишь законники, «давят нас в погребах, как собак в яме», и даже не дают возможности «говорить перед смертью» (И. Бабель. Фроим Грач).
В атмосфере пространства потрясённого бытия, где герои носятся по городам и весям, готовые жертвовать собой и теми, кто, по их разумению, стоит на пути борьбы за освобождение человечества, когда безжалостное насилие рождает власть, а грань между добром и злом оказалась весьма зыбкой, устойчивой составляющей эстафеты неугасимого огня жизни, Менделю Крику и Нехаме Борисовне видится семейный очаг, пламя которого им удалось поддерживать на протяжении долгих и не простых лет жизни:
«Друзья, сидящие в моём доме! Этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика, и его супругу, Нехаму Борисовну, которые тридцать пять лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие! Мы знаем, слишком мы хорошо знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и оттого, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелее. Друзья, сидящие в моём доме! Я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах» (И. Бабель. Закат).
В отличие от Бени Крика другой персонаж, с немыслимо звучащим для русского уха именем – Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендербей, он же просто Остап Бендер – и с мало почтенной профессией – идейный «борец за денежные знаки» (в эпоху ещё до появления «ваучеров» и возникновения «пирамиды» МММ и т. п.), владевший четырьмястами сравнительно честными способами отъёма (увода) денег, скуп на проявление чувств, но виртуоз слова.
Авторы дилогии – «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» – находят для него уникальное виртуальное пропитанное одесским чувством юмора литературное пространство. Это своеобразный мир, где каждый персонаж продолжает свободно мыслить любым доступным ему способом, говорить удивительные вещи, о которых обыватель-советикус даже боялся помыслить: «Вся власть Учредительному собранию!.. И ты, Брут, продался большевикам». Вряд ли смысл многих подобных высказываний утрачивал свою остроту, оттого что крамольные для официального истеблишмента мысли и высказывания вкладывались в уста обитателя дурдома – единственного нецензурируемого пространства «на просторах родины чудесной».
Один из персонажей дурдома – бывший когда-то присяжным поверенным гражданин Старохамский – по идейным соображениям заточает себя в стены психиатрического заведения, пародируя фигуру Кая Юлия Цезаря. Облачённый в одеяло-тогу великого римлянина, он обретает невиданное пространство самовыражения – сцену для речения антисоветских лозунгов.
«— В Советской России, – говорил он, драпируясь в одеяло, – сумасшедший дом – это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное – это сверхбедлам. Нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти, по крайней мере, не строят социализма. Потом, здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести. Свобода слова» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой телёнок).
Читая подобное, любой читатель 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов мог сказать, что дилогия Ильфа и Петрова – едва ли не единственная книга во всей литературе тех лет, наедине с которой он ощущает себя по-настоящему свободным.
Лишённый повышенного чувства ностальгической привязанности к месту рождения авантюрист и пересмешник Остап Бендер, обретший на своей родине титул «великого комбинатора», одержим идеей бегства в свою голубую мечту – в Рио-де-Жанейро. В минуты одолевающей его хандры и временного протрезвления сознания он вдруг отдаёт себе отчёт, что мечта, которой он одержим, – всего лишь «Фата Моргана» (Fata Morgana), мираж:
«— А как же Рио-де-Жанейро, – возбуждённо спросил Балаганов. – Поедем?
– Ну его к чёрту! – с неожиданной злостью сказал Остап. – Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
– Ну и дела! – вздохнул Балаганов.
– Мне один доктор всё объяснил, – продолжал Остап, – заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой телёнок).
Тем не менее в какой-то момент, поддавшись власти опьяняющей дерзновенной мечты, великий ком бинатор конвертирует добытый пресловутый миллион в соответствующую валюту и во всякие изделия из драгметаллов и решительно направляется к ближайшей границе. В полной уверенности, что находится на расстоянии шага от своей цели, он бросает в отвергаемую им страну последнее «Прощай!»'.
«Всё надо делать по форме. Форма номер пять – прощание с родиной. Ну что ж, адьё, великая страна. Яне люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангелы и вкладчика сберкассы. Наоборот. Интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров…»
Трогательное прощание с отечеством «по форме номер пять» прерывается появлением вооружённых фигур румынских пограничников. Нарушитель государственной границы приветствует их заранее заученной фразой: «Траяску Романиа Маре!» («Да здравствует великая Румыния!»). В ответ на изъявление дружеских эмоций лишённые каких-либо сентиментальных чувств защитники рубежей «Romania Маге» деловито и беспощадно, подобно заурядным грабителям, освобождают беглеца от тяжести приобретённых неправедным путём богатств, вплоть до верхней одежды. На настойчивое предложение убраться восвояси Великий комбинатор реагирует возгласами бессилия и отчаяния: «Эксплуататоры трудового народа! Пауки. <…> Приспешники капитала! Гады!.. <… > Сигуранца проклятая! <… > Паразиты!»
Наблюдавший эту картину румынский офицер с собачьим воротником медленно вытаскивает пистолет и задумчиво оттягивает назад ствол – «Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад, к советскому берегу».
Через какое-то время без шапки и с сапогом лишь на одной ноге Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендербей, он же Бендер-Задунайский, либо Остап Ибрагимович возвращается в опостылевшие ему пенаты – в страну, с которой совсем недавно опрометчиво попрощался по форме номер пять. И как бы в продолжение внутреннего монолога, он вдруг прокричал в никуда принимающей его в недружеские объятия родине: «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придётся переквалифицироваться в управдомы».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































