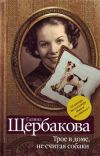Текст книги "Пастырство"

Автор книги: Митрополит Сурожский
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Отрывки из интервью в связи с возведением в сан митрополита[24]24
Радиопередача Би-би-си.
[Закрыть]
(1966 г.)
– Владыко, разрешите прежде всего поздравить вас с высоким саном…
– Мне кажется, что теперь все больше и больше значения приобретает человек, и это одна из проблем, которые каждый должен понять, потому что, если он не сохранится человеком, а даст себя поглотить ложным представлениям, которые у других есть о его сане, он обесчеловечивается, и тогда он больше никому не нужен.
– Владыко, вы поступили в Церковь сравнительно поздно…
– Я «поступил в Церковь» в техническом смысле этого слова, став священником, когда мне было тридцать пять лет. Но намерение стать священником у меня появилось гораздо раньше. Я был неверующий; для меня обретение веры было дело внезапное, которое меня очень глубоко потрясло, и с обретением веры мне одновременно стало ясно, что, кроме как Евангелию, не стоит ничему отдать жизнь. Но с другой стороны, обстоятельства жизни были таковы, что надо было работать; и вообще я думал, что священник должен быть культурным, глубоко знать жизнь и ничем не быть ниже своих прихожан. Кроме того, в обстоятельствах нашей эмигрантской жизни мне казалось, что если священник может иметь работу, которая его содержит, которая ему даст возможность и приходу помогать, и бедных поддерживать, то это идеал. И я мечтал кончить (как я и сделал) медицинский факультет, поселиться где-то, где есть русские православные, но бедные и немногочисленные, быть там врачом и сделать возможным для этих людей иметь церковь. Ну а жизнь повернула иначе, как обыкновенно бывает. То есть врачом я стал, но для того, чтобы поселиться где-нибудь в провинции, денег не оказалось, поэтому я начал практиковать просто в своей комнате в Париже и ходить по больным. Позже нашел маленькую дешевую квартиру, а потом развилась практика, и уже не было ни смысла, ни возможности уезжать. А тем временем, еще в самом начале войны, перед тем как попасть в армию, я принял тайный монашеский постриг и десять лет был в тайном постриге; так что эти разные стихии как-то сочетались.
– Ваш путь соответствует многим современным идеям о роли священника. Как на жизнь повлияло то, что вы стали епископом?
– В некотором отношении жизнь не изменилась, потому что я всеми силами стараюсь сохранить пастырскую, священническую связь со всеми людьми, с которыми имел раньше дело, или с новыми людьми, которых встречаю. Я стараюсь никогда не встретить никого в порядке администрации, а только как священник. И я воспринимаю церковную администрацию как церковное строительство, а строительство – только как духовное; и из этого может вырасти все внешнее, но не наоборот.
– Да, но традиционно епископ – это именно администратор, почти в бюрократическом смысле этого слова.
– Эта традиция есть, и эта опасность есть, но мне кажется, что промыслительно жизнь сейчас разбивает всякую возможность – во всяком случае, для нас в рассеянии – уйти в эту работу в таком духе, потому что администрировать нечего: надо создавать из ничего, и это ничто, вернее, кажущееся ничто, это – вдохновение людей, это – спаянность, единодушие, общая молитва, сознание, что мы являемся детьми одной великой Церкви, которая сейчас вышла на вселенские просторы и т. д.
– Не кажется ли вам, что роль священника, епископа в наши дни сильно изменилась?
– Да, потому что раньше священник жил в обществе и даже просто в мире, который был стабильным, который казался неподвижным и как будто никогда и не мог поколебаться на своих устоях. Тогда как сейчас священник живет в обществе и в мире, который в становлении, и мы ни на что не можем опираться, что было бы неподвижно, незыблемо, неизменно. Сейчас все – в движении, все в созидании; все возможности каждому открыты; и, конечно, это страшно усложняет жизнь, потому что в каждой стране, где мне приходится работать (а таких стран – вся Западная Европа), множество друг на друга не похожих проблем, и с другой стороны, везде надо именно создавать и жить в мире, который рождается.
Везде существуют политические, экономические и другие проблемы. И в Советском Союзе, и на Западе рано или поздно всякое общество и всякий отдельный человек приходит к тем же самым проблемам; одни раньше, другие позже; одни – одним путем, другие – другим. И только путем работы в складчину, когда люди, добросовестно ища самых лучших разрешений и самой чистой правды, вместе могут думать, могут поделиться с желанием друг другу дать то, что они сами узнали иногда очень дорогой ценой, а не только отразить то, что кажется в другом неприемлемым, – только в такой обстановке можно надеяться, что мир в становлении станет миром, а не просто анархическим обществом людей.
– Есть ли что-нибудь, что бы вы хотели сказать особенно нашим слушателям в Советском Союзе?
– Я хотел бы сказать, думаю, верующим – что они не одни, что во всем мире есть верующие, и что этот союз веры, союз нашей любви, сознание нашего единства во Христе нас делает живым и творческим телом, творческой силой в мире. А неверующим мне хотелось бы сказать, что борьбы между людьми не должно быть; что даже там, где наши идеологии несовместимы и не могут быть никаким образом согласованы, мы должны вместе искать той истины и той правды, которая есть объективная правда; и тот, кто ошибается, должен быть готов на каждом шагу признать свою ошибку и уступить большей истине. Не должно быть такого положения, где человек держится за свое только потому, что оно – свое. Это не научный подход; ученые так не подходят к своим изысканиям, это не человеческий подход, потому что он бесчеловечен, – он губит человека не только в противнике, но и в себе самом. И только если мы все будем искать безусловно правду, какая бы она ни была, мы сможем искать ее вместе и найти больше, чем у нас по отдельности есть.
Слово по случаю избрания нового Патриарха на престол Московский и всея Руси
(Лондон, 24 июня 1990 г.)[25]25
Пер. с англ.
[Закрыть]
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы слышали в сегодняшнем чтении из Послания к евреям, во что обходится вера: не о славе ее, а о той цене, которую платит всякий, кто предаст себя в руку Божию для того, чтобы быть послушным Его воле и служить Ему всей своей жизнью, а если нужно – и всей своей смертью. А смерть человека не всегда означает конец его земной жизни, а непрерывно возобновляемое самопожертвование, когда изо дня в день он приносит себя Богу в поклонении Ему, и тем самым – в служении тем, за которых Христос отдал Свою жизнь.
Две недели тому назад был интронизован наш новый Патриарх. Он родился до войны в свободной Эстонии; он знал, что значит свободно познавать веру Отцов, молиться без страха и угрожающей опасности; и, когда он был еще ребенком, его страна была предана во власть безбожных. Возрастающим юношей он созревал в трагической обстановке сталинской России. Но вера его не была забита, намерение, устремленность его не поколебались. Он услышал Христа, всем нам говорящего в Евангелии, что тому, кто хочет последовать за Ним, предлежит отказаться от себя, взять свой крест и идти путем, которым прошел Он Сам.
И эта доля выпала ему: преследования, которые обрушились в те дни на духовенство, были подлинно мученичеством. Но он не стал искать другого выхода из положения, кроме как следования по стопам Божиим. В свое время он принял монашеский постриг, и после долгого пути теперь избран нашим Патриархом.
И его решение умереть себе самому, так, чтобы жил в нем Христос, чтобы его жизнь была жизнью Христовой, теперь было подвергнуто новому испытанию. Ему выпало услышать голос Господа, говорящего ему то, что Он сказал Иакову и Иоанну на пути: «Готов ли ты пить Мою чашу до последней капли? Готов ли ты креститься, быть погруженным в Мою страсть?..». И он склонил голову и сказал: «Да, Господи!». Он сказал это с трепетом, сознавая свою хрупкость, сознавая, что никакими человеческими силами невозможно совершить то, что теперь стало его призванием; потому что он призван быть предстателем, печальником за всякую человеческую душу, верующую и неверующую, за живущих христианским убеждением и за их преследователей, предстоять перед Богом и держать Церковь перед лицом Божиим, как жертву приносимую. Потому что Церковь призвана быть всегда, до скончания века, телом Христовым, ломимым за спасение мира. Только мученик, только тот или та, кто готов отдать свою жизнь ценой для того, чтобы следовать за Христом, может сказать: Прости им, Отче, они не знают, что творят.
И вот на этот зов Церкви наш новый Патриарх ответил: АМИНЬ.
Но как велика наша ответственность! Потому что мы возложили на его плечи этот крест; мы призвали его стать мучеником, то есть свидетелем Божиим, любой ценой; как мы должны молиться за него! С каким благоговением, с каким чувством трепета должны мы держать его перед лицом Божиим, перед лицом Божией Матери и святых; как мы должны овеять его молитвой, открытостью, пониманием, всей поддержкой, какую мы только можем ему дать!
Поистине, миссия его выше человеческих сил: не просвещенный Светом Божественным, не умудренный от Духа Святого, не погруженный во Христа – кто может выполнить ту задачу, то дело, которое мы возложили на его плечи? Кто устоит до своего смертного часа между молотом и наковальней нас ради?
Но есть слово в Послании апостола Павла, которое может дать ему, которое дает ему и силу на подвиг, и надежду. Павел также понимал, что посланничество его невыполнимо человеческими усилиями, что он не может провозглашать с чистотой и совершенством слово Бога Живого, что он не может быть образом для всех, – один Христос может быть и словом, и образом; и он молился о силе, и Господь ответил ему, и сказал: Довольно тебе благодати Моей, Моя сила совершается в немощи… Не в робости, не в нерешимости, не в расслабленности, не в одном из свойств, присущих нашей слабости в вещах мирских и духовных, – нет, в иной немощи: в прозрачности, в хрупкости, в гибкости, которая дает Свету Божию литься через человека, как он лился через святых Божиих, таких как святой Серафим, святой Иоанн Кронштадтский, который был канонизирован тем же Собором, что избрал митрополита Ленинградского и Новгородского быть нашим Патриархом. Хрупкость ребенка, доверяющегося мудрым и любящим рукам родителей, хрупкость паруса на плывущем корабле (парус – самая хрупкая снасть корабля, но, управляемый мудро, может вместить силу ветра и привести тяжелое строение корабля в пристань), – такого рода немощь.
И Павел, который понял, который жил этой немощью, исполненной силой Божией, говорит: Не буду я радоваться ни о чем, кроме как о немощи моей, так, чтобы все было силой Бога Самого. И на исходе своей жизни, зная, что Бог совершил в нем и через него, познавший радость своей нищеты в таком общении с Живым Богом, Павел сказал: Все мне возможно в укрепляющей меня силе Христовой. Вот о чем мы должны молиться, когда мы думаем о нашем Патриархе! Мы должны окружить его любовью, благоговением, но также и трепетной молитвой, и, если нужно, дать ему всю поддержку, какую только способны дать.
Будем поминать его на всякий день, потому что задача его так многосложна. Дай ему Господь мудрость, чтобы он мог различать знамения времен, но не глазами мира сего, решая встающие проблемы необоженным житейским мудрованием; но так, чтобы он различал знамения времени и пути Божии в нашей эпохе! Дай ему Господь гибкость, которая сделает его способным из года в год, во все изменяющейся обстановке, прозревать поступь Божию на путях истории! Дай ему Господь стать подлинным печальником за Церковь, за всякую человеческую душу, верующую и неверующую, за землю, которая сейчас так трагически раздирается, распадается на наших глазах; за страну, в которой он родился, и другие страны, которые лишились своей свободы: Литву, Эстонию, Латвию, Грузию, Молдавию, – и за все народы, которые тоскуют о свободе, которой они, может, не понимают и сами, когда ищут свободы мирского масштаба, мирского измерения. А мы должны молиться, и он будет молиться о той свободе, которая есть свобода детей Божиих. Познай Истину, и Истина сделает тебя свободным, – говорит Священное Писание.
Станем же молиться за него: пропоем ему «Многая лета», чтобы Господь даровал ему долгую, плодотворную жизнь, даровал ему силу и подвиг сердечный нести крест, который есть НАШ крест. И будем наподобие Симона Киринейского, рядом с ним, чтобы подставить наше плечо там и тогда, когда это нужно, чтобы крест не раздавил его, не был слишком тяжелым, чтобы все вместе мы были спасены, и чтобы, когда придет день, он мог стоять перед Богом и сказать: «Вот дети, которых Ты мне дал, – спасенные, спасенные ВСЕ». Аминь.
Цель исповеди и сущность греха[26]26
Лондон. Беседа на рождественском говении 30 декабря 1989 г. Говение (в общепринятом значении) – подготовка к причастию, включающая присутствие на богослужениях, пост, углубленное самоиспытание. В практике прихода, руководимого митрополитом Антонием, это день, посвященный духовной беседе, совместному размышлению, молитве, общей исповеди; эти говения проводятся ежегодно Рождественским и Великим постом на русском и английском языках.
[Закрыть]
Цель исповеди и сущность греха
IТема исповеди, казалось бы, совершенно не нужна для людей, которые родились и воспитывались к Церкви. Но вместе с этим, видя, до чего порой бывает бесплодна человеческая исповедь (я говорю о других, говорю и о себе), приходится вновь и вновь задумываться: что представляет собой исповедь? Для чего мы исповедуемся, к чему это нас обязывает, куда это может нас привести?
Задумываясь над исповедями, которые мне пришлось приносить или которые я слышал, мне кажется, что слишком часто исповедь представляет собой как бы момент, когда мы хотим избавиться от груза, от очень порой мучительной тяжести прежних грехов для того, чтобы легче было жить. Говоря словами одного мальчика, которого сестра спросила, для чего, собственно, он исповедуется: для того, чтобы, скинув часть прежних грехов, освободить место для новых… И мне кажется, что это относится не только к этому мальчику, это относится еще больше к очень многим взрослым. Приходят на исповедь для того, чтобы облегчить свою душу, чтобы сбросить тяжесть прошлого; но приходят ли люди действительно для того, чтобы всерьез примириться с Богом, примириться с собственной совестью, примириться со своим ближним, покончить с прошлым ради того, чтобы начать новую жизнь?
Этот первый вопрос каждый из нас должен продумать, и не только для того, чтобы составить мнение, а для того, чтобы себя осудить, если действительно мы, подобно этому мальчику, приходим на исповедь ради того, чтобы сбросить какую-то долю тяжести, чтобы легче было идти в жизнь, но не ради того, чтобы покончить с греховным прошлым. И когда я говорю о «греховном прошлом», я, конечно, не говорю обо всем том, что в нас есть несовершенного, потому что это – труд целой жизни, но о том прошлом, которое стало нам понятным, доступным, которое мы увидели во всем его безобразии, неприглядности, и которое хотим отстранить: не только в сторону положить, но уничтожить, чтобы его не стало.
В этом отношении есть замечательное и очень строго нас осуждающее место в писаниях святого Варсонофия Великого, который говорит, что если мы действительно увидели безобразие того или другого греха, который нас держал в плену, если мы действительно содрогнулись до самой глубины души от того уродства, которое этот грех наложил на нашу душу, то мы можем прийти к такому состоянию, когда действительно его оплакиваем: не слезами глаз, а плачем сердца, потрясением всего нашего естества; и нам делается ясным, что больше мы к этому вернуться никогда не можем. И он говорит, что только тогда мы можем считать свои грехи прощенными. Святой Варсонофий говорит даже больше: если мы прошли через этот опыт, если видение нашего греха во всем его уродстве нас так потрясло, так отвратило от него, что мы чувствуем: больше к этому вернуться нельзя, просто никак нельзя, – то мы можем уже считать себя прощенными Богом и, как он говорит, даже на исповедь к священнику не надо идти, потому что то, что Бог уже простил, очистил и исцелил, не подлежит дальнейшему прощению, очищению и исцелению.
Но тут второй вопрос. Кто из нас когда-либо пережил тот или иной свой грех так, кто увидел этот грех как убийство собственной души, как убийство другого человека, как наше холодное, порой очень сознательное участие в убийстве Христа? Этот вопрос опять-таки нам надо поставить перед собой, потому что мы приходим на исповедь все время, раз за разом, и приносим те же грехи. Неужели мы не ощущаем их? Неужели они для нас так мало значат? Неужели, если бы мы понимали, что этот грех значит, мы могли бы к нему так спокойно вернуться?
У апостола Павла есть место, где он говорит, что вопрос не в величине греха, а в том, что мы грех выбираем. Я думаю, можно бы это так себе представить: есть река, которая течет между областью Христа и областью сатаны. Местами она узкая, ее можно перейти почти пешком, местами она делается глубокая, полноводная, широкая. Но вопрос не в том, где мы пересекли эту реку, а в том, что мы оставили область Царства Христа и Бога для того, чтобы переправиться в область сатаны. Это так просто – и так жутко! Грех – это выбор между Богом и Его противником, между жизнью и смертью, между светом и тьмой. Это может быть не злостный выбор в том смысле, что мы не говорим: «Да, я отрекаюсь от Бога и Христа Его и перехожу в лагерь противника». Но это выбор в том смысле, что я говорю: «Сойдет! Это не так важно! Я себе дам поблажку; хоть на короткое время перейду в область, где меня совесть не будет упрекать, потому что это область тьмы и в этой области я не буду казаться таким темным, каким вижу себя в области света».
Вот в чем грех; и каждый раз, как мы поддаемся греху, мы ставим себя именно в такое положение. Порой – злостно, богопротивно; а порой – исподволь, с легкостью: «Всегда можно вернуться!». Да, можно вернуться – но не так просто; да, мы можем обратно пересечь эту реку, переплыть ее, порой перешагнуть – но какими мы возвращаемся? Мы возвращаемся не теми, какими были до того, как отреклись от нашей дружбы с Богом и ушли в область Его противника, богоубийцы; мы возвращаемся уже заклейменными, испачканными, ранеными, порой очень глубоко. И исповедь, о которой мы сейчас говорим, заключается в том, чтобы вернуться к жизни: не просто очиститься, как бы пройти через баню и почувствовать, что прошлого не стало; нет, – мы говорим сейчас о примирении. Но не о примирении просто со своей совестью: «Теперь я уже не тот, я этого больше не хочу и не собираюсь делать!» – о примирении с Богом, Которому мы изменили, от Которого отреклись для того, чтобы выбрать себе другого хозяина, другого вождя жизни.
Мы знаем, что такое примирение в обычной нашей жизни, когда мы с кем-то поссорились или – даже если тот об этом не знает – на человека наклеветали, налгали, когда мы распространяли о нем сплетни. Знает он об этом или нет, мы должны к нему прийти и открыться, ему сказать: «Ты меня считаешь за друга, ты ко мне относился всегда как верный друг; ты мне вправду всегда был верным другом, но я – нет! Я предатель; я тебя предал, как Иуда предал Христа; я от тебя отрекся, как Петр отрекся при виде опасности, но я это сделал без всякой опасности. Ничто мне не угрожало, меня только притягивала какая-то приманка, мне чего-то хотелось больше твоей дружбы, больше моей собственной цельности душевной, телесной».
Так же мы должны бы подходить к исповеди. В малом мы согрешили или в великом (а величина греха измеряется не какими-то объективными мерками, а той любовью, которая у нас есть или которой нет) против человека, которого глубоко любим, – самое маленькое прегрешение против него, легкомысленное слово, самое незначительное слово или поступок кажутся нам катастрофой, нас глубоко ранят. Когда мы человека мало любим, то думаем: «Ну и что? Сойдет! Забудется! Разве это важно? Разве наши отношения не настолько чисты, гармоничны, светлы, чтобы это могло набросить на них тень или разбить эти отношения?». И тогда мы спокойно относимся и к примирению: стоит ли примиряться? Надо только успокоиться… И вот тут стоит вопрос о нас в нашей исповеди: приходим ли мы на исповедь для подлинного, истинного примирения или ради того, чтобы нам стало просто спокойнее, уютнее, безболезненнее жить?
В исповеди еще одна проблема в том, что, когда мы приходим к Богу, молимся Ему, исповедуем Ему наши грехи с большей или меньшей теплотой или холодностью, мы от Него не слышим ни единого слова ни упрека, ни примирения. Он как бы безмолвствует. Нужна очень большая чуткость души для того, чтобы почувствовать – примирился ты с Богом или не примирился. В этом большая разница между исповедью и примирением с человеком, которого мы обидели, оскорбили, обошли. Когда мы к такому человеку подходим, он может нас выслушать и сказать: «Я изверился в твоей дружбе, я больше не верю тебе». Или: «Нет, простить тебя я не могу; ты меня ранил слишком глубоко, ты меня оскорбил слишком жестоко; не думай, что одними словами ты можешь переменить мое состояние, исцелить мою душу! Ты должен долгим, может быть, временем и большим подвигом мне доказать правдивость, искренность твоих слов, того, что ты ко мне пришел и говоришь, что тебе стыдно, жалко. Наша дружба пошатнулась».
Об этом опять-таки нам стоит задуматься; потому что мы слишком легко ожидаем, что, когда мы сказали Богу о своих грехах, когда мы «покаялись», выразили свое сожаление, Бог нас простит. Конечно, простит! Разве Он не Бог? Разве не для того Он жил, и учил, и умирал на Кресте?..
И вот эти слова «умирал на Кресте» мы забываем слишком легко. Есть беседа святого Серафима Саровского с одним посетителем, которая в этом отношении должна бы нас очень глубоко ранить. Преподобный Серафим говорил, что, когда мы приходим к Богу с покаянием, – да, Он может нас простить, и Он нас прощает, в том смысле, что Он нас не отвергает; но (говорит Серафим) вспомните, какой ценой Он получил право нас прощать. Он имеет право нас прощать, потому что умер за нас; Он имеет право нас прощать, потому что по отношению к каждому из нас Он может сказать, что мы – Его распинатели. Да, в самом прямом смысле мы – участники Его распятия, и Он произносит над нами слова: Прости им, Отче, они не знают, что творят…
Но тогда те люди не знали, что творили, а мы разве не знаем? Разве мы не знаем все то, что сказано в Евангелии? Разве мы не знаем, что Христос умер не только за нас, но из-за нас, что, если бы не было нашего греха, большого или маленького греха моей измены, моего предательства, Ему не нужно было бы умирать?! Если был бы только один грешник на земле (об этом говорится в житии одного святого), Христос умер бы за него, единственного. Значит, каждый раз, когда я свою душу убиваю, когда я себя оскверняю, когда я делаюсь предателем, когда я предаю не только Бога, ближнего, но и самого себя, – я каждый раз делаюсь ответственным за убийство Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим.
Это должно бы и нам дать возможность, и обязать нас измерить значение любого нашего греха, потому что в каком-то отношении нет, в конце концов, грехов крупных или мелких. Конечно, есть грехи, которые могут разом убить нашу душу; есть грехи не столь убийственные; но все они в каком-то отношении являются нашим участием в распятии Христа. И нам кажется, что отделаться от этих грехов было бы так легко! В крупном грехе – да, если он действительно нас ударит в душу по-настоящему, мы можем раскаяться глубоко, трагично. А о мелких грехах нам кажется, что стоит только сказать: «Господи, прости!» – и мы прощены. Есть рассказ в жизни одного подвижника, юродивого из Средней России. К нему пришли две женщины; одна совершила крупный грех и каялась, плакала о нем, была глубоко им ранена. А другая говорила: «Ну что я? Грешна, как все; мелкие грехи – разве так они важны?». И юродивый им сказал: «Идите в поле. Ты (совершившей тяжкий грех) найди самый тяжелый камень, какой можешь поднять, и принеси его сюда. А ты (второй) собери полный фартук камушков с дороги». Женщины так сделали и вернулись. Тогда подвижник велел первой: «Теперь отнеси свой камень и положи его точно так, как он лежал до того, как ты его вынула из земли»; а второй: «Пойди и разложи камушки, которые ты собрала с дороги, точно в те места, где они лежали». Обе ушли; одна вернулась быстро, так как легко нашла след того большого камня, который вырвала было из земли и принесла, и легко вставила его в оставшийся след. А другая так и вернулась с полным камушков фартуком: «Не могу найти, откуда я их взяла!». И юродивый им сказал: «Так и с грехом; если ты истинно покаешься в большом грехе, ты как будто обратно положила этот камень; а чтобы отделаться от множества мелких камушков, ты не можешь найти места, откуда они взяты».
Об этом опять-таки приходится задуматься. Нет никакого смысла выбирать, в чем каяться, а в чем «не стоит» каяться, потому что мы не знаем, сможем ли сбросить, снять с себя тот будто мелкий грех, который совершили. Мелким ли согрешением, крупным ли – мы переступили грань, перешли из области Божией в область противника, из области света в область тьмы, и вернуться светлыми, незатемненными уже не можем. И опять-таки скажу: для того, чтобы исповедь была очищением, она должна быть подлинным примирением.
Теперь: примирением в чем и с кем? Когда мы приходим на исповедь, мы большей частью думаем, что нам надо примириться с Богом, и достаточно Ему рассказать все или столько, сколько умеем, чтобы Он нам сказал: «Ну, прощаю тебя!». Но это не так. Это не так, потому что большей частью грехи мы совершаем через унижение, оскорбление, обездоление кого-нибудь из наших ближних; и примирение должно начаться с того, чтобы примириться с тем, перед кем мы виноваты. Бог не может простить нам того, что мы совершили над ближним, пока мы сами не сделали ничего, чтобы примириться с ним. И поэтому когда приходит, скажем, Прощеное воскресенье, совершенно напрасно мы ходим и говорим нашим ближним: «Прости!» – и те отвечают: «Бог простит!», если мы не сделали ничего, во-первых, чтобы прийти к тем, кого мы оскорбили, а не к тем, перед кем мы ни в чем не виноваты, и, во-вторых, если не открыли им свой позор, свою неверность, свое предательство.
И наконец, примирение должно иметь место по отношению к нам самим, а не только по отношению к Богу или к нашему ближнему; то есть мы должны стать цельными из той разбитости, раздробленности, какая является нашим постоянным состоянием. Помните, апостол Павел говорит: то добро, которое люблю, я не творю, а то зло, которое ненавижу, творю постоянно (см. Рим. 7: 19). В нас действительно разделение: разделение между, порой, правильными, истинными мыслями – и желаниями сердца; между нашими порывами к добру – и поползновениями ко злу.
Один из Отцов Церкви говорит, что три воли определяют состояние мира. Воля Божия – всегда благая, всегда спасительная, но Бог нас зовет, а не приманивает и не принуждает. Святой Максим Исповедник говорит, что Бог все может сделать, кроме одного: Он не может нас заставить Себя любить, потому что любовь – свободный дар, отдача себя.
Но есть другая воля, сатанинская, темная воля, всегда разрушительная, всегда направленная на зло, на наше разрушение и через нас – на разрушение других и на поражение Бога и Его дела на земле. Сатана нам все обещает, сатана нас приманивает, сатана нас зовет к себе, каждый раз обманывая. И каждый раз, когда мы слушаемся его и видим, что обмануты, он нам шепчет: да, но если бы ты поступил более греховно, более смело, то получил бы обещанное мною! – и затягивает нас глубже и глубже в трясину.
А между этими двумя волями – человеческая воля, она может склониться в сторону Бога, Который Себя отдает нам, или в сторону сатаны, который нас хочет поработить, втянуть в вечную смерть. От нас зависит то, что происходит на земле.
В этом отношении очень важны наша внутренняя раздробленность, наше потемнение – потемнение разума, потемнение сердца (помните слова Христа: Блаженны чистые сердцем, они увидят Бога) и колебание нашей воли, которое зависит от того, что мы свое сердце не отдаем Богу, не отдаем ближнему, не отдаем ни красоте, ни правде, ни истине, что мы только отчасти отдаем себя истинным ценностям. Вот наша проблема. Вот где начинается наше примирение – с чем? Конечно, не примиренность с нашим состоянием, а подвижническое примирение с Богом, с ближним, с самим собой. Об этом нам тоже надо подумать очень внимательно.
Когда речь идет об исповеди, может быть, стоит вспомнить, что собой представляла исповедь в ранние времена. Той исповеди, которую мы знаем теперь, не было. У апостола Иакова говорится: Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного (Иак. 5, 16). В древности так и было. Было не исповедание всех возможных мелких грехов, но три категории греховности надо было исповедать, прежде чем быть примиренным с Богом и с Церковью.
Первое – отречение от Христа и Бога, не как перемена мировоззрения, а как предельный знак нелюбви. Отречься от Бога, отречься от человека означает заявить, что он для меня ничего не значит, что его могло бы вообще не быть, я все равно продолжал бы быть, жить, радоваться жизни. Это первый основной грех. И не думайте, что это грех только тех, кто публично делается безбожником или кто свою жизнь обезбожил. Мы это делаем постоянно; каждый раз, когда у нас есть выбор между светом и тьмой и мы выбираем тьму, мы говорим Богу: «Я предпочитаю тьму Твоему свету». И это очень серьезно; это совсем не просто. Недостаточно отговориться на исповеди тем или другим словом: я поступил неправо, сказал не то, подумал не то, почувствовал не то; надо измерить, что это значит в наших отношениях с Богом.
Второй грех, который непременно должен был быть исповедан, это убийство, которое есть, в сущности, то же самое отречение, то же самое заявление, что кто-то – лишний, кто-то – ненужный вообще на свете; это предельная нелюбовь к человеку. Конечно, мы не убийцы; разве мы убийцы? А сколько раз мы бываем подобны Каину-первоубийце, когда думаем: «Если бы этого человека на земле не было, как было бы хорошо! Пропади он!». Кто из нас может сказать, что никогда не думал, что тот-то человек ему в жизни неудобен и лучше бы он не существовал; зачем он есть на свете? Зачем его Бог сотворил? Зачем он пересек мою дорогу, зачем он вошел в мою жизнь? Это – мысли Каина, первого убийцы.
И дальше, третий грех – это прелюбодеяние. Прелюбодеяние заключается в том, что оскверняется и разрушается уже существующая любовь; пусть она слабая, пусть она мерцает, как свеча во тьме житейской, но она – свет, и кто-то ее потушил. У Отцов Церкви говорится еще и другое: что прелюбодеяние начинается с момента, когда мы свое сердце отдаем твари и отворачиваемся от Создателя этой твари, от Бога; это момент, когда мы нашу любовь к Богу уничтожаем, оскверняем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.