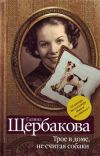Текст книги "Пастырство"

Автор книги: Митрополит Сурожский
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
– В общем, есть какое-то облегчение в том, чтобы исповедоваться перед причащением. Если нет исповеди, очень часто я колеблюсь, знаю, что недостоин. Иногда я чувствую, что Господь говорит: «Иди и причащайся!». Но когда нет такой четкой связи, получается как бы на совести человека отчасти…
– Мне кажется, что очень часто люди приходят на исповедь перед причастием с тем, чтобы с себя снять ответственность. Батюшка дал разрешительную молитву – на его голову да будет все, а я могу спокойненько идти, это не мое дело. Если нужно было останавливать, пусть бы и останавливал вовремя, а теперь – уж прости, Господи! – с меня не требуй… Так что я думаю, что есть риск в таком подходе: я недостоин, а вот если батя даст разрешение, то все в порядке…
Я думаю, что иногда приходится сказать: «Мне исповедовать нечего, я могу только собрать сколько-то пыли». Когда я только начал здесь исповедовать сорок два года тому назад, несколько раз приходили какие-нибудь наши старушки: «Я кошку ногой толкнула… я рассердилась на мужа…» Я спрашивал: «А это тебя поссорило с кошкой?». – «Да нет, она такая хорошая!». – «А с мужем?». – «Нет, даже и с ним ничего не случилось». (Кошка, конечно, лучше оказалась: она сразу приласкалась, притерлась.)
А критерий я скажу такой: вдруг почувствуешь такой порыв благоговения, радости о Боге, любви к Нему, что хочется к Нему броситься в объятия. Пример: бывает, ребенок играет где-нибудь в саду, и вдруг ему захочется броситься к маме и ее расцеловать. Ребенок летит грязный, запачканный, а на маме белое платье. Если мама дура, она его остановит, скажет: «Не с такими грязными руками!» – и это конец. А если она с сердцем и пониманием, она даже не подумает о платье, она только будет ликовать о том, что ребенок бросился к ней в объятия, хочет ее обнять, поцеловать (и вымазать!..). И мне кажется, что, если мы с таким порывом бросаемся к Богу, Бог не скажет: «Ну, вымылся бы сначала!». Что в тебе прибавится, если ты придешь на исповедь сказать, что ты лягнул кошку и рассердился на кого-то, кто тебя толкнул в метро, ради того только, чтобы получить разрешительную молитву, чтобы это было на батиной совести?..
– Присутствие на вечерней службе перед причастием обязательно? Все-таки есть ли какие-нибудь канонические требования, формальные условия для причащения?
– Надо быть христианином; быть православным; быть в нравственно-законном состоянии. Скажем, будучи в прелюбодейной связи, нельзя причащаться, вот и все. Дальше: надо приготовиться так же, как мы готовимся к другим событиям. Если тебя пригласят куда-то в гости, ты пойдешь не в рабочем костюме, а вымоешься, погладишься, наденешь платье или одежду, которая была бы кстати. Так и тут, себя надо привести в такой вид, чтобы Богу было видно, что ты ценишь эту встречу. Не то что мимоходом причастился – и до свидания!.. Нет, я к этому готовлюсь: молитвой, каким-то размышлением о том, что будет совершаться. Нельзя, скажем, пойти вечером на бал, а утром причащаться. Не потому что бал – плохая вещь, а потому что будет совершенно чуждое настроение; бал тебя не приготовит к тому, чтобы встретить Христа с глубокой внутренней тишиной и благоговением. Есть правило о посте с полуночи до причащения. Если человек нездоров, если ему надо принять лекарство, – можно принять, потому что не то, что входит в человека, а то, что из сердца у него выливается, оскверняет человека.
– А службу накануне отстоять?
– Если возможно – да, так же, как, если возможно, вычитывать… нет, не «вычитывать», а молиться молитвами, которые есть. Но если слишком устал или время не позволяет, лучше не прийти на службу и помолиться поглубже, чем просто «отстоять» службу так, чтобы только твои ноги знали, что ты был в церкви.
– Я много лет в этом приходе, и мне все труднее и труднее бывает пойти на исповедь. Иногда у меня такая тоска даже не причаститься, а пойти на исповедь, стоять перед Христом, а вместе с тем словом это так трудно выразить… Я просто не знаю, как быть. Тоска большая, но я не подхожу, потому что как будто хочется молчать и изливать душу перед Христом. Бывает, хочется, чтобы священник помог, – помог понять немножко больше, что происходит…
– Я думаю, что есть моменты, когда то, что происходит между Богом и нами, так глубоко, в таких наших глубинах, что, во-первых, мы не можем это выразить никаким словом, а во-вторых, если мы пытаемся прорваться в эти глубины, то мы что-то очень драгоценное взрываем, уничтожаем, распыляем. И мне кажется, что есть случаи (вот как ты говоришь о себе), когда можно прийти на исповедь и сказать: «Можно мне постоять перед образом, лицом к лицу со Христом в пределах этого таинства, и можете ли вы просто вместе со мной молиться? Если вам Бог что-нибудь на душу положит, скажите; если вам нечего будет говорить – ничего не говорите». Потому что священник порой (милостью Божией, в этом я не сомневаюсь) говорит больше, чем сам понимает. Порой он может сказать то, что знает как общее правило, а порой ему следует молчать, потому что ему нечего говорить. И бывают моменты – об этом Феофан Затворник пишет в одном из своих писем, – когда священнику Бог не дает говорить, потому что Бог считает, либо что время не пришло сказать этому человеку то или другое, либо что этому человеку не надо сейчас слышать, что он должен пережить что-то.
Возвращаясь к тому, что я только что сказал: у апостола Павла есть места, где он пишет: «Это я вам говорю именем Христовым», а в других местах: «Это я вам от себя говорю». Это очень важно. Подумайте: апостол Павел делает такое различение, а молодой священник (или даже не молодой, а просто такой, которого не воспитали в этом отношении) очень часто думает, что, раз на нем благодать священства, он все может от Бога сказать и что бы он ни сказал – от Бога. Я мог бы привести вдоволь доказательств обратного. Порой бывает, что слушаешь исповедь, слушаешь ее молитвенно, и к концу этой исповеди тебе ясно, что надо сказать что-то, что не вытекает из этой исповеди, не является ответом на тот или другой пункт исповеди. Бывают моменты, когда ты должен сказать: «У меня нет ясного ответа» – или: «Мне нечего ясно сказать, но из святого Евангелия, из житий святых, из их сочинений, из моего опыта я знаю аналогичную ситуацию и могу тебе сказать: вот направление, по которому можно идти». А порой священник должен иметь честность сказать: «Я молился, и Бог мне ничего на душу не положил». Надо это принять в учет как бы с уважением. Не то что «батюшке некогда было, он хотел от меня отделаться и сказал, что ему нечего говорить». Нет, это может быть самый честный поступок этого священника и самый плодотворный его поступок – заставить тебя остаться с твоим вопросом, пока ответ не созреет или в тебе, или в ком-нибудь, кто тебе может сказать нечаянно то, что тебе нужно услышать: священник при следующей исповеди или просто при следующей встрече.
Все, что я говорил, относится просто к обыденным, обыкновенным священникам. Для людей, одаренных благодатью, правила нет. И всякий из нас, священников, может принять в учет те вещи, которые я говорил, потому что это практика. Но когда священник воображает: «Потому что я рукоположен, я могу взять любого человека за руку и привести к дверям рая», – нет! Говоря примитивно, нельзя вести человека по дороге, по которой сам не ходил. Можно быть спутником этому человеку, можно с ним делиться своим опытом; надо уметь отойти и молчать, но никак не претендовать на то, будто ты знаешь ответы на все вопросы, – иначе коверкаются души. И люди должны быть готовы не соглашаться на то, чтобы их ломали во все стороны просто так.
Исповедь как встреча со Христом и Его словом[28]28
Лондон. Беседа на рождественском говении 30 декабря 1995 г.
[Закрыть]
IТемой говения сегодня я хочу взять исповедь и посмотреть на нее с немного необычной точки зрения. Мы все исповедуемся и раз за разом приходим к священнику, становимся перед аналоем, молимся с ним и говорим о тех же самых грехах, которые мы уже приносили. Нам они скучны, мы даже не умеем больше о них плакать. Первый раз придешь – может быть, даже и расплачешься, а когда в двадцатый или в сотый раз повторяешь одно и то же, причем сознаешь, что это только повторение, что оно еще будет повторяться, да к тому же – может ли это меня действительно отделить от Бога? Ведь то, что я исповедую сейчас, меня даже от моего окружения, от знакомых, от родных не отделяет безнадежно, неужели это может меня отделить от Бога так, чтобы между нами пропасть открылась? И в результате исповедь делается формальная, в том смысле, что мы приходим на исповедь не для того, чтобы переменилась наша жизнь, а для того, чтобы иметь доступ к причащению. Помню, ко мне раз за разом приходил мальчик и приносил все ту же самую исповедь, которую продиктовали его родители. И я ему сказал: «Знаешь, ты как-нибудь приди и скажи мне про себя самого, не то, что мама о тебе говорит, а то, что ты сам о себе думаешь».
Я думаю, что это относится не только к тому мальчику, но и ко многим взрослым, которые приходят, приносят пустую исповедь, – пустую в том смысле, что они не могут всерьез думать, будто то, что они исповедуют, их безнадежно отделяет от Бога, и потом уходят, «прощенные» (в кавычках), потому что они действительно пожалели о сделанном; и возвращаются с тем же позже. Священнику это нелегко, потому что – как ему быть? Самое простое было бы отослать человека, сказать: «Это не исповедь, это болтовня, ты даже сам не можешь всерьез принимать то, что сейчас говорил мне. Или, если ты исповедовался раз-другой на эту тему и ничего с тобой не случилось, значит, тебе надо, прежде чем идти на исповедь, очень серьезно задуматься и поставить перед собой какие-то основные вопросы, иначе твоя исповедь – одно повторение». И часто мне священники говорят: «Что нам с этим делать?».
Иногда с этим можно справиться тем, чтобы человеку поставить на вид, что взрослому человеку приносить такого рода «грехи» на исповедь просто недостойно: ведь он сам не может считать, что это его отделяет от Бога или даже от окружающих людей. Помню, давно, в первые мои годы здесь, пришла дама и говорит: «Ах, знаете, я сегодня утром кошку лягнула!». – «И что еще?». – «Да ничего другого». И дивишься человеку: неужели можно это принести на исповедь? Если с этим была связана злоба, если, например, ты на эту кошку уже давно смотрела с ненавистью и решила: я ее так ударю, что она уйдет из моего дома, – тогда можно ставить вопрос, но уже не о том, что ты лягнулась в кошку, а о том, как ты могла допустить в свою душу столько злобы по поводу несчастного животного.
Помню другой случай. Пришла очень достойная женщина, говорит: «Всем грешна, батюшка». Я отвечаю: «Этого не может быть!». – «Да нет, всем грешна». – «Если вы думаете, что всем грешны, значит, вы ни одного своего греха не понимаете. Подумайте, например, о десяти заповедях Ветхого Завета. Вы можете что-нибудь сказать об этом?». Она подумала, говорит: «Ну, бывало, что я не свое брала». – «Нет, простите! В заповедях Моисеевых не так сказано, там сказано: не кради. Значит, вы воровка». Она на меня посмотрела с гневом: «Батюшка, как вы смеете меня оскорблять!». – «Я вас не оскорбляю, я вас описываю. Ну, а еще что?». – «По-моему, ничего». – «Нет, простите! Там десять заповедей. Я понимаю, что вы, может быть, никому особенно не завидовали; но вот там сказано, например: не прелюбодействуй. Если вы всеми грехами виноваты перед Богом, то вы что, и прелюбодейка тоже?». Тут она вспылила, говорит: «Как вы смеете?!». – «Я не смею; я вас лишь спрашиваю о том, в чем вы только что прикровенно исповедовались. Раз все заповеди нарушили, то и эту». – «Нет, батюшка!». Я сказал: «В таком случае идите домой, подумайте о том, что вы собой представляете, и потом придете со своей исповедью; а я вам не могу дать разрешительной молитвы за то, что вы поисповедали всякие грехи, которых не совершали, и никогда не задумывались над тем, что вы совершили». Я даю эти примеры, потому что они все-таки разительны.
Бывает тоже, что человек действительно покается, когда что-то случится. Первый человек, которого я в своей жизни исповедовал, неделю спустя после того, как меня священником поставили (это было во Франции), была старая женщина, которая всю жизнь несла на плечах один грех. Кроме него, конечно, у нее были и другие грехи, но этот грех лежал на ней могильным камнем. Она в молодости совершила убийство и никогда этого не исповедала, всегда обходила эту тему: говорила о ненависти, о том, о другом, но никогда не решалась признаться в том, что она физически, фактически убила человека. Почему она решилась мне сказать – не знаю. Может быть, потому что ей было не страшно меня: я был на сорок лет моложе ее; может быть, по какой другой причине, но во всяком случае было ясно, что она вдруг почувствовала: я могу это сказать… Мы тогда помолились, и после этого она почувствовала, что с ее плеч спал груз, который ее давил десятки лет, потому что она никогда не сказала прямо того, что случилось. Вот одна из опасностей такой учтивой, вежливой исповеди: найти такие слова, которые, да, выражают действительность, но выражают ее так, чтобы и себя не унизить, и священника не особенно задеть, чтобы он не шарахнулся, не ужаснулся.
Вы себе не можете этого представить, вероятно, но я помню одного моего товарища, близкого друга, который стал священником прежде меня и рассказывал мне, что после первой исповеди, которую он слышал (он в какой-то день исповедовал ряд людей), он всю ночь ходил по двору и не мог успокоиться, потому что прежде никогда не стоял лицом к лицу перед человеческим грехом, перед злом, перед неправдой в такой сгущенной форме. Не так, как мы встречаем человека, поверхностно, а вдруг – как бы из глубин вулкана лава вытекла, и он увидел ужас того, что совершается в человеке, в целом ряде людей, которых он знал как людей приличных, обычных, нормальных, ничем не выдающихся. Вдруг он увидел помои, которые так и лились из этих людей, и не мог прийти в себя. Вы должны подумать об этом. Потому что когда человек говорит на исповеди: «Я лягнул кошку», – это может вызвать некоторое чувство негодования: как ты смеешь прийти к Богу каяться в этом в такой форме! Но когда настоящая исповедь льется из человека, который перекладывает с себя на священника этот ужас, то они делаются как бы сообщниками того, что случилось. Не в том смысле, что священник делается виновным в грехе, в котором ему исповедуются, а в том, что он несет крест, несет тяжесть. Я читал, как один священник (не помню имени) писал в дневнике, что, когда у него кто-то исповедуется, он с ним молится, читает над ним разрешительную молитву, а потом по средневековому правилу Русской церкви кладет руку ему на плечо и говорит: «Иди с миром; теперь все твои грехи на мне». Вы себе представляете, что это значит? Достаточно своих грехов, а тут человек согласен понести чужие грехи. Он не стал греховным в том смысле, будто совершил эти грехи, но ответственность за них, тяжесть, ужас, боль он принял на себя.
В этом же порядке есть рассказ, правда, не из христианской письменности, а из еврейского Средневековья. Был в Польше известный духовный наставник, который поражал людей своим зрением человеческих душ и тем, как он на них умел воздействовать. Я вам расскажу две вещи о нем, потому что это нам как-то раскрывает наше положение по отношению к исповеди, к священнику, к Богу, к греху.
Первое – рассказ о том, как он молился, чтобы Господь ему дал, когда человек к нему приходит, его видеть до глубины, не то что глазами всмотреться, а как бы вглядеться в глубины его души и приобщиться к тому, что в нем происходит. Как-то раз во время странствий ему надо было где-то заночевать, он пришел в харчевню, попросился на ночлег и, когда вошел, увидел харчевника во всем его грехе и ужасе, во мраке, в котором тот был. Он попросил какой-нибудь уголок, где мог бы помолиться; харчевник его устроил в чулан, где держал свой инструмент, метлы и все ненужное. И хозяин слышит, как гость молится вслух. Он стал прислушиваться и вдруг слышит, как этот человек исповедует Богу все его грехи – не свои собственные, а его, харчевника, грехи, и плачет над ними, и молится. И он пришел в ужас, потому что вдруг увидел, как чистый человек может пережить греховность – чужую, его греховность, которой он сам не чувствовал, не мог пережить, потому что был весь нечист, мрачен, осквернен, испорчен. И по мере того как он вслушивался, как этот Зуся исповедовал его грехи, с каким плачем, с каким ужасом он их брал на себя и приносил Богу, у него сердце из каменного сделалось плотяным, как говорит один из пророков, и он разрыдался, и переменил свою жизнь.
Потом этому праведнику ставили вопрос о том, каким образом каждый раз, когда к нему приходит человек, он умеет так с ним связаться, что тот должен каяться в грехах, не может их не исповедать; каким образом душа говорящего и душа слушающего настолько близки, что тот, видя в нем такое сострадание, такое сочувствие, такое понимание, должен вылить ему свою душу. И праведник на это ответил: «Когда ко мне приходит человек и начинает говорить о себе, я вместе с ним, ступенька за ступенькой, ухожу в самые глубины его греха. И когда я дошел до дна его греховности, я связываю свою судьбу с его судьбой, свою душу с его душой и начинаю каяться в том, что теперь стало общим нашим грехом, нашей общей греховностью; и потому, что я каюсь с таким отчаянием, – и этот человек не может не каяться, и меняется».
Это, конечно, предельные, крайние примеры; конечно, мы, священники, не в состоянии так исповедовать людей, но в какой-то мере это случается и с самым обыкновенным священником. Мой товарищ – один пример; и многие из нас в какой-то момент непременно, неминуемо пережили нечто подобное тому, что я вам рассказывал. Поэтому когда вы приходите на исповедь, представьте себе, поймите, что вы идете раскрыть свою душу перед человеком, который не просто будет вас слушать, даст вам, когда вы кончите, разрешительную молитву и, если сумеет, что-нибудь наставительное скажет. Этот человек вас принимает в свою душу, ваша судьба делается его судьбой, и наоборот. Если он праведный, что-то от его праведности, как у отца Иоанна Кронштадтского и других, перейдет к вам; если он слаб, то ваша греховность будет лежать на его плечах, как крест, настоящий крест, от которого человек гнется, под которым сгибается, под которым он может упасть, на котором он может умереть, распятый, как Христос.
И тут я хочу сказать о наставлении, которое священник произносит перед тем, как слушать вашу исповедь: Чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедания твое; не усрамись передо мной и не убойся меня, но скажи все, в чем ты согрешил, и получишь прощение от Самого Господа. Я же только свидетель есмь, и засвидетельствую то, что ты мне сказал… Здесь, не по порядку, но я выделил основное, и два важных момента хочу отметить.
Ты стоишь перед Самим Христом, ты Ему исповедуешься, ты Ему открываешь свою душу. Он всезнающий, и потому скрывать от Него невозможно и бессмысленно. Но почему же Ему говорить, если Он все знает? Вы, наверное, из собственного опыта знаете, что бывает, если между двумя людьми случается ссора или взаимное непонимание. Оно не пройдет, пока человек, который виноват, или даже другой, ни в чем не виноватый, не подойдет к своему другу и не скажет: «Знаешь, между нами пробежала черная кошка, между нами что-то случилось, что испортило наши светлые отношения; давай поговорим, потому что, пока мы будем молчать, мы никогда не встретимся». Когда два человека чем-нибудь согрешили друг против друга, разошлись, оскорбили, унизили друг друга, обманули, мало ли что случается, то конечно, надо прийти именно к этому человеку и ему сказать: «Вот что я сделал. Можешь ли ты меня простить, меня принять, хотя бы условно?».
И тут я хочу сказать о слове прощение. Нам всегда думается, что простить значит, что прошлого больше нет: я простил – и теперь все ушло. Это не всегда так. Это не всегда так, потому что ни раненый, ни ранивший не выздоровели, не пришли в себя от того только, что друг друга встретили лицом к лицу, посмотрели друг другу в глаза и в сердце и решили примириться. Рана остается, стыд остается, что-то остается. Что же значит слово простить? Оно значит: я тебя вновь принимаю, но не условно, не то что «на пробу»: если ты себя будешь вести хорошо, то мы установим добрые отношения, а если ты чем-нибудь снова провинишься, то уж, прости, но уходи вон… Оно значит, что я готов забыть прошлое и поверить в тебя и в будущее. Это не значит, что прошлое уходит, – прошлое должно быть исцелено, исправлено, изменено и в том, и в другом человеке. Но это значит: я не теряю веру в тебя, я надеюсь на будущее, я достаточно тебя люблю, несмотря на случившееся, для того чтобы между нами было будущее… И это очень важно; потому что иногда люди думают, будто достаточно легко сказать: «Прости!», а потом вернуться к прошлому. Нет, «прости» значит – перед нами будущее открыто; но то, что оно открыто, не значит, что прошлое исцелено до конца. Потому нам и говорится, что, прежде чем каяться перед Христом, мы должны друг у друга просить прощения. Не формально, не с легкостью сказать: «Прости меня» – и довольно, а просить прощения всерьез. Речь идет о том, чтобы сказать: «Я тебя унизил, я тебя оскорбил, я перед тобой виноват, я о тебе думал дурное (мало ли что можно сказать человеку о своем собственном прошлом); можешь ли ты меня принять, какой я есть сейчас, в надежде, что твоя вера в меня, твоя посильная любовь, твоя надежда на меня поможет мне исцелиться?».
Могу дать пример очень важный. Я его уже давал некоторым из вас, и поэтому простите, если повторюсь, но для меня он настолько разительный, значительный, что, думаю, я им поделюсь еще раз. Довольно много лет тому назад ко мне после исповеди подошел человек, замечательный человек, которого я уважал, любил и почитал. Он попросился на разговор и рассказал следующее. Шестьдесят четыре года он мучается и не может прийти в себя, потому что убил человека. Это было во время Гражданской войны. Молодым офицером он воевал на Перекопском перешейке, перед тем как Белая армия ушла в Константинополь. Он тогда горячо любил девушку, которая была сестрой милосердия их части, и она его любила; и они решили, как только выберутся оттуда, пожениться и начать счастливую жизнь. Во время перестрелки она высунулась не вовремя, и он ее застрелил… Сами понимаете, что он не мог прийти в себя, нечего тут размазывать и рассказывать. Он не только прекратил молодую, живую жизнь, он убил единственного человека, которого любил единственной, неповторимой любовью.
Попав в эмиграцию, он стал искать себе успокоения. Он исповедовался, плакал, получал разрешительную молитву, а камень оставался на его душе. Ему советовали давать милостыню нищим, заботиться о нуждающихся, он это делал – и ничего не случалось; причащаться – и ничего не случалось; молебны совершать – и ничего не случалось. И он не знал, что ему делать. Я ему тогда сказал вещь, которая может вам показаться нелепой или странной; я сказал: «Слушайте, вы убили Машу и стали просить прощения у Христа, Которого не убивали, у священника, которого не убивали; вы делали добро тем людям, которые ничего общего с Машей не имеют. А вы когда-нибудь подумали просить прощения у Маши лично?». – Он удивился: «А как это сделать? Маша же умерла». Я ответил: «Либо она умерла окончательно, бесповоротно, если вы не верите в вечную жизнь; тогда не о чем волноваться, дело конченое. Либо вы верите в вечную жизнь, и тогда она жива, она с Богом, она сейчас просветленная Божественной любовью, и она – единственный человек, который может вас простить. Потому что и Бог не может простить вас без ее прощения». – «То есть как?». – «Знаете, в Ветхом Завете есть рассказ о том, как пророк молился перед Богом и вдруг увидел свою молитву, которая, вместо того чтобы пламенем подниматься в небо, как туман, поднималась немножко и потом спускалась и ползла по земле. И он воззвал: «Господи, неужели Ты мою молитву не принимаешь?». – И Господь ему ответил: «Ты оскорбил одну вдову, и она плачется передо Мной, и ее молитва и плач, как сильный бурный ветер, уносит твою молитву от Моего престола». Если Маша вас не простит, то что может Христос сделать? Потому что когда вы встретитесь лицом к лицу в вечности, все равно между вами будет эта же ужасная трагедия». – «Что же делать?». Я говорю: «Вот когда я уйду, прочтите вечерние молитвы, а потом сядьте и поговорите с Машей. Все ей расскажите о том, что случилось. Скажите о том, что вы пережили, расскажите об этих годах внутренней муки, которая с вами была, и в конечном итоге, когда всю душу ей откроете, все выльете перед ней, попросите ее помолиться за вас перед Христом, чтобы, если она вас простила, Христос послал в вашу душу мир, которого вы столько лет не имели». Он так и поступил. Я его встретил через несколько дней и спросил: «Ну что?». И он ответил: «Я нашел мир. Я Маше все рассказал, я говорил с ней долго, излил всю душу и потом замолчал. И вдруг на меня сошел такой мир, какого я никогда в жизни не переживал. Теперь я знаю, что прощен, и что, когда я встречу Машу в вечности, мы встретимся с той же любовью, с которой мы расстались».
Это очень важный пример. Он идет за пределы того, что мы обычно знаем: что вокруг нас есть живые люди, к которым можно обратиться. Тут была та трудность, что Маша ушла в вечность, сама стояла перед Божиим судом. Но она была очищена, просветлена Божественной любовью и из глубин Божественной любви могла его простить. Мы все живем в полутьме, все непросветленные, и поэтому нам гораздо труднее простить друг друга. Мы не умеем простить из глубин Божиих, а должны простить из тех малых глубин, какие представляет наша душа. И однако, в меру того, на что мы способны, мы должны это делать. Мы можем честно сказать человеку: «До конца я тебя простить не могу, я еще ранен, надо, чтобы раны зажили. Но то, что ты мне сейчас сказал, – как тебе больно и стыдно, что между нами это случилось, что ты меня оскорбил, унизил, обманул, ранил, мне дает доступ к тому, чтобы рана исцелилась. Помоги мне и дальше, помоги мне своим вниманием, помоги мне своей дружбой. Да, ты меня ранил, но ты же меня можешь исцелить». Я думаю, что это очень редко между нами бывает. Мы в таких категориях почти никогда не думаем, однако это очень важно. И виновный, и невиновный связаны друг с другом неразрывно, они держат друг друга так, что не могут освободиться иначе как благодаря другому.
Если можно, я вам расскажу нечто менее серьезное. Когда я был мальчиком, мне бабушка объяснила, как два человека связаны друг с другом и должны научиться прощать друг друга. Она рассказала: «Знаешь, на войне между турками и греками, после битвы, когда все успокоилось, грек кричит своему офицеру: “Лейтенант, лейтенант! Я пленника взял!”. Тот отвечает: “Ну, тащи его сюда”. – “Не могу, он меня слишком крепко держит!”». Знаете, между нами именно это бывает. Мы взяли пленника, но он нас держит. Мы не можем освободиться, если он нас не освободит. При ссоре – мы ли виновны, другой ли виновен – положение такое же. Так что подумайте об этом.
Хочу еще сказать о положении священника по отношению к исповедующемуся. Я уже цитировал слова: Я только свидетель, который перед Богом засвидетельствует все то, что ты мне скажешь. И слова «все то, что ты скажешь» очень важны. Потому что если ты что-то скроешь намеренно, не по забывчивости, не по незрелости, не по отсутствию понимания, а потому что тебе стыдно или потому что ты не хочешь этого сказать, то это тебе не простится. Есть древняя разрешительная молитва, где сказано: «Прощаются тебе грехи постольку, поскольку ты в них раскаялся и их исповедал». И хотя теперь эти слова не произносятся во время исповеди, они являются основой прощения. Если ты что-то скрыл, ты не от священника скрыл, ты намеренно не сказал этого, потому что хотел от Бога закрыться, как Каин, который убил Авеля и скрылся от Бога, или как Адам, который согрешил, и когда Бог его позвал, говоря: «Где ты?» – Ему ответил: «Я спрятался от Тебя, потому что мне стыдно, я нагой, я голый». Мы это делаем не так уж редко.
И вот когда мы идем на исповедь, мы должны себе отдать отчет в том, что никто, кроме Христа, не может нам дать прощение, что Христос все знает, и поэтому скрывать перед Ним ничего нельзя. Но что не в этом только дело, а очень важно высказать другому человеку то, чего мы не хотим, чтобы кто бы то ни было знал. Это очень важный момент, потому что пока мы в себе тайно держим нашу неправду, нашу греховность, зло, которое в нас есть, мы с ним как-то можем справиться, мы на него можем закрыть глаза, можем забыть о нем, можем обманывать себя, лгать себе, – и это мы делаем постоянно. Но в тот момент, когда мы это высказали другому человеку, зло стало объективным фактом перед нами, оно уже не может скрыться где-то в тайниках нашей души, оно не может потеряться в темноте нашей памяти. Теперь оно объективный факт, оно теперь поставлено в свет и при свидетеле. Есть человек, который сможет это объявить вслух, если только это будет нужно, но который в день Страшного суда может сказать: «Да, Господи, этот человек согрешил тем или другим, но я свидетель перед Тобой, что он настолько возненавидел свой грех, так отрекся от него, что не постыдился мне, грешному человеку, недостойному священнику, его открыть, лишь бы отделаться, лишь бы спастись от этого. Он предпочел срам, стыд, унижение передо мной, лишь бы освободиться от этой нечистоты, этой неправды». И тогда действительно священник станет перед лицом Христа и будет свидетелем покаяния и обновления. Но должно быть покаяние и должно быть обновление. Недостаточно исповедовать и вернуться к прошлому, – надо, чтобы исповедание было началом новой жизни. «Начало новой жизни» вовсе не означает, что мы так переменились, что уже от прошлого не осталось ничего. Нет, это значит, что с этого момента я вступаю в бой. Раньше я впускал в свою душу вражьи помыслы, вражьи чувства, допускал их в свою плоть, допускал их в свою жизнь, допускал их во взаимные отношения с людьми вокруг меня, но теперь это стало врагом для меня. Может быть, я буду бороться с врагом, который еще сильнее меня и будет меня ранить, унижать, – я все равно буду бороться, буду бороться до конца. Я могу победить или нет один раз, другой раз, сто раз.
Я вам дам два примера. Первый – из жизни святого Антония Великого, пустынника Египетского. Он был искушаем самым страшным образом в течение многих лет своей жизни. И как-то после долгих часов и дней искушения в изнеможении он упал наземь, лежал; на какое-то мгновение искушение от него отошло, и вдруг появился перед ним Христос. И даже не в силах подняться перед Господом, Антоний Ему говорит: «Господи, где же Ты был, когда я был в таком страшном борении?». И Христос ответил: «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый вступиться за тебя, если бы только ты сдался». Христос от нас ожидает, чтобы мы мужественно, решительно боролись со злом изо всех сил своей веры, изо всей посильной верности Ему.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.