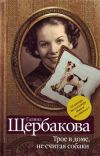Текст книги "Пастырство"

Автор книги: Митрополит Сурожский
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Вот эти три греха, которые все говорят о том, что я не люблю Бога, не люблю ближнего своего, не верю в любовь, надо было исповедовать в древности перед всей Церковью, перед всем народом, потому что нельзя было принадлежать Церкви, будучи отрицателем Бога, человека и любви.
Вы спросите: как же это могло быть? Какие отношения создавались между людьми после такой исповеди? Если бы такая исповедь шла теперь, отношения, вероятно, потрясались бы очень глубоко. Но нужно помнить, что в древности Церковь была гонима, и, чтобы стать христианином, надо было сделать выбор между Христом и всем остальным; не только между государственной властью и верой, но между верой и самыми близкими. Когда открывалось о людях, что они христиане, их предавали на смерть, на пытки родные: отцы, матери, жены, дети, мужья. И поэтому всякий христианин в среде других христиан знал, что окружающие его люди – самые ему близкие. По-человечески говоря, ничто их не соединяло; они были людьми разных языков, разной культуры, разного цвета, разного общественного слоя; эти люди в обычной жизни и не заговорили бы друг с другом, не соприкоснулись бы друг с другом. А в церковной общине они знали, что их соединил Христос, что они едины во Христе, что весь мир может быть против них, но каждый из тех, кто здесь стоит, – стоит во имя Христа, их соединяет вера, верность Христу и любовь к Нему. И поэтому они могли открыть свою душу, разверзнуть самые мрачные глубины своей души друг перед другом, зная, что всякий человек в общине примет эту исповедь с содроганием – но не отвращения, а сострадания, что это будет страдание всего тела от того, что один его член ранен, гниет, погибает. Тогда это было возможно; тогда христианская община была способна понести грех каждого своего члена любовью и исцелять его не сентиментальностью, не тем, чтобы сказать: «Ну ничего! Сойдет…» – нет: исцелять его ужасом перед грехом, глубоким ужасом, но ужасом сострадания, видением страшности этого греха и тем, что этого человека надо спасти от вечной смерти, а не только от временного горя. Речь не шла о том, чтобы облегчить человеку его состояние, а о том, чтобы его исцелить.
И вот этого у нас больше нет, это стало невозможно; почему? Потому что нас связывает не только Христос; нас связывает культура, язык, общественный строй, историческая судьба, очень многое нас связывает, и очень многому мы принадлежим вне Церкви. И когда я говорю о Церкви, я, конечно, не говорю о храме, о богослужении, а о том, что составляет Церковь, то есть Богочеловеческое общество, полностью Божественное через Христа, через Духа Святого, через Отца, и полностью человеческое, опять же через Христа – и через нас. В нас две жизни, мы разделены внутри себя, расколоты, у нас есть привязанности, которые лишают нас той внутренней царственной свободы, которая была у ранних христиан. Если некоторые из них и были рабами по своему общественному положению, то они были свободны во Христе и через Христа.
И поэтому та открытая, исцеляющая, трагическая исповедь, которая была возможна в ранние времена, стала теперь невозможной. Это очень страшно, когда относится к исповеди; но это страшно еще в другом отношении: это распространяется и на наши повседневные человеческие взаимоотношения. Как осторожно мы друг другу признаемся в своей греховности! Как нам страшно, чтобы кто-нибудь, даже близкий, любящий нас, узнал о том, что мы за человек!.. Значит, гниль идет гораздо глубже, разруха идет гораздо глубже, все глубже, разрушая нас изнутри и подрывая не только наши отношения друг с другом в Боге, а подрывая наши самые простые человеческие отношения.
На этом закончим беседу; теперь мы вступим в период молчания. Я хотел бы, чтобы вы продумали каждый из тех пунктов, которые я указывал, продумали бы их не как философскую задачу, а как вопрос, который стоит перед каждым из нас лично: как я могу ответить своей совести, своему Богу, своему ближнему перед лицом того, что было сказано? И молчание должно быть совершенным: никто не имеет права говорить в храме. Если кому-то это невыносимо, пусть уходит в ризницу, пусть уходит гулять; но в храме вы должны соблюсти абсолютное молчание, потому что те, кто хочет вмолчаться в свою жизнь и прозреть свою душу, свою судьбу, свою жизнь, своего Бога, имеют право это сделать без помехи.
IIВторую беседу я хочу разделить на две части: сначала сказать нечто о том, как общая исповедь, то есть открытость каждого всем и ответственность, которую все берут за каждого, могла превратиться в то, что мы видим вот уже несколько столетий в Церкви; и затем поставить каждого из нас, начиная с меня самого, перед ветхозаветными образами того, что представляет собой наш обычный грех и как из него выйти.
Я уже говорил, что открытость, какую мы видим в древней Церкви, стала невозможной. Почему? Потому что в какой-то момент, после того как Церковь перестала быть гонимой, когда стало безопасным быть христианином, в Церковь влились толпы народа, которые в период гонений и близко не подошли бы к Церкви и ни в коем случае не заявили бы о том, что они ученики Христа, свидетели Христа среди враждебного и чуждого Ему мира. Тогда стало невозможным выйти на исповедь так, как выходили первые христиане; человек был бы выкинут из христианского общества, стал бы предметом подозрения, презрения, вражды. Это уже говорит о том, как христианская община в это время ослабла, как она потеряла свою цельность, перестала быть той полнотой, какой была раньше. И это не только продлилось до наших дней, но усугублялось с каждым столетием. Мы должны перед собой ставить этот вопрос, потому что каждый из нас лично призван быть свидетелем, призван быть среди людей хотя бы отображением того, чем Христос был. Спаситель нам сказал: Я вас посылаю, как овец среди волков. Каково же наше положение? Стыдливое? Испуганное? Или заносчивое? Или жертвенное?
В результате того положения, которое создалось уже в IV веке, исповедь начала видоизменяться. По преданию, началось с того, что местные епископы стали заслушивать исповедь людей, которая уже не могла быть произнесена публично. Они ее заслушивали как представители всего народа – не от себя, и не от Бога только, но от имени и самого Христа, невидимо, таинственно присутствующего на этом открытии помыслов и сердца, и от имени народа, который перестал быть способным понести крест своих членов. Со временем забота о кающемся была также передана наиболее опытным священникам. И так создалась та исповедь, которую мы знаем.
Но случилось еще нечто, с моей точки зрения, бедственное: в результате люди стали приходить исповедоваться Христу перед священником, проходя мимо всех тех, кого они обидели, унизили, оскорбили. Потому что ясно, что мало кто грешит непосредственно против Бога, – почти все мы грешим путем оскорбления, унижения нашего ближнего. Мы каемся в нетерпении, каемся во лжи, мы каемся в жадности, каемся во множестве преступлений; и эти преступления мы совершаем по отношению к нашему ближнему. Но на исповедь мы приходим к Богу, проходя мимо этого самого ближнего. Поэтому первое, что надо бы осознать: что мы не имеем никакого права прийти на исповедь, каяться перед Богом в том, что совершили, если прежде не пошли к тем людям или к тому человеку, перед кем виноваты или на кого имеем злобу по той или другой причине, и не примирились с ними, с ним. Исповедовать Богу свои грехи, не примирившись с виновником или с жертвой этих грехов, нет никакого смысла; или, вернее, имеет смысл, только если эта исповедь является преддверием примирения с ближним.
Я сказал, что человек может быть или виновником, или жертвой. И действительно, иногда нам приходится мириться с человеком, потому что мы перед ним провинились; но иногда приходится прийти к человеку и сказать: «Моя душа в тревоге; во мне горечь, во мне гнев, во мне буря разных помышлений из-за того, что ты сказал, что ты сделал; можешь ли ты меня исцелить? Можешь ли ты помочь мне тебя простить?». Это очень важно; и каждый из нас должен был бы задуматься над этим, потому что мы ранены не только своими грехами, но и чужими. Но ранены мы всегда бываем взаимно, никогда в одиночку.
И поэтому исповедующийся должен был бы перед собой поставить вопрос: кого я обидел или на кого я имею обиду? И сделать все, что от него зависит, вплоть до унижения, для того, чтобы сначала примириться. И только потом прийти к Богу и сказать: Господи, со своей стороны я сделал все; теперь я прошу Тебя меня простить и мне помочь, меня исцелить.
Я употребил слово «унижение». В рассказе о том, как Димитрий Донской готовился к битве с Ордой, говорится, что он пришел к святому Сергию Радонежскому просить благословения; и тот его спросил: «Сделал ли ты все, что возможно, чтобы избежать кровопролития?». – «Да». – «Пошел ли ты до предельного личного унижения?». – «Да». – «В таком случае я тебя благословляю». Это очень важно помнить; потому что порой единственное, что может спасти нашу душу и душу ближнего, – это наша готовность быть униженным, лишь бы только спасти его или ее от того соблазна, который лег между нами.
Хочу сказать еще одно, что вам покажется, может быть, странным, во всяком случае необычным. Раньше чем получить прощение от Бога, надо перед собой поставить вопрос о том, прощаю ли я Бога за ту жизнь, которая мне дана. Вопрос может показаться странным и даже кощунственным; но так часто на исповеди слышатся слова: «Вот, таковы мои грехи; но как же мне не грешить, когда обстоятельства моей жизни на это меня наталкивают, когда все в моей жизни распалось, все прахом пошло?!». Это, в сущности, значит: Бог меня не уберег, Бог создал такую обстановку, в которой я ничего не могу сделать, кроме как грешить! Я каюсь в своих грехах, но, в сущности, Он виноват. Я несколько раз говорил людям: «Я не могу вам дать разрешительную молитву, если вы сначала не задумаетесь над тем, что вы только что сказали, и не скажете: “Господи! Я прошу прощения, но и я прощаю Тебе то, чего я Тебе до сих пор не прощал: что Ты меня создал, что Ты меня ввел в жизнь, что Ты эту жизнь сделал такой страшной, что я живу в такие времена, так исстрадался”».
Это вам может показаться кощунственным, и, однако, это очень реально, потому что исповедь – это примирение. Когда мы просим прощения у человека, тем более у Бога, мы, в сущности, не говорим Ему: «Вот, мы стали совершенными, и теперь Ты можешь нас принять как друзей Своих, верных, чистых, просветленных». Мы говорим: «Господи, я пришел открыться перед Тобой, сказать Тебе о всем темном, нечистом, мрачном, порочном, что во мне есть; и я Тебя прошу мня исцелить». И когда Христос говорит нам, что Он нас прощает, это значит, что Он готов нас, какие мы есть, взять на Свои плечи и принести в ограду, – как в притче говорится, что добрый пастырь разыскивает свою овцу, берет ее на плечи и приносит обратно, к прочим овцам. Или бывает еще страшнее: Христос готов нас взять на Свои плечи, как Он взял Свой крест, и на этом Кресте умереть для нас, нами, из-за нас, и сказать: Прости им, Отче, они не знают, что творят!
Если бы мы так думали об исповеди, если бы мы думали о прощении именно в таких категориях или в таких образах, мы не легко давали бы людям прощение и сами не просили бы легко прощения у людей, потому что прощение – поступок предельно ответственный. Он означает: я тебя достаточно почитаю как икону Божию, я тебя достаточно люблю крестной любовью, чтобы тебя, какой ты есть, какая ты ни на есть, взять на плечи свои и нести, нести твои пороки, нести твои недостатки, лишь бы ты исцелился.
Прощение – не момент, когда мы можем легко сказать: «Ну, давай все забудем!». Нет, забывать нельзя, потому что забыть – это очень часто значит через мгновение или через год поставить человека перед тем же соблазном, который его погубил раньше. Надо помнить слабость человека, помнить его уязвимость, помнить опасность, в которой он находится от того или от другого, – и быть готовым нести все последствия, потому что он и я – одно.
Если бы мы так подходили к исповеди, мы первым делом глубоко задумывались бы над собой, над всеми своими отношениями с людьми, с каждым человеком; над своим отношением к жизни, ко всем ее обстоятельствам; и мы бы сделали первое усилие: примириться. Не то что пассивно принять, – нет, активно, творчески принять другого человека или сделать все, что от нас зависит, вплоть до предельного унижения, чтобы человек мог нас принять, – потому что не легко принимать друг друга.
И затем, примирившись с другим, через это примирившись со своей совестью, мы могли бы прийти на исповедь, стать перед Богом и сказать: «Господи! Теперь мне остаются две вещи. Я отрекаюсь от прошлого, но это прошлое, словно болезнь еще не изжитую, я беру на себя, как подвиг. Я буду бороться; а Тебя прошу об одном: подтверди, укрепи прощение, которое я получил от другого, и прощение, которое я другому дал; укрепи их Своей силой, силой Твоего прощения; и помоги мне исцелиться; исцели меня в ответ на мой крик и на мое усилие». Всякая исповедь должна стать, с одной стороны, оглядкой на прошлое, и с другой стороны, программой на будущий подвиг, на борьбу, на победу над собой во имя Божие и во имя ближнего.
Теперь я хочу перейти к другому. В Ветхом Завете есть целый ряд образов, которые могли бы нам послужить как бы основанием к тому, чтобы над собой произнести суд, посмотреть на них и поставить перед собой вопрос: не являюсь ли я таким же?
Я уже упомянул о Каине, о том, что каждый раз, когда мы думаем: ах, вышел бы, выпал бы этот человек из моей жизни! Ох, если бы его не было! – мы поступаем, как Каин: это убийство.
Но еще до этого вспомните падение Адама. Он отвернулся от Бога и погрузился в тварность; он отвернулся от Бога и ушел в сотворенное. Разве мы не таковы? Это совсем не значит, что мы должны быть чужды всему, что Бог сотворил; конечно нет! Но вспомните о Христе: Он вошел в жизнь сотворенного Им, теперь падшего, мира, для того, чтобы в этот мир внести Божественную гармонию, – не для того, чтобы в Царство Божие внести измерение падшего мира, не для того чтобы в частную жизнь, в семейную жизнь, в общественную жизнь и, еще хуже, в жизнь церковную внести все то, что делает наш мир падшим миром. Это первое, что можно сказать об Адаме.
А второе – то, что мы поступаем опять-таки подобно Адаму, который, согрешив, отвернувшись от Бога, погрузившись во все земное, услышал Бога, ходящего в раю, и спрятался от Него. Мы можем воображать, что не делаем этого, – мы себе лжем! Потому что каждый раз, как мы обращаемся в сторону падшего, испорченного, гнилого мира, в котором живем, и выбираем его измерения, его суждения, его жизнь, – мы закрываем глаза на Божие присутствие. Мы заставляем свою совесть замолчать, мы заставляем Бога отойти в сторону или сами прячемся от Него. Когда воины избивали Христа в претории, они завязали Ему глаза и спрашивали: «Кто Тебя ударил?». Разве мы этого не делаем постоянно в той или другой мере?! Мы не завязываем глаза Богу, но закрываем свои глаза, отворачиваемся, мы уходим в потемки для того, чтобы совершать дела тьмы. Вот чему мы можем научиться от образа Адама.
Дальше: Каин и Авель. Какая между ними разница? Разница в том, что Каин ушел всеми корнями в земное, и, когда увидел, что Авель, который был свободен, который пожинал плоды земли, но не поработился этой земле, был приемлем Богу так, как он, Каин, не был приемлем, он себя не осудил; он проклял своего брата и убил его: «Если бы его не было, то не было бы надо мной суда, не было бы другого, который меня обличает своим существованием, тем, что он есть».
Перенеситесь мыслью на притчу Христову о званых и избранных: укоренение человека в землю и порабощение ей, порабощение человека своим трудом, своей работой, своим призванием, или порабощение человека своим счастьем и, может быть, даже своим горем.
И дальше рассказ о Ламехе, который воскликнул: если оскорбление Каину должно было наказываться семь раз, то всякое оскорбление мне будет наказано семьдесят раз семь (см. Быт. 4: 24). Разве в нас нет этого? Разве в нас не кипит гнев, мстительность, горечь, когда что-нибудь нас оскорбляет, кто-нибудь нас унижает, кода мы обездолены чем-нибудь или кем-нибудь? Разве нет в нас мстительности? О, конечно, мы не убийцы; но сколько яда может быть в холодном слове, в том, как мы поворачиваемся к человеку спиной, в том, каким ядовитым взором мы на него взираем. Это месть наша. И есть другие формы мести, когда мы определенно творим человеку зло, когда мы говорим о нем злое, когда мы о нем сплетничаем, когда мы его образ в глазах других людей уродуем, не говоря о том, что порой мстительность наша доходит до его обездоления в той или другой области, в той или другой форме! Об этом каждый из нас должен подумать.
И дальше – рассказ о потопе. Что случилось? Бог говорит: человечество стало только плотью, духа в нем уже не осталось, устремления ввысь уже нет. Вещество – вот все, что осталось от человечества; оно не может дальше существовать. Такое человечество – не только изуродование, это конец (см. Быт. 6: 3 и далее).
Каково наше положение? В какой мере мы стали плотью, перестав жить духом? В какой мере в нас еще есть устремленность к Богу, устремленность в наши собственные глубины, стремление ко всему, что является истиной, правдой, жизнью, – в какой мере это в нас еще остается? Или мы тоже стали плотью, то есть живем только землей, живем только веществом? И не станем отгораживаться, говоря: «Мы же ходим в церковь! Мы же молимся!». О чем мы молимся? О благополучии, о здоровье, о счастье, о близких. Но разве мы отрекаемся или отрешаемся от себя самих ради того, чтобы быть с Богом, как мы порой можем забыть себя для того, чтобы быть с другом? Я даю только один пример, но каждый из нас может углубиться в свою душу и посмотреть на себя в контексте этого библейского рассказа.
И уже значительно дальше – рассказ о жене Лота. Ничем она не была плоха; вместе с Лотом и его людьми она ушла из Содома и Гоморры, из городов греха настолько отвратительного, что им надлежало быть уничтоженными. Уходящим было сказано не оглядываться, уйти – не туда, куда глаза глядят, а куда Бог поведет. Жена Лота оглянулась и стала соляным столбом. Она не изменилась, она осталась солью в том смысле, в каком Христос позже говорит, что соль предохраняет от порчи, от гниения. Она осталась солью, но мертвой солью; жизнь из нее ушла, потому что она перестала глядеть в сторону, куда ее зовет Бог, и оглянулась посмотреть: что будет, что происходит вне Бога?
Сколько у нас разрушающего любопытства, когда мы заглядываемся на то, что является порчей, гнилью, смертью, грехом, злобой, обезбоженностью! Нам кажется, что это не затрагивает нашей чистоты, что мы остаемся теми же людьми, какими были; мы продолжаем верить в Бога, мы продолжаем хотеть добра… Да, мы остаемся в значительной мере солью, но жизни в нас больше нет. Потому что жизнь – только в устремлении к Богу, жизнь только в приобщении Богу, общении с Богом. Глядеть в бездну и глядеть в глубины Божии одновременно нельзя. Поставим же себе еще и этот вопрос.
Но тогда какой же выход, есть ли какой-нибудь выход? Да! Я хочу вам дать два образа: образ Авраама и образ Иакова.
Авраам был язычником. Он услышал глас Божий, зовущий его. Это не был звук, это было нечто, что прозвучало в глубинах его души. Три раза он был призван; он встал и пошел, куда Бог его поведет; он поверил Богу, он Ему доверился. В 11-й главе Послания к евреям вера определяется как уверенность в невидимом (Евр. 11: 1). Авраам был уверен в том, что слышал, и он пошел за Богом, куда бы Бог его ни повел.
И второе: Бог ему обещал, что у него родится сын и что этот сын сделается начатком многочисленнейшего народа. Родился сын, и, когда этот сын подрос, Тот же Бог повелел Аврааму этого мальчика, сына своего, взять и принести в кровавую жертву. Авраам не стал с Богом спорить; он Богу верил больше, чем словам, которые слышал; он Богу поверил больше, чем своему пониманию Бога. И Бог, Которому была предоставлена вся судьба, его собственная и мальчика, нашел путь, потому что Авраам доверился Ему и поверил Ему безусловно, оставив Ему заботу о том, чтобы разрешить неразрешимое.
После этого, укоренившись в вере как уверенности и вере как безусловном доверии, Авраам начал прозревать нечто о Боге: явление Трех Ангелов у дуба Мамврийского, Которые, будучи Троими, говорили в единственном числе, тогда как в начале Ветхого Завета мы слышим, что Единый Бог говорит во множественном: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт. 1: 26). А здесь Три Ангела говорят «Я». Это Бог говорит. Авраам познал Бога как Единого Бога в Трех Лицах.
И всем путем своей жизни Авраам научился от Бога состраданию, научился любви, потому что, когда Бог ему открыл, что хочет погубить Содом и Гоморру, Авраам стал просить о милости: «Если там осталось пятьдесят, двадцать, хотя бы десять праведных человек, неужели Ты погубишь этот город?». Разве Авраам в своей человеческой чувствительности спорил с Божественным гневом? Нет! Он тогда уже приобщился к пониманию Божественной любви, Божественному состраданию, и он Богу принес как бы в дар то, что Бог ему подарил.
И наконец, последний образ: борьба Иакова во мраке с Ангелом. Как часто мы бываем в потемках, как часто бывает, что для нас вера, Бог, судьбы Божии темнеют и мы больше не понимаем. Как часто мы можем вместе с Иовом сказать: «Я не понимаю Тебя больше, Господи!». В такой темноте находится и Иаков. Он связался, сплелся в борьбе с Ангелом; он хотел победить и понять. Он всю ночь боролся в темноте, и, когда начало рассветать, он увидел, с Кем борется, и спросил только об одном: Какое Тебе имя? (см. Быт. 32: 24–29). Он хотел узнать имя Божие, потому что имя в Ветхом Завете, во всей древности до конца совпадало с сущностью – Бога или человека. Он хотел познать Бога, Каким Он есть; употребляя слова апостола Петра, может быть, приобщиться через это Божественной природе (см. 2 Пет. 1: 4). Но было рано; сначала надо было Богу приобщиться человеческой природе. И Ангел ему ответа не дал, имени Он не произнес. Позже Моисей услышал нечто вроде имени: Я есмь Сущий (Исх. 3: 14) – Я Тот, Который есть… Это все, что мы можем знать. Но тогда Иаков не отказался ни от борьбы, ни от страстного, отчаянного желания узнать.
Когда мы бываем в потемках – хватает ли у нас стойкости, верности, крепости, решимости, безразличия к себе самим, желания познать Бога, чего бы это нам ни стоило, Каким бы Он ни оказался, когда настанет рассвет? Не отходим ли мы легко, говоря: «Господи, Ты не хочешь мне открыться! Ты непознаваем! Я буду довольствоваться тем малым, что я знаю. Я буду Тебе рабом, я буду Тебе порой наемником, буду требовать от Тебя награды за мои усилия, а сыном – нет, не могу быть!». А вместе с этим мы призваны быть и не рабами, и не наемниками, а быть сынами: призваны стать сынами и дочерьми – покаянием, то есть решительным обращением от всего, начиная с себя самого, себя самой и всего прочего, к Богу, и шествием путями Божиими, а не нашими.
Задумаемся над этими картинами, над этими вызовами Ветхого Завета! Я выбрал Ветхий Завет, потому что своей душевностью, своим отношением к жизни мы в значительной мере принадлежим к Ветхому Завету. Новый Завет мы слышим на каждой службе, каждое воскресенье, каждый праздник слышим евангельские и апостольские чтения. Но задумаемся над тем, каковы мы на самом деле: еще не просвещенные, несмотря на крещение, несмотря на причащение, несмотря на исповедь, несмотря на все то, что составляет нашу церковную жизнь. В большой мере мы являемся еще ветхозаветными тварями, и причем не победителями, а теми, которые находятся в отчаянном борении; и дай Бог, чтобы это было борение, а не поражение.
На этом я кончу вторую беседу и надеюсь, что вы задумаетесь над тем, что говорилось сегодня в этих двух беседах. Сейчас я попрошу вас снова вступить в период молчания. Потом мы соберемся в середине храма на общую исповедь. Общая исповедь – это момент, когда мы себя сознаем живыми членами одного тела, и сознаем, что грехи одного являются грехами другого, потому что мы все друг за друга ответственны. И я принесу исповедь, сколько умею искреннюю, правдивую, и будут периоды молчания в этой исповеди, чтобы каждый из нас мог исповедать Богу свое собственное состояние в контексте того общего, что будет сказано. Потом будет еще краткое молчание, чтобы каждый из нас мог перед Богом предстоять безмолвно, покаянно, лично и правдиво. А затем будет произнесена над всеми разрешительная молитва, после которой все участники этого говения могут завтра причащаться Святых Таин.
Если у кого будет нужда в личной исповеди – подумайте об этом хорошенько, раньше чем на нее решиться, потому что, может быть, надо было бы каждому из нас перед личной исповедью сделать то, о чем я говорил: примириться с каждым ближним, который нам доступен; исправить все зло, всю неправду, которую мы творим и творили; и уже прийти лично, не как толпа кающихся грешников (как определяет Церковь святой Ефрем Сирин), а как ответственные члены тела Христова, которые лично от всякого зла отрекаются, которые становятся перед Богом и начинают новую жизнь, чего бы это ни стоило.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.