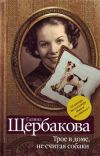Текст книги "Пастырство"

Автор книги: Митрополит Сурожский
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
А с другой стороны, приходится ставить вопрос о том, почему грех повторился. Я думаю, что мы делаем большей частью ошибку. Мы приходим на исповедь, исповедуем тот или другой грех, каемся совсем серьезно, искренне и с намерением исправиться; и потом оказывается, что у нас нет умения исправиться. Не то что желания нет – желания сколько угодно, а умения нет. И вот мне кажется, что между двумя исповедями надо над собой делать совсем другого рода работу. Не то что просто бороться изо всех сил: не буду, не буду, не буду! – а ставить перед собой вопрос: с чего же все это началось? Где корень этому? Почему у меня такое тяготение к этому греху, а не к другому? Где это началось? То есть, если у меня какой-нибудь повторный грех, недостаточно стараться его не повторять, потому что мы будем его повторять, – разве что он косвенно обернется такой жутью… Скажем, если человек пьянствует и, водя машину, задавит кого-нибудь, он может опомниться; но это очень дорогая цена. И надо ставить перед собой вопрос: вот у меня этот грех повторяется: почему? Где это началось, почему он вошел в мою жизнь, почему нужно ему было войти в мою жизнь?..
Я это пробовал с целым рядом людей: так углубляться в прошлое, как археологи. Сначала очищаешь поверхность, потом углубляешься ниже, глубже и глубже и доходишь до каких-то настоящих открытий. Тогда грех может исчезнуть. А что мы делаем: мы срезаем листья или плоды или цветы, а остается дерево и корни. Почему же этому дереву с корнями не пускать новых ростков? Так что тут совершенно другой вопрос. И когда мы говорим, что покаяние должно снять грех: да, но не то покаяние, которое мы приносим. Мы приносим покаяние почти в смысле: ох как неприятно, что у меня такой недостаток!.. Но вопрос не в неприятности, а в уродстве: это того же порядка, как потерять руку или иметь неисцельную болезнь или что-то в этом роде. И надо искать причину, момент начала. Это может быть в раннем детстве, это может быть где-то посередине между моментом, когда мы рождаемся, и моментом, когда мы исповедуемся или обнаруживаем грех. Так что недостаточно просто исповедоваться и надеяться, что исповедь все снимет.
И кроме того, я думаю, мы забываем очень часто, что исповедь смотрит в две стороны. С одной стороны, она смотрит в прошлое, приносит пред лицо Божие все прошлое, а с другой стороны, когда все это принесено, это делается программой борьбы на будущее. Если я сказал, что я краду, вру и так далее, прощение не значит, что это с меня чудодейственно снимается. Это значит, что я отрекся от этого, а теперь должен с этим справляться. Так что всякая исповедь является программой борьбы моей собственной: борьбы с грехом. Это мы тоже большей частью забываем. А прощение, которое нам дается, мы тоже очень легко берем. Святой Серафим Саровский говорит одному из своих посетителей: «Если ты молишься Богу о чем-нибудь, Он может тебе это дать, но помни, какой ценой Он получил власть и право это делать: ценой всей жизни и всей смерти Своей…». И поэтому с легкостью говорить Христу: «Сделай это для меня» – означает: «Распнись снова…» Это не так просто.
– Во время причастия человек получает отпущение грехов, которые он осознал, и при соборовании отпускаются грехи, даже те, которые человек еще не осознал полностью. Но тогда с какими грехами предстанет человек после смерти на суд Божий?
– Я думаю, мы забываем постоянно – и я говорю «постоянно» в самом сильном смысле слова, – что исповедь глядит не только назад, она глядит тоже вперед. Мы готовим исповедь, вспоминая прошлое, мы приносим на исповедь наше прошлое и каемся в нем. Но каяться – это не значит, что мы исцелены; это значит, что мы берем на себя изо всех сил и убеждение бороться с теми грехами, которые мы как таковые осознали; это программа на будущее.
С другой стороны, прощение не значит, что омываются грехи и Бог говорит: ну, иди с миром, все это прошлое… Это прошлое, если оно действительно вымерло в тебе, но оно не обязательно прошлое, если оно продолжает в тебе в какой-то мере жить. Если, например, человек кается в каком-либо грехе из раза в раз, повторно и повторно, это не значит, что он раз за разом согрешает, это значит, что греховность течет ручейком через его жизнь; он кается – и возвращается к тому же и продолжает так же поступать; ему тогда надо искать причину, почему он в таком состоянии. Есть место у св. Варсонофия и Иоанна, которое говорит, что, если мы могли бы покаяться так, что для нас стало бы невозможным совершить тот же грех, мы могли бы считать, что прощены до конца; иначе перед нами программа борьбы.
Теперь о самом прощении. (Я сейчас буду думать и говорить больше о человеческих отношениях, и потом можно подумать о Божиих.) Прощение начинается в тот момент, когда человеку обидевшему говорится: я готов с тобой примириться, я готов тебя принять, какой ты есть, со всеми последствиями, и я буду тебя нести со всеми этими последствиями, либо, по слову Христову, как овцу на плечах, либо как крест, на котором в конечном итоге я буду распят… Вот что значит войти в это соглашение прощения. И в ответ на это, если у нас есть хоть какая-то доля сознательности, ответственности и благодарности, мы должны так прожить, чтобы тот, у кого мы просили прошения, чтобы тот, который согласился нас нести на плечах, как овцу или как крест, не пожалел бы и не умер под этой тяжестью. Господь нам прощает наши грехи – да, но какой ценой? Серафим Саровский одному из своих посетителей сказал: да, Господь тебя простил, но помни, какой ценой Он получил власть прощать: ценой распятия. Потому что Он умер жертвой твоих грехов. Он мог сказать: прости, он не знает, что творит… И если мы в ответ на это только можем повторять тот же грех и возвращаться, снова каясь и снова ожидая прощения, это очень страшно. Это, в сущности, значит: Господи, распялся Ты раз, распнись-ка еще…
Здесь поставлен вопрос о том, что нам прощаются осознанные грехи, – они прощаются вот в этом смысле. Христос говорит: да, Я верю в твою честность, Я верю, что ты хочешь со Мной примириться, хочешь войти в дружбу со Мной, что ты хочешь теперь быть лояльным другом. Я тебя принимаю; Я не ожидаю от тебя, чтобы ты мгновенно переменился, но Я ожидаю, что ты будешь меняться… Можно ли думать, что, когда блудный сын вернулся домой, он в мгновение ока потерял все дурные привычки, какие он приобрел на стране далече? Он, наверное, долго учился жить приличной жизнью в доме отца. Но отец его принял без колебаний, при всех этих дурных привычках, зная, что сын постепенно их избудет, раз он вернулся покаянно, вернулся, отвергнув, отбросив все это грязное, дурное прошлое; оно еще к нему прилипало, но он постепенно станет это все с себя снимать. Это нам надлежит делать. Мы не можем думать, что просто потому, что священник сказал «прощаются тебе грехи», мы можем забыть обо всем.
– С чего начинается пастырское отношение к кающемуся? К тому, кто пришел за советом или просто выговориться?
– Я думаю, что это очень значительная часть пастырства: слушать. Нам мешает слышать и видеть то, что нам часто страшно за себя: вдруг я увижу, вдруг я услышу – и что дальше? Что если я пойму – и это меня заставит стать – перед своей совестью, перед Богом, перед людьми, назови как угодно – в такое положение, которого я боюсь? Иногда я знаю по себе: человек приходит, и я знаю, что вопрос стоит такой, который его пугает; но и меня пугает, что, если я ему дам ответ, я за него беру ответственность такую, которую мне страшно брать. Не то что я ему скажу: вот тебе ответ, иди, живи с этим, – я свяжусь судьбами с этим человеком.
Есть замечательный отрывок у Лествичника, где он говорит, что евангельское слово подобно стреле, оно может пробить любой щит, но для этого нужен лук, тетива, рука и глаз. И вот это все – это человек, который дает ответ. Слово – да, если только ударит, оно щит пробьет, но оно не может само лететь. Тут большая наша ответственность в том, чтобы врастать в Евангелие, как можно глубже его воспринимать и быть способным, пережив самому хотя бы в малой доле смысл того или другого отрывка, быть в состоянии его довести до сознания человека на нашем уровне. Я пришел к убеждению (и не думаю, что оно ложно), что, если человек ставит вопрос, который часто звучит почти лепетом, и ему дать ответ слишком для него трудный, ответ до него не дойдет. А проходя через наше несовершенство, через наше собственное искание, на ощупь часто, мы можем донести до человека ту долю понимания, которая ему сейчас доступна. Поэтому то, что, скажем, ни ты, ни я ни одного изречения евангельского не понимаем так, как Христос понимал Свои собственные слова, не решающий момент. Решающий момент в том, что тот или другой отрывок до тебя хоть мало-мальски дошел. Если он совершенно не дошел, тогда надо честно сказать: знаешь, у меня для тебя нет ответа из Евангелия…
Это не значит, что нет никакого ответа, потому что дальше можно, мне кажется, сказать: но твой вопрос находит отзвук во мне, потому что я нечто подобное сам переживал и еще переживаю. Я с тобой поделюсь тем, как я с этим сам справляюсь… И когда даешь понять человеку, что ты сам в состоянии искания, что ты не говоришь с ним с высоты какого-то абсолютного превосходящего знания, а только изнутри несовершенного опыта, который постепенно вырастает, видоизменяется, человек это воспринимает большей частью глубже и лучше: это его не умаляет, не уничижает, это создает отношения какого-то взаимного равенства. Потому что даже в самом строгом смысле слова между учителем и учеником есть это равенство по отношению к чему-то, что больше и учителя, и ученика. И поэтому можно поделиться своим опытом или своим исканием, может быть, даже в потемках.
А иногда ты можешь помочь человеку гораздо больше, сказав ему: у меня нет ответа, я в том же положении, что и ты. Передо мной эта цитата, эти слова Христа, это Христово действие, я знаю, что комментаторы так или иначе объясняли этот отрывок; они меня не удовлетворяют, и я ничего не могу об этом сказать. Так что будем просто готовы на то, что сейчас ни ты, ни я не можем этого отрывка понять, – может, потому что мы не созрели, а может, и нет. Есть такие отрывки Священного Писания, которые озадачивают, и на которые нет удовлетворяющего ответа. Например, рассказ о смоковнице – он ранит людей: эта смоковница была не виновата в том, что в эту пору не могла принести плодов, как в Евангелии сказано; как же так?.. И мы можем сказать: да, и я не понимаю, я только могу тебе сказать, что, поскольку я знаю Христа хотя бы в очень зачаточной мере, я могу сказать, что, хотя не понимаю ни Его поступка, ни самого текста, я все-таки Ему могу доверять. Я не теряю доверия к Нему из-за того, что я не понимаю, – это все, что я могу сказать… Я думаю, что чем более честны мы будем по отношению к вопрошающему, к человеку, нуждающемуся в помощи, чем меньше мы будем стараться выглядеть, будто мы пророки, которые все познали, будто можем ответить из глубин – хотя бы святоотеческой литературы или комментариев, я уж не говорю о своей собственной мудрости (это предел ужаса, когда люди думают: ах!..), а покажем, что мы тоже люди, и мы тоже в поисках, и мы тоже на пути… Одна из вещей, которые я часто говорю всем, кто только хочет духовного руководства, это что я не берусь никого вести от земли на небо, что я не могу быть ничьим старцем или руководителем. Я могу быть в какой-то мере спутником, я могу идти рядом постольку, поскольку мы идем по одной дороге. В какой-то момент, может быть, придется разойтись, потому что наши пути расходятся. Но сказать человеку: «Я тебя возьму за руку и доведу до Царствия Божия», – мне кажется, нельзя. Я думаю, что в этом колоссальная ошибка многих молодых священников, которые думают, что их всему научили и поэтому они могут человека взять и привести. Беда-то в том, что ты можешь человека вести только по дороге, которую ты всю уже прошел.
И основное свойство духовника, мне кажется, – так вмалчиваться вместе с человеком в тайну его богообщения, чтобы ничего не вносить предвзятого от ума или даже часто от собственного опыта. Мне кажется, что это очень важная вещь.
– Если я правильно понимаю, на это надо время, на это недостаточно одной или даже двух встреч с человеком. То есть это не относится к исповеди обычной?
– Это относится даже к единственной исповеди, потому что, если ты в эту исповедь не внесешь ничего, что все запутает, ты уже сделаешь что-то очень важное. Об исповеди мы будем говорить, потому что это очень важная вещь на всех уровнях. И возрастно она меняется, и по состоянию она меняется, и она иная для человека, приходящего к Церкви или укоренившегося в ней. Но во всяком случае это так: если тебе нечего говорить, молчи и скажи: мне нечего говорить; давай молиться, чтобы Господь в течение какого-то времени тебе открыл то, чего Он мне не подсказывает, и то, чего ты сейчас не знаешь… Или: я тебя слушаю, и у меня отзывается все мое нутро на то, что ты говоришь, каким-то воспоминанием о моем прошлом. Я с тобой поделюсь этим, но это не слово от Бога, это момент, когда я братски с тобой делюсь, ничего другого… Иногда можно сказать: вот слова Евангелия (или Священного Писания вообще), которые мне пришли на ум сейчас, пока ты говорил. Я не знаю, как они относятся к тому, что ты говорил, но они у меня выплыли от твоих слов, как эхо… Иногда сам не видишь ясно, почему эти слова или образы выплыли в результате тех или других слов или образов, но надо рискнуть, сказать: вот, я не знаю, может быть, это просто я отзываюсь… А в редких случаях, я думаю, у тебя может быть какая-то непонятная уверенность: то, что ты сейчас скажешь, тебе дано сказать…
А иногда бывает (почему я говорю часто, что мой небесный покровитель, наверное, валаамова ослица), что ты можешь нечаянно сказать слово, а человек может нечаянно понять другое – себе на пользу. Я могу тебе дать пример, даже два. Один не мой, а другой – мой. Не мой был такой. Я встретил в Сент-Бэзил-Хаус группу людей, которые говорили о духовной жизни, и одна женщина разглагольствовала о мистических состояниях. В какой-то момент она остановилась и говорит: «Отец Антоний, почему вы не отзываетесь? Что вы думаете о том, что я сказала?..». Я ответил: «Я думаю, что, когда человек ничего на какую-нибудь тему не знает, он должен бы молчать…». И мы расстались. Через два дня этот человек пришел, говорит: «Вы сказали эту фразу, у меня это запало; я поставила под вопрос все то, что я говорила. Действительно, я говорила о чтении, о том, что я воображала, но не из опыта. Как вы ответите на такой-то вопрос?..». Я сейчас не помню вопроса вовсе, но помню, что я ей ответил какими-нибудь пятью или семью словами. Она встрепенулась, говорит: «Господи, это же ключ ко всей моей жизни!» – и повторила мне то, чего я никогда не говорил. Я холодно посмотрел, подумал: «Дура!» – и сказал: «Я не то вам сказал», – и повторил свои слова. Она еще ярче вспыхнула: «Да, да, именно!» – и снова свое. Я тогда (с нетерпением, должен сказать, к своему стыду) сказал: «Я говорю другое; слушайте и повторите!» – и повторил свое; она мне повторила свои слова… Я решил: значит, Бог закрыл ее уши на то, что я говорил, и Сам ей сказал то, что ей было нужно. И она на этом построила целую духовную жизнь, причем не какое-нибудь уродство; а так как это совершенно не мои слова, я могу сказать: да, построила. Это был ответ.
И со мной был случай такого же рода. Я когда-то сидел у себя в кабинете, ожидая пациента, и, пока его не было, взял Библию и открыл наугад и попал на 58-ю главу Исаии: какой пост угоден Богу… читал – и прочел следующие слова: «Итак, дай душу свою на съедение голодному…». Я всю жизнь был очень замкнут, и мой духовник меня воспитывал на том, что никогда не давать никому знать о своей внутренней жизни. В это время настаивали на том, чтобы я стал священником: «нам нужны священники», но это значило открыться. Ты не можешь никогда не дать никакого отблеска о своей внутренней жизни, если ты хочешь кому-то что-то дать. Я подумал: неужели Бог мне говорит: да, сделай из всей своей внутренней жизни ярмарку, открой, пусть люди берут что хотят?.. Я три раза читал это место, три раза совершенно ясно было написано. А этого ни в одном тексте нет. Там сказано: напитай душу голодного… И в контексте это просто значит: накорми того, у кого нет пищи. Но я прочел это так, что это решило мою судьбу. Я решил: да, значит, делаюсь священником… Может быть, это было искушение, и не надо было этого делать, но это другой вопрос.
Я уверен, что часто бывает, что человек читает одно или слышит, и его глаза или уши воспринимают слова, а душа воспринимает какой-то иной смысл. Знаешь, что меня поражает, например; все святые делались святыми, несмотря на то, что у них были очень несовершенные переводы Священного Писания. А понимали они Священное Писание, как никто из современных экзегетов не понимает. Текст был темный, часто ошибочный, и все равно они в него вчитывались, он куда-то уходил в их глубины, и это было Божие слово, действенное, которое к Богу не возвращается, не совершив своего дела, как псалом говорит. И вот мне кажется, что это очень важно в нашем общении с людьми.
– Разговор может быть на исповеди?
– В какой-то мере да, в какой-то мере нет. Выяснение какое-то или объяснение может быть, но не может быть диалога, где двое начинают спорить: «а я думаю…», «а ты думаешь…» – это переносит центр тяжести из беседы человека с Богом на беседу человека с человеком. Тогда исповедь превращается в беседу или в разговор, и места для покаяния у человека не остается.
Поучение, которое священник говорит перед исповедью: «Чадо, Христос невидимо стоит перед нами…», и дальше: «Я – только свидетель, чтобы засвидетельствовать все, что ты скажешь мне…». Вопрос в том, что он только свидетель, он даже не судья. Он стоит тут как свидетель.
Я, может быть, богословски не прав, об этом я не сужу и не знаю, но у меня такое чувство все последние годы, что одна из характерных черт таинства – та, что это область, закрытая сатане, что, если сам человек не откроет дверь сатане внутрь таинства, то сатана остается как бы вне его, и поэтому разговор, который идет между исповедующимся и Христом, и то, что священник может сказать именем Божиим, остается непроницаемой тайной для сатаны. В этом настоящая причина того, что ни священник, ни исповедующийся не должны говорить о том, что происходило на исповеди, иначе как опять-таки почти в исповедальном плане. То есть, скажем, если человек у тебя исповедался и ты не можешь обсудить тот или другой вопрос на исповеди, потому что он требует обсуждения, а не решения, тогда можно этого человека вызвать и поговорить, но оставляя как бы самую покаянную, исповедную часть вне этого. Скажем, если человек к тебе приходит и кается в каком-нибудь грехе и говорит: но вот, я не знаю, что делать при этих обстоятельствах, ты можешь его потом вызвать и говорить об обстоятельствах, но не вносить в самую исповедь ничего не относящегося к ней. Это одно.
А что касается до свидетеля, меня всегда очень трогает вот что. Бог как бы говорит: знаешь, отец Антоний, Я доверяю тебе, что при всей твоей греховности ты Мне поклоняешься, ты посильно Меня любишь, ты хочешь добра, ты хочешь добра другим людям. И вот Я тебе позволю прислушаться к тому разговору, который будет происходить между живой душой и Мной, причем не только к словам, но, если ты будешь вмалчиваться в молитву, вмалчиваться в Мое присутствие, вмалчиваться в свои глубины, ты, может быть, услышишь гораздо больше, чем будет сказано. Я не говорю о фактах, а – уловишь что-то… И человек – это меня тоже страшно трогает, и умиляет, и волнует – приходит ко Христу, Ему открыть не свою душу в широком смысле: я-де такой, но раскрыть перед Ним гнойники, мрачные тайники своей души, и говорит тебе: знаешь, я тебе доверяю достаточно, чтобы при тебе все это сказать Богу… Это что-то совершенно потрясающее, это дело совсем не ремесленника, не опытного психолога. Это что-то относящееся к чуду самого глубинного общения.
И вот я думаю, что сейчас у нас община не способна на это, хотя иногда и в некоторых вещах можно обратиться к общине и сказать: понесите этого человека… В. П. ко мне попала 35 лет тому назад. Она была менее невозможна, чем потом, потому что у нее была дочь. Муж ее бросил и отнял дочь, и это ее сломило. Сломило еще другое: когда умер муж, оказалось, что в его завещании сказано, что, если дочь войдет в какое-либо общение с матерью до 25-летнего возраста, она лишается всего наследства. И она действительно стала совершенно ненормальная. Теперь она идеально нормальна по сравнению с тем, какая она была раньше. Я помню, И. ко мне пришла и говорит: «Сколько нам надо терпеть В.? Выгоните ее из церкви!..». Я ответил: «А куда она пойдет, если и в церкви для нее нет места?..» – «А сколько нам еще ее терпеть?». – «Первые 25 лет будет трудно, потом легче…». Действительно, значительно легче стало, ты не можешь себе представить, что было на богослужениях и вне богослужения. Вот – может ли община взять на себя человека и его пронести на плечах? Я думаю, что община как таковая не может. Это может случиться в очень специальных обстоятельствах, когда община, во-первых, состоит из как бы «избранных» людей: не то что они лучше других, а они друг с другом как-то сошлись, или, во-вторых, когда то, что случается, их тронет. В некоторых обстоятельствах это возможно, но, конечно, в нормальной приходской жизни этого сделать нельзя. В какой-то мере, если люди чуткие, понятливые, можно как бы сделать возможным, чтобы о человеке помолились, о человеке заботились.
Но тут есть другая опасность: та, что все сплетники приходские и не приходские, когда хотят пронести сплетню, говорят другому человеку: ты знаешь, как я люблю такого-то, и поэтому я хочу с тобой поделиться его слабостью, его преступлением, с тем чтобы ты мог лучше молиться о нем… И тут можно дать волю своей сплетне под благовидным предлогом, что ты вербуешь другого человека в молитвенники. Тут опять-таки проблема.
Но я могу говорить об исповеди только с какой-то своей точки зрения. То есть это не «учение Церкви», это то, что я испытал на себе и с чем я прожил какие-то 60 лет. Это не значит, что я прав, это значит только, что я другого сказать не умею.
Мне кажется, что на исповедь приходят два или три рода людей. Есть дети, которых посылают на исповедь рассказать то, за что их упрекают родители. Этому не надо давать волю. Об этом мы бегло говорили раз. Второй тип – это люди, которые по старой русской привычке приходят исповедоваться, потому что хотят причаститься. Исповедать им, в сущности, нечего, но они собирают какой-то мусор, знаешь, как бросают кость лающей собаке; пока она будет грызть кость, можно мимо пройти. Вот я тебе рассказу кое-какие грехи, а ты, батя, мне дай разрешительную молитву… А то, что эти грехи явно не отделяют его ни от Бога, ни от ближнего, не обременяют его совести, – это никакой роли не играет, грехи перечисляются для батюшки, чтобы он дал разрешительную молитву. Тут целый ряд ситуаций бывает.
А потом бывают люди, которые приходят, потому что им нужно высказать правду о себе, Богу высказать, но получить свидетельство от кого-то, что они могут быть приняты и прощены. То есть священник должен быть в состоянии их выслушать с таким состраданием, чтобы они чувствовали: раз священник их не отвергает, то и Бог не отвергает, и что священник, когда даст сейчас разрешительную молитву от имени Божия, будет говорить какую-то правду, не формулу магическую произносить, а говорить нечто веское, значительное.
Одна из вещей, которые я всегда говорю людям, которые этого не знают еще, которые или у меня не исповедовались никогда, или явно забыли, то, что я им говорил, – та, что Христос получил власть прощать, потому что Он умер распятым из-за наших грехов: Прости им, Отче, они не знают, что творят… Поэтому ты пойми, какой ценой Бог тебя прощает. И если это так, ты знаешь, что, когда Христос говорит: «Я тебя прощаю», это значит: «Я готов распяться за тебя вновь и вновь, Я буду тебя нести на плечах, как заблудшую овцу, Я буду тебя нести на плечах, как Крест голгофский, Я тебя донесу до места прощения». А если это так, поставь перед собой вопрос: чем же ты можешь на такую жертвенную любовь отозваться? Чем ты можешь Богу доказать, что Он не напрасно за тебя готов умереть, и что Он не напрасно за тебя был распят?.. Я думаю, что этот момент в разрешительной молитве очень важен, что принять разрешительную молитву можно только на этих началах. Нельзя ее принимать просто так: «Ну, Я тебя прощаю, ну, пошел, неважно…» Это важно.
Я в беседе говорил о том, что измерять: крупный грех или не крупный, во-первых, невозможно, а во-вторых, не в этом вопрос. Как апостол говорит, всякий грех – вражда на Бога. То есть если говорить, что вот грань: здесь Божия область, а там область сатаны, в тот момент, когда я перешел грань в область сатаны, перешел ли я через мост или вплавь, или через брод, или просто перескочил ручеек, я все равно ушел из Божией области. И поэтому когда человек говорит: у меня только мелкие грехи… Что значит «мелкие грехи»? Такое разграничение очень рискованно, если говорить о грехах как таковых. Тот или другой грех этого человека едва задел, а в того человека врезался. Это может быть тот же самый грех, только для одного человека он был мгновенным заблуждением, к которому сердце не привязалось, которое ум не охватило, от которого не прогнила его воля. А другой человек в другом положении, тот же самый поступок дошел до него. Так что в этом смысле когда человек говорит: вот вам список моих грехов, – конечно, это о чем-то говорит, это говорит, что у него есть сознание, что такие-то поступки или такое-то настроение греховны. Но это не говорит почти ничего о том, что это представляет в его духовной жизни. И тут священник должен уметь или понять, или смолчать.
– Вы говорили о священнике как о свидетеле. Предполагает ли это, что священник не имеет права задавать вопросы? Так ли это? Священник имеет право спрашивать о чем-то, или он молчаливый свидетель?
– Я думаю, что можно, порой даже надо ставить вопрос, когда у тебя чувство, что человек недоговаривает, например, что он употребляет общие слова, потому что не хочет сказать резкого, унизительного для него слова. Тогда ты можешь ему сказать: простите!.. У меня было так раз-другой. Дама из общества: «Со мной бывало, что я брала чужое…». Я говорю: «Вы просто скажите: «“Я крала”»… Вот в таком смысле.
Порой от человека надо потребовать какие-то данные об обстоятельствах, потому что иногда он был введен в грех, иногда он сам его выбрал, иногда он завлек других. Это три совершенно разных положения. Иногда бывает, что человек сказал, и ты просто не понимаешь, что он говорит, и для того, чтобы ты мог молиться о том, что происходит в нем, ты должен понять. Ты не можешь молиться: «Господи, я ничего не понимаю, но Ты, наверное, понимаешь, что он говорит»… Я думаю, что можно требовать от человека, чтобы он существенное сказал об обстоятельствах греха, о том, как этот грех отражается или отразился на других. Но я (опять-таки это я, не ты и никто другой) всегда и совершенно молчу, пока человек говорит, и, когда он кончил, я беру каждый пункт его исповеди и отзываюсь на него. Это может быть вопрос, это может быть ответ, это может быть очень разно. И что касается ответов, я думаю, что есть разные положения. Иногда тебе нечего говорить; иногда у тебя чувство, что то, что человек говорит, как-то соответствует тому или другому евангельскому слову; иногда у тебя чувство, что то, что человек говорил, отражает определенный собственный твой опыт. А иногда бывает, что против всякой логики тебе приходит совершенно ясная, умиротворяющая, просвещающая тебя мысль, которая как будто даже не относится прямо к тому, что он говорил, но которую можно считать как бы даром Божиим, подарком. И мне кажется, что, если у тебя абсолютно ясное чувство, что этому человеку надо сказать то-то, ты можешь это сказать. Ты можешь даже предварить то, что говоришь, словами: «Я совершенно не могу понять, как то, что я сейчас скажу, относится к вашей исповеди, но вот что мне хочется вам сказать»… Иначе, думаю, можно сказать: «У меня нет уверенности в том, сказать ли вам то или другое, но вот из моего опыта, вот из Евангелия, что, мне кажется, относится к вашей исповеди»… А иногда люди очень благодарны, когда тебе нечего говорить, и ты скажешь: «Мне нечего вам сказать, давайте помолимся»… (Я говорю вразбивку, но очень трудно складно все это выразить.)
Я дам пример вопроса, обстоятельства которого ясно помню: где это было, что это было. Ко мне пришла молодая женщина исповедоваться, принесла подробную, умную, искреннюю, дельную исповедь. И когда она кончила, у меня было чувство, что одну вещь надо было сказать – и эту вещь она не сказала. Какая это вещь – я не знаю, но что-то есть такое. Я ей сказал: «Знаете, вы пришли сюда только для того, чтобы сказать то, чего вы не сказали. Что это было?». Человек расплакался, сказал: «Да, вы правы. Я вам исповедала все грехи для того, чтобы не дойти до того, чего я сказать не могла». Это может случиться, но на это рассчитывать нельзя.
– Когда крестят взрослого человека, его необязательно исповедуют; просто крестят, и считается, что крещение снимает все грехи, которые были у него до момента крещения…
– Знаете, крещение – не то же самое, что ванна. Когда вы запачкались и выкупаетесь, вы выходите чистыми. Но крещение не заключается в том, чтобы вашу кожу очистить от налета, оно заключается в том, чтобы внутри вас что-то совершилось. Отец Георгий Флоровский мне как-то сказал, что когда крестят младенца, который не делает выбора, который не знает, что с ним происходит, то в его душу словно вкладывают зернышко вечной жизни, как можно положить зерно в плодородную землю. Но это зерно должно дать плод. От того, что вложено зерно, у вас еще нет ни сада, ни поля. В этом отношении ответственность родителей, которые крестят детей, и восприемников очень серьезная, потому что те и другие говорят: да, этот младенец способен на вечную жизнь. Бог его создал для нее, мы в него вкладываем нечто, что принадлежит Божественной области, но наше дело – оберегать его, наше дело – это взращивать, наше дело – ему помочь осознать все это и вырасти… Иначе получается, что крестят и потом оставляют на произвол судьбы, даже без обучения. Знаете, Лесков где-то говорит, что Русь наша была крещена, но никогда не была просвещена… Крестили автоматически, оптом часто.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.