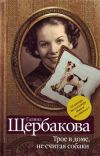Текст книги "Пастырство"

Автор книги: Митрополит Сурожский
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Примирение с Богом[29]29
Беседа на рождественском говении 30 декабря 2000 г.
[Закрыть]
Говение – момент, когда мы должны задумываться над собой с вниманием, серьезно, так как можно это делать, только когда нас не заботит, что о нас могут люди думать; момент, когда мы думаем только о том, что сами знаем о себе и что о нас знает и думает Бог. И вот в сегодняшней беседе я хочу обратить ваше внимание на некоторые стороны говения, на которые мы не всегда обращаем внимание.
Говение – это время, когда мы задумываемся, и цель говения – наша встреча и примирение с Богом. И тут я хочу обратить ваше внимание на нечто, о чем мы большей частью забываем: именно – что примирение всегда требует приятия друг друга двумя сторонами. Когда мы поссорились с кем-нибудь, мы можем просить прощения, мы должны его получить, но и тот, к которому мы обращаемся за прощением, должен себе поставить вопрос: какая же моя ответственность в том, что этот человек так плохо обо мне подумал, так плохо обо мне говорил, с такой горечью и болью обо мне думает, так меня отвергает моментами? Потому что если тот, кто прав в споре, не поставит перед собой этого вопроса, то настоящего примирения случиться не может. Будет великодушное прощение со стороны того, кто чувствует себя правым, и это не всегда для него будет хорошо. И поэтому на первом уровне я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы все в той или другой мере друг перед другом виноваты. Виноваты тем, что должны были бы быть друг для друга светом во тьме или в полумраке, в котором живет мир, быть помощью в нужде душевной или в материальной, телесной, быть радостью, когда одного из нас охватит горе, боль, быть поддержкой, когда вдруг истощаются все силы, какие есть и телесно, и душевно. Но такими мы друг по отношению к другу не являемся или являемся только по отношению к некоторым избранникам, которые нам родные, любимые. Но не для всех открыто наше сердце, не для всех открыто наше понимание, не для всех готовы мы сами открыться так, чтобы другому можно было как бы из нашей души почерпать то, чего у него нет.
Мне вспоминается сейчас рассказ об одном святом, который пламенел верой. Он глубоко любил одного своего друга, который погибал от неверия, и он обратился ко Господу и сказал: «Господи, я Тебя знаю. Я в Тебя верю. Моя вера ничем никогда не поколеблется, даже если я не буду ощущать ее в себе. Возьми у меня мою веру, отними у меня веру и отдай ее моему другу, чтобы он уверовал, а меня оставь с его душевной пустотой, с его безверием, с его отчаянием». И Господь исполнил его молитву: мгновенно в нем потухла вера, радость веры, уверенность. Одно у него осталось – доверие к Богу, доверие, рожденное от того, что Бог услышал его молитву, исполнил его прошение, отнял у него самое драгоценное, что у него было, по его собственной просьбе. Поэтому доверие его не поколебалось, и уверенность где-то осталась, хотя чувство веры, опыт веры, радость веры, та уверенность, которая не умственная, а охватывает всего человека до глубин, у него была отнята, – но его друг уверовал. Вот мера, которой мы, конечно, не можем достигнуть, о которой мы и мечтать никак не можем, но которая говорит о том, какова может быть человеческая преданность, дружба и любовь. И вот, когда мы будем думать о себе в периодах молчания, которые всегда бывают в течение говения, поставим перед собой вопрос не только о том, чем мы виноваты перед Богом и виноваты перед людьми. Это само собой разумеется, в этом-то и каяться нам надо, но поставим перед собой вопросы о том, что я сейчас упомянул.
Но есть другая сторона в примирении: для того, чтобы примириться, надо друг другу откровенно высказать то, что на душе, то, что разделяет, то, что ранит, то, что гневит, то, что вызывает недоумение, то, что подрывает доверие и веру. И вот тут я хочу вас поставить перед вопросом, который я никогда не ставил на говениях. Мы всегда приходим на исповедь, каясь во своих грехах, – более или менее несовершенно, но все-таки честно, с намерением, во всяком случае, быть честными и открытыми; но есть одна сторона, которую мы не затрагиваем почти никогда на исповеди. Это чувство, которое у нас порой бывает, иногда живет долго, пронизывает нас глубоко: я не могу Тебя, Господи, понять! Как Ты можешь поступать так с людьми, со мной, с миром, как Ты поступаешь с сотворения и мира, и человека?..
Вам может показаться, что мои слова слишком резкие, может быть, кощунственные, но я хочу вам прочесть как бы в оправдание себе две странички из книги отца Софрония о старце Силуане, чтобы вам показать, что люди великого духа, громадной глубины могут стоять перед этим вопросом и ставить Богу вопрос: «Как Ты, Господи, можешь так поступать?». Я ставлю этот вопрос, потому что с самого начала вам сказал, что примирение требует участия двух сторон. И мы дальше поставим вопрос о том, что же Бог отвечает на наше вопрошание.
Вот что пишет отец Софроний:
«Откровение о Боге говорит: “Бог есть любовь. Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы”. Как трудно нам, людям, согласиться с этим. Трудно, потому что и наша личная жизнь, и окружающая нас жизнь всего мира свидетельствует, скорее, об обратном. На самом деле, где же этот Свет любви Отчей, если все мы, подходя к концу своей жизни, вместе с Иовом с горечью сердца сознаем: лучшие думы мои, достояния сердца моего разбиты, дни мои прошли, преисподняя станет домом моим. Где же после этого надежда моя и то, что от юности тайно, но сильно искало сердце мое, кто увидит? Сам Христос свидетельствует, что Бог внимательно промышляет о всей твари, что ни одна малая птица не забыта Им, что Он заботится даже об убранстве травы, что о людях Его забота еще несравненно большая, настолько, что у нас и волосы на голове все сочтены. Но где же этот внимательный до последней мелочи Промысел? Все мы подавлены зрелищем неудержимого разгула зла и неверия, миллионы жизней, часто едва начавшихся, прежде даже, чем достигнуто самое осознание жизни, с невероятной жестокостью вырываются. Итак, зачем же дана эта нелепая жизнь? И вот, жадно ищет душа встречи с Богом, чтобы сказать Ему: “Зачем Ты дал мне жизнь? Я пресыщен страданиями, тьма вокруг меня. Зачем Ты скрываешься от Меня? Я знаю, что Ты благ. Но почему Ты так безразличен к страданию моему? Почему Ты так жесток и беспощаден ко мне? Я не могу Тебя понять”».
Вот вопрос, который отец Софроний ставил, когда он уже был в зрелом возрасте архимандритом, проведшим годы и годы на Афоне. И где же найти у него ответ? Вот что он пишет о старце Силуане:
«Жил на земле человек, муж гигантской силы духа. Имя его – Симеон. Он долго молился с неудержимым плачем: “Помилуй мя!” Но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошел до отчаяния и воскликнул: “Ты неумолим!” И когда с этими словами его в изнемогшей от страданий душе еще что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огнь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что, если бы видение продолжилось еще мгновение, он умер бы. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа, и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая».
Хватило ли у нас когда-либо дерзновения (и я это слово употребляю не в смысле наглости, а в смысле – неудержимой смелости) встать перед Богом и Ему сказать: «Господи, я Тебя не могу понять! Да, все Священное Писание нам говорит о том, что Ты – любовь; а что я вижу в жизни отдельных людей и в жизни мира: миллионы умирают с голоду, миллионы погибают от меча и огня, от болезней, от человеческой ненависти или человеческого безразличия, миллионы гибнут, и не только в языческом мире прошлого, но и в нашем мире. Когда мы думаем о том, что наш христианский мир сотворил за две тысячи лет, как страшно думать, что мы себя называем Христовыми, и что такой ужас войны, ненависти, предательства, измены, лжи действует среди нас. Где же Ты, Господи? Ты нас создал, и Ты знал, что будет. Ты знал, что человек не устоит в той первобытной чистоте, которая была ему дана изначально. Ты знал, что весь мир поколеблется от падения человека, что зло будет торжествовать как будто, что победа зла будет бросаться в глаза людям, а победа добра только касаться некоторых и в некоторые мгновения. Господи, я хочу с Тобой примириться, я хочу, Господи, мира между нами. Я прошу Тебя меня простить, но я не могу Тебя понять!».
И мне кажется, что ответ Божий нам дан в Воплощении. Бог сотворил мир и дал миру право и страшную власть самоопределения. Никто не может стать святым механически, насильно. Святость как приобщенность к Богу – такое же чудо, как любовь двух людей, которые так друг друга полюбят, что эта любовь их делает единым существом, одной личностью в двух лицах. И Господь нам говорит: да, Я вам дал свободу, потому что для того, чтобы восторжествовала победоносная любовь, нужно, чтобы вы ее выбрали среди разных возможностей, чтобы вы выбрали верность, чтобы вы выбрали правду, чтобы вы выбрали чистоту, чтобы отреклись от всего того, что является отвержением и отрицанием другого человека. Но мы тогда ставим вопрос: а Ты, Господи? Ты нас создал, Ты нас послал в мир с властью, со страшной властью и правом самоопределения. Что Ты сделал для того, чтобы это самоопределение не повело нас к погибели?». И Господь нам отвечает: Я Сына Своего вам отдал. Слово отдал в этом контексте такое страшное! Сын был отдан на смерть, потому что знал Господь, что человечество еще не созрело и не может созреть без того, чтобы Сын Его не вошел в мир, не явил бы совершенную, непостижимую красоту Человека, исполненного Божества, не указал бы путь, по которому каждый из нас может пройти и дойти до святости. Никто большей жертвы не может принести, как пожертвовать – не собой, собой пожертвовать в каком-то смысле легче, потому что, когда тебя убьют, уже ничего не остается, ты свободен; а послать сына своего на смерть – это значит принять решение о том, что он родится в жизнь для того, чтобы в этой жизни погибнуть, и погибнуть от того, что мы из жизни сделали путь к смерти, вместо того, чтобы сделать из нее путь в вечную жизнь. Бог послал Сына Своего жить не полнотой Божественной жизни, а ущербленной жизнью тварного мира, ущербленной тем, что она не развилась до полноты, но кроме того, изуродована грехом. И Сын прошел через все, о чем мы читаем в Евангелии, через все, о чем мы можем подумать, когда думаем о людях вокруг нас, которые рождаются в жизнь, которые достойны жизни и которые медленно или внезапной смертью мучительно погибают. Я как-то упоминал вам рассказ об офицере, который во время войны послал своего сына на разведку, из которой сын, вероятно, не вернется. Этому отцу говорили: как ты можешь послать своего сына, разве ты его не любишь? И он ответил: своего сына послать на смерть я могу; чужого – послать не могу. Так поступил наш Небесный Отец по отношению к нам. Он нам дал свободу: выбирайте путь – и, если вы заблудитесь, Я вас из заблуждения выведу.
Но опять-таки мы ставим перед собой вопрос личный уже, не общий, не богословский, не вопрос веры, а личный: Господи, сколько в моей жизни боли и страдания, и страха, и ужаса, и потерь, и болезней, и потери надежды. Господи, могу ли я настолько Тебе доверять, чтобы не поставить перед Тобой вопрос о том, как можешь Ты так поступать не только по отношению ко мне, но к тому ужасу, который обладает нашим миром? И этот вопрос мы должны иметь дерзновение и честность поставить в своей душе перед Богом, и перед собой поставить вопрос о том, чем может Бог в моей жизни (которая охватывает, может, небольшой круг людей, но в который врываются страдания мира) ответить, чем Себя оправдать, как я могу с Ним примириться, раньше, чем у Него просить прощение себе. Я думаю, что каждый из нас должен поставить перед собой этот вопрос, потому что, хотя мы его не ставим открыто, мы недоумеваем, как возможно, что миллионы умирают с голода, как возможно, что миллионы погибают на войнах, как возможно, что за две тысячи лет было больше трех тысяч войн между христианами, которым сказано: любите друг друга?
И мы должны (вам это, может, покажется страшным словом, жутким словом) научиться Бога понять, Ему простить, не в том смысле, чтобы свысока Ему сказать: «Прощаю Тебе, Господи, за Твое несовершенство», – нет. Но простить в том смысле, что примириться до самых глубин, принять всю трагедию собственной жизни. И это не всегда мы делаем. Мне вспоминается пожилая женщина во Франции, внук которой умер одиннадцати лет от болезни, которая длилась всю его жизнь. И она мне сказала: «Я в Бога больше не верю. Я Его молила о том, чтобы мой маленький внук выздоровел или хоть остался живым, и Он не обратил никакого внимания на мою молитву, на молитвы бабушки, матери его матери. Я больше в Бога не верю». Я тогда был молод и сказал ей резкое слово, может, слишком резкое, но правда остается правдой. Я сказал: «В течение войны тысячи и тысячи детей погибли, во время первой войны, во время революции, во время эмиграции, во время второй войны, в лагерях, с голоду, на дорогах, в объятиях матерей, которые не могли их накормить ничем, и ты продолжала верить в Бога?». И эта женщина мне ответила, может быть, самое страшное, что я в жизни слышал: «Эти дети не были моим внуком, какое мне до них было дело!». Подумайте об этом. Первый раз в жизни до нее дошел вопрос о том, что Бог, видимо, ответственен за тот ужас, который происходит, и она не справилась с ним. Она потом справилась, в том смысле, что гнев, отвержение Бога в ней превратились в острую боль и скорбь, которая ее никогда не оставила, но она начала любить других матерей и других погибающих детей.
Перед нами всеми есть вопрос более или менее острый. Когда мы к Богу идем на примирение, мы должны быть готовы Ему сказать: «Господи, я хочу, чтобы Ты меня принял, но я не знаю, как Тебя принять». Силуан, который тогда назывался еще Симеоном, долгие годы кричал к Богу о том, что он без Него жить не может, и Бог молчал. Но в какой-то момент Бог ему явился и пронизал его светом Своего присутствия. Силуан долгие годы был в отчаянии о том, что он не может встретить Бога, потому что ему надо было дойти до такой зрелости, чтобы встреча с Господом была для него не только началом новой жизни, но преображением, когда он весь проникся светом, когда он был светочем среди людей, которые его окружали, и стал светочем для тысяч из нас, которые так или иначе прикоснулись ему через его писания или через рассказы лично знавших его людей.
И вот о чем я хочу вас просить. Когда у нас будет период молчания, поставьте перед собой вопрос о том, есть ли у вас что-либо против Бога, в чем вы видите Его виновность в обстоятельствах вашей жизни, в смерти людей, кого вы любили и продолжаете любить до разрыва сердца, в ужасе, который происходил в течение всей русской истории, но особенно прошлого столетия. От всего этого порой думается: как может Бог, если Он любовь, или даже если Он не любовь, но у Него есть власть предотвратить зло, – как Он может все это терпеть и такую тяжесть невыносимую возлагать на мои плечи? Ответ на это может прийти только через просветление нашей собственной души, потому что для того, чтобы, подобно Силуану, встретить Христа, исполниться Святого Духа, нужно, чтобы одна после другой пали преграды, которые между мной и Богом, между мной и людьми. Пока есть такая преграда между мной и хоть одним человеком, пока я не могу сказать: «Прости, как я прощаю, оставь мне мои грехи, как я оставляю грехи согрешивших против меня», мы не готовы к этому. И тогда мы должны признаваться перед Богом, что стоим перед Ним, не понимая Его, ставя Ему в упрек то, чего мы не можем понять. А Бог терпит не только наше непонимание, но наш гнев на Него, наше отвращение порой, наше отрицание, отречение, терпит на Кресте и терпит в Своем Отцовском сердце. Потому что умирать на Кресте было ужасно бессмертному Сыну Божию, но каково было Отцу предавать Его на эту смерть и безмолвно наблюдать над тем, как умирает Божественный Сын смертью человека, которого мы на нашем греховном языке назвали бы чужим?
И тогда делается понятным, что некоторые люди, как Силуан, как Серафим Саровский, как Сергий Радонежский, как многие, многие другие, тысячи других, могли продолжать безусловно верить Богу, то есть доверять Ему до конца, не сомневаясь в том, что Его пути – не наши пути, и что в конечном итоге все человечество оправдает Его, что придет время, как сказано в Книге Откровения, и станут люди, которые прошли через все ужасы жизни, и скажут: «Господи, Ты был прав во всех путях Твоих!..».
Но сейчас мы приходим на исповедь или говение с целью примирения не только с нашей совестью, но и с Богом – с Богом, Который нам открыл путь жизни, путь добра, путь истины, и в этот момент примирения мы должны перед собой поставить вопрос, который я сейчас ставил все время неуклюже, неумело: могу ли я до конца принять Бога, какой Он есть, могу ли я до конца примириться с Ним раньше, чем буду просить Его примириться со мной?
Мы ставим порой вопрос: почему же Бог нам не открывает то, что могло бы быть для нас миром и утешением, и уверенностью, и победоносной радостью? Потому что мы еще не созрели. Емкости в нас не хватает, глубины не хватает. Вспомните Силуана: много лет, когда он еще был Симеоном, он кричал к Богу, и Бог молчал, потому что надо было, чтобы какая-то последняя преграда сломилась, чтобы упала как бы последняя стена и Свет Божий мог влиться в его душу.
Есть русское стихотворение, которое, может быть, нам на более простом уровне может сказать об этом:
Из бездны вечности, из глубины творения
На жгучие твои вопросы и сомнения
Ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг,
И плачешь, и клянешь ты Небо в укоризне,
Что не ответствует на твой душевный крик.
А Небо на тебя с улыбкою взирает,
Как на капризного ребенка смотрит мать,
С улыбкой, потому что все, все тайны знает,
И знает, что тебе еще их рано знать.
Так что будем перед Богом ставить свои вопросы, потому что эти вопросы говорят о том, что в нас созрела или, вернее, зреет постепенно способность к пониманию. Будем ставить Ему вопросы, но будем их ставить с доверием. Если мы только прикоснулись к ризе Господней, если только мы увидели отблеск Божественного света, мы можем сказать: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Мы можем сказать: «Господи, я не могу Тебя понять, но я могу Тебе довериться, зная от других, от святых, даже от грешников, что Ты – любовь, и что Ты меня не бросил, что Ты от меня не отрекся, что Ты не безразличен к моему страданию. И поэтому я могу к Тебе прийти и сказать: “Господи, я хочу открыться перед Тобой и все-все Тебе сказать, что недостойно и Тебя, и меня, и мира, который Ты сотворил, все сказать, чтобы Ты мог меня простить. А я, Господи, верую, помоги моему неверию! Доверяюсь Тебе, все еще недоумевая, но я Тебе не враг, Господи, просто я еще не созрел до меры Силуановой”».
На этом я кончу первую свою беседу и надеюсь, что она какой-то смысл для вас имеет, потому что для меня она имеет громадное значение. Теперь я вам предлагаю подумать над тем, что сейчас вы слышали, и посмотреть, как отзывается ваша душа на это, как вы можете стать перед Богом и с Ним примириться, то есть, говоря предельно резко, простить Ему в надежде, что и Он может вас простить.
Беседа с подростками[30]30
Москва, 15 июня 1988 г. Первая публикация: «Свеча». Литературный альманах. М., 1994.
[Закрыть]
– Владыко, у меня вопрос по поводу исповеди. Есть вещи, которые священнику говорить как-то не получается. Либо они слишком мелкие, либо такие, что другому человеку особенно и не скажешь. Как все-таки с такими грехами быть?
– Ну, во-первых, надо их «сбывать» – чтобы их не стало. Если их не станет, то не будет проблемы, надо их говорить или нет. Я говорю полушутя, но это на самом деле так. Ведь если ты чего-то не можешь сказать кому-нибудь, значит, что-то неладно.
А когда мы говорим, что грехи очень мелки, – так они на наш масштаб, вот и все! Это значит, что ты такой; если твои грехи вроде пыли, значит, ты не возвысился до чего-нибудь худшего (или лучшего). На самом деле маленькое свинство иногда гораздо труднее исповедовать, чем какой-нибудь большой грех: стыдно, что ты такой мелкий.
Другой вопрос – почему нельзя сказать священнику. Если ты не доверяешь ему, боишься, как бы он не сказал кому-нибудь, не употребил против тебя, это одно. Но тогда он – очень плохой священник; в старое время священникам, которые разбалтывали чужие грехи, язык резали. (Теперь, правда, не режут, но можно его заставить прикусить язык.)
А вообще, первое, что надо крепко помнить: ты исповедуешься не священнику, а Богу. В молитве перед исповедью говорится: Се, чадо, Христос невидимо стоит перед тобой; не убойся и не постыдись меня. И это сразу ставит тебя перед лицом Христа. А священник стоит сбоку, так как он, как дальше говорится, только свидетель.
Теперь: свидетели бывают разные. Скажем, если что-то на улице случится, милиционер подойдет и спросит, кто видел. Если ты не замешан, ты просто скажешь: «Я видел то-то», – и тебе все равно, кто прав, кто виноват, потому что ни тот, ни другой тебе ни друг, ни враг. Есть свидетели на суде, которые выступают за или против одной из сторон. И еще род свидетелей, которых берут, скажем, на свадьбу. Знаете: выбираешь самого близкого тебе человека, которому ты доверяешь больше всех, и говоришь: «Я хочу, чтобы ты участвовал в моей радости». И священник, который участвует в твоем разговоре со Христом, находится на положении этого третьего свидетеля. Он, как говорится в Евангелии об Иоанне Крестителе, друг Жениха. То есть он твой друг, приглашенный тобой, чтобы тебе помочь, поддержать и разделить радость твоего примирения с Богом. Ведь самое главное в исповеди не то, что ты говоришь о себе все плохое, что только можно сказать, а что это момент примирения: ради этого исповедуются. В таком случае твой вопрос снимается, потому что если ты, с кем-нибудь поссорившись, подойдешь к нему и скажешь: «Я тебе не скажу, в чем дело, но ты меня прости», – твой друг ответит: «Нет, пожалуй. Потому что, если ты просто сказал кому-нибудь обо мне что-то неприятное, это одно, а если ты сделал что-то уж очень гадкое, я хочу сначала знать. Кто же тебя знает, что ты сделал?». На исповеди дело обстоит именно так.
Ведь мелкое или нет – неизвестно, ты сам понятия не имеешь. Иногда различают: большие грехи и мелкие. Конечно, если один человек другого убил, это громадный грех, а если кто-нибудь к тебе пристал, ты разозлился, сказал: «Отстань от меня!» – это мелкий. Но я приведу вам такой пример. Во время войны я был хирургом в армии; однажды ночью нам привезли двух раненых. Первого прошило пулеметной очередью, и можно было ожидать, что он умрет. А второго привезли из кабака: он выпил с товарищами, заспорил; и один из его приятелей, вынув перочинный нож, стал им размахивать, ударил его в шею и разрезал один из важных сосудов, который несет кровь к голове. Казалось бы, пулемет гораздо опаснее, чем маленький перочинный ножик. Но тот, кого ранил пулемет, ничем особенно не пострадал; его не задело ни в сердце, ни в важный сосуд, ни в нервную систему. Ясно, что прошло через легкие, но это дело поправимое. А второй молодой солдатик чуть не умер от потери крови по дороге.
То же самое и с грехами. Тебе кажется: ну, это мелкий грех… Нет, это перочинный ножик, вопрос в том, куда он тебя ударил. А это – «крупный грех», но он тебя не убил. И говорить, что не стоит исповедовать тот или другой грех, так как он мелок, очень рискованно. Маленькая змейка может тебя ужалить, и ты умрешь, а какого-нибудь удава ты никогда и не встретишь.
Поэтому считай, что ты исповедуешься Христу, а не священнику. Священник тут – свидетель радости, чуда твоего примирения с Богом. И ты не можешь мириться, не сказав, в чем дело. Ты не можешь судить сам, большой грех или маленький. Это как в болезни: у тебя какой-нибудь признак ничтожный, а врач знает, что это начало тяжелой болезни.
И наконец, о священнике. В древней Церкви исповедовались не одному священнику, а перед всеми собравшимися. Человек говорил о себе все, что имел сказать, потому что, когда мы грешим, мы грешим перед Богом, да, но всегда против кого-нибудь. Мы не оскорбляем Бога непосредственно, не обращаемся к Нему с ругательствами, не делаем чего-либо Ему лично вредного. Но мы раним человека, делаем зло человеку, через человека совершаем грех. Поэтому люди должны с тобой примириться, чтобы Бог мог тебя простить; это одно. А второе, что делалось в древности (и я знаю одного священника, который раз это сделал), – ставился вопрос: вот этот человек кается в том, что он для вас всех был занозой, был как бы присутствием какого-то зла. Вы готовы его принять и нести его? Так как то, что вы его простите, еще не значит, что он переменился; это разные вещи. Ведь человек не меняется в одно мгновение. Бывают такие случаи, апостол Павел, например, переломился полностью, разом; но это не со всеми бывает. И поэтому община брала на себя, говорила: да, он нам брат, и мы будем его нести, она нам сестра, и мы будем ее нести на собственном хребте. И тогда давалась разрешительная молитва.
Теперь священник представляет собой общину, потому что община уже не способна слушать исповедь. Вы себе представьте: в вашем храме кто-нибудь выйдет перед всем народом и скажет: «Дорогие братья и сестры, я профессиональный вор». Что сделают люди? Вы думаете, они откроют объятия? Они сразу в карман полезут: не успел ли он украсть мой кошелек, раньше чем покаялся? Я уверен, что так будет; подумайте сами. Община больше не способна слушать исповедь. Люди будут говорить: «Боже мой! Он нерукопожатный! Как можно с ним общаться! Я не могу допустить, чтобы мои дети играли с таким мальчиком! Я не могу допустить, чтобы моя дочь ходила гулять с таким молодым человеком!» – вместо того, чтобы сказать: «Давайте-ка его спасать, из омута вытаскивать!».
И вот священник за всю общину слушает. Знаете, в древности, кончив исповедь, исповедующийся клал свою руку на плечо священника, и тот говорил: «Теперь иди в мире, все твои грехи на мне». Он принимал на себя солидарность с кающимся вместо общины, которая раньше это делала. С другой стороны, священник стоит от лица общины перед Богом и, молясь о тебе, говорит Богу: «Он наш. Ты не можешь его выкинуть без того, чтобы Ты и нас выкинул. Или Ты его прости и прими, или Ты нас всех отбрось, потому что мы не можем прожить с мыслью, что человек – мальчик, девочка, мужчина, женщина, наш друг, наш брат, наш отец – выкинут, без того чтобы мы не ушли с ним вместе». Это очень серьезное дело для священника и для общины.
– Когда происходит исповедь, можно ли сказать, что все мои грехи прощаются – или только те, которые я проговорил или продумал?
– Во-первых, грех прощается не потому, что ты его назвал, а потому что ты пожалел, что сделал, сказал, или подумал, или почувствовал что-то дурное. Мне рассказывали (конечно, это больше анекдот, чем быль), как одна старушка все время исповедовала один и тот же грех молодости. Священник ей сказал: «Бабуся, ты мне уже двадцать раз исповедовала это!». А она говорит: «Да, батюшка, но так сладко вспомнить!». Можно ли сказать, что этот грех ей прощен? Да, давно Бог простил, а вместе с тем она этим грехом живет, самое большое удовольствие ее жизни – вспомнить то, что тогда случилось… Вот пример. Нельзя просто дать список всего гадкого, что ты сделал, и думать, что этого достаточно.
Кроме того, есть грехи ведомые и неведомые. Есть поступки, о которых я понимаю, что они грешны. А есть вещи, которые на самом деле плохи, но я еще не дорос до такого их понимания, недостаточно развился духовно, или опыт моей жизни меня не научил. Грехи такого неведения, где нет моей недоброй воли, Бог может простить. А в том, что я сделал сознательно, я должен раскаяться. Что значит раскаяться? Я должен, во-первых, понять, что это плохо. А во-вторых, перед собой поставить вопрос: готов ли я меняться, собираюсь ли я бороться с этим? Если я вообще этого не собираюсь, если понимаю, что это плохой поступок, плохое отношение к жизни, но мне все равно; я знаю и буду продолжать, – то как меня можно простить?
О прощении, думаю, можно сказать вот еще что. Мы всегда думаем, что простить – это забыть. Мы подходим к человеку и говорим: «Прости меня!» – в надежде, что он уже никогда не вспомнит об этом. Но это не всегда полезно, так как иногда от того, что тебя простили, ты еще не переменился. И если тот, кто тебя простил, не будет следить за тем, чтобы тебе не дать повода снова сделать то же самое, ты можешь поскользнуться. У нас в приходе был такой случай, который меня чему-то научил. Была женщина-алкоголичка, пила отчаянно. Ее взяли в больницу, год лечили; она вылечилась, вернулась домой. Устроили праздник, поставили бутылку вина на стол. И от первого стакана все пошло прахом: она снова запила. Так вот, семья простила и забыла, а надо было простить – и не забывать, и не ставить ее в такое положение.
Прощение начинается не с момента, когда ты стал ангелочком и все в тебе хорошо, а с момента, когда тебе поверили, что ты жалеешь о том, каков ты, но тебе нужна помощь. И человек, к которому ты обращаешься со словом: «Прости!», тебе говорит: «Хорошо, я возьму тебя на свои плечи и помогу исправиться. Но я тебя люблю черненьким, а не только беленьким, люблю таким, каков ты есть, а не ввиду того, что ты, может быть, переменился».
– На исповеди надо рассказывать грех в общем или подробно говорить о каждом грехе?
– Видишь ли, если грех состоит из одного какого-нибудь проступка, ты можешь сказать просто: «Я сделал то-то». Но если обстоятельства этого греха сами по себе уже плохи, тогда и о них надо рассказать. Если ты что-нибудь украл, скажи: «Украл, жалею, не буду больше». Но если для того, чтобы украсть, ты еще вдобавок кого-нибудь обманывал, лгал, подводил, то все это надо рассказать, потому что дело не только в краже, а во всей цепи подлостей, которые с ней связаны. Вопрос не в том, чтобы дать список грехов, а в том, чтобы ты мог сказать все, что относится к этой краже.
И когда исповедуешься, надо называть вещи своими именами, а не так, помягче. Я помню, пришел ко мне на исповедь очень почтенный господин и говорит: «Со мной случалось, что я брал не свое». Я говорю: «Нет, вы скажите просто: я воровал». – «Помилуйте, вы меня вором называете!». – «Вы вор и есть, потому что брать не свое называется воровать». Понимаете, очень легко сказать: «Я не всегда правду говорю», вместо того, чтобы признаться: «Я налгал» – или: «Я привык лгать, когда мне это выгодно». И если ты не способен так сказать, значит, ты не очень жалеешь, а скрашиваешь, просто чтобы прошмыгнуть мимо исповеди. Поэтому надо говорить все, что относится к греху, что его делает более греховным; надо грехи называть по имени и не надо сознательно скрывать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.