Текст книги "Американский доброволец в Красной Армии. На Т-34 от Курской дуги до Рейсхтага. Воспоминания офицера-разведчика. 1943–1945"
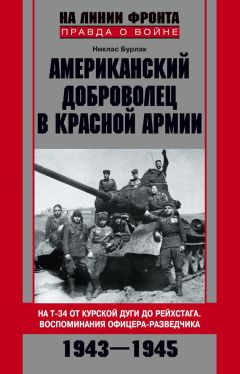
Автор книги: Никлас Бурлак
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
29 июня – 2 июля 1944 года. Боль
В ночь на 29-е я снова лежал под своей, нещадно изрешеченной осколками немецких снарядов и пуль тридцатьчетверкой. Меня греют две шинели – моя и оставшаяся с того дня в танке шинель Оксаны. В кармане моей гимнастерки – «талисман», вышитый и подаренный мне моей Принцессой зимой в Паперне: крохотный скромный синенький платочек. Казалось, он хранил запах рук Оксаны… Я ворочался с боку на бок, считал, сбиваясь, до сотни, повторял английский, русский и немецкий алфавиты, но уснуть по-настоящему смог лишь после приема 250 граммов чистого медицинского спирта.
…Рано утром я направлял свою тридцатьчетверку в самые опасные места навстречу огню противника, хотя его вполне можно было обойти с фланга. Это продолжалось и 29, и 30 июня – до тех пор, пока мехвод Иван Чуев вдруг не остановил машину и не выдал мне, как старший по возрасту, жесткий монолог:
– Все, командир, танк дальше не сдвинется с места, пока ты не придешь в себя. Мы прекрасно понимаем, что ты пережил. Нам тоже больно оттого, что ее с нами больше нет. И никогда не будет… Мы знаем, что ты ищешь смерти. Ты знаешь, где ее можно обойти, но ты этого не хочешь, лезешь на рожон. Ты смертельно рискуешь своей жизнью – и это твое дело, хозяин – барин. Но ты ведь нас подвергаешь смертельной опасности, а мы хотим жить! Понимаешь, командир?!
Остальные члены моего экипажа молчали, но я чувствовал и понимал, что думают они так же, как Чуев.
У меня не оказалось аргументов и слов, чтобы ему возразить. Я просто никак не мог смириться с тем, что моей Оксаны не стало, а я остался жить. Я счел это великой несправедливостью. И я действительно стал искать для себя смерти. Это был мой личный выбор. Но не «свобода выбора» членов моего танкового экипажа. Они ждали от своего командира разумных, а не сумасшедших действий – продуманных, отвечающих поставленным перед нами боевым задачам.
Они были безусловно правы. Я взял себя в руки, преодолевая острую боль потерь.
3 июля 1944 года. Юго-восточнее Минска. Поле, усеянное черепами
Освобождение столицы Белоруссии поручили не нам, а войскам 3-го Белорусского фронта. Лишь две бригады нашего корпуса приняли участие в освобождении южной окраины Минска.
Наша разведрота остановилась перед зеленым полем. Поначалу нам показалось, что она усыпана огромными белыми грибами. Подъехали ближе, и оказалось, что это не грибы, а человеческие черепа.
На наших самодеятельных картах, выданных нам Олегом Милюшевым 24 июня, справа от этого огромного поля значились две деревни: Малый Тростинец и, чуть ближе к Минску, Большой Тростинец. Слева был лес под названием Шишковка. Кроме тысяч черепов, мы увидели несколько огромных – длиной около пятидесяти шагов, шириной в пять шагов – рвов, заполненных трупами детишек, женщин и седовласых стариков. У одного из раскрытых рвов стояла огромная землеройная машина…
Глядя на это поле, усеянное человеческими черепами, на огромные рвы-могильники, я снова вспоминал «Апофеоз войны» Верещагина.
Танкисты и десантники нашей роты, уцелевшие в мясорубке у Бобруйска, сняв танкошлемы, каски и пилотки, долго стояли молча между тридцатьчетверками и полем, усеянным человеческими черепами. Вдруг из леса появилась странная троица: девушка в черном берете с красной лентой и немецким автоматом на груди. Рядом с ней – два низкорослых паренька, тоже в шапчонках с красными лентами и немецкими автоматами.
«Белорусские партизаны!» – произнес кто-то из наших бойцов с нотой иронии в голосе. Троица сначала шла к нам медленно, неуверенно, а затем, убедившись, наверное, что мы действительно свои, бегом. Они кинулись всех нас обнимать и целовать, как родных.
– Что здесь происходило? – спросил девушку-партизанку майор Жихарев.
То, что мы от нее и от двоих ее спутников услышали, вызвало у нас настоящий шок. Мне это показалось совершенно невероятным и невозможным в цивилизованном мире. Сначала все трое, засучив рукава, показали татуированные номера. И объяснили, что это – «удостоверения личности», выколотые в том концлагере смерти, который располагался справа от белых хатенок Малого Тростинца.
– А куда девался сам концлагерь? – спросили танкисты.
– А его фашисты разбомбили за два дня до вашего наступления на Минск! – перебивая друг друга, ответили парни.
А девушка добавила:
– … Чтобы скрыть зверства, которые они чинили здесь.
– А это все разве не доказательства? – спросил девушку Жихарев, указывая на поле, на землеройную машину и открытые могильники.
– Не успели закончить, – ответила она. – Хотели вырыть всех из могильников и сжечь трупы. В Шишковке можете увидеть крематории, бочки с жидкой смолой и две душегубки.
Только тогда я сообразил, что землеройная машина нужна была немцам, чтобы выкапывать, а не закапывать трупы.
– Сколько здесь могильников было? – спросил Иван Чуев.
– Штук тридцать, – ответила девушка.
– Бо-ольше, Алеся! – возразил паренек.
– Как вы попали в концлагерь? – спросил Жихарев у Алеси.
– Я сама минчанка, – сказала она. – До начала войны окончила первый курс Минского пединститута. Была на своем курсе комсоргом. В конце 42-го меня выдала сокурсница, эстонка. Ее отец был охранником в концлагере смерти.
– А они как? – спросил кто-то из танкистов, кивнув на парней.
– А они попали в облаву и тоже оказались в концлагере, – ответила девушка.
– Как же вы спаслись? – спросил Жихарев.
– Мы трое работали на строительстве крематория, – начала рассказывать Алеся.
Но ее нетерпеливо перебил один из ребят-партизан, тот, что был постарше:
– Нас охранял один вечно пьяный фриц. Он как-то раз сидя уснул, и я его огрел кирпичом по башке. Не знаю, может, убил.
– Схватили его автомат и драпанули в лес, – добавил второй.
– На другой день мы нашли партизан, – пояснила Алеся, – стали у них разведчиками.
– Молодцы! – произнес майор Жихарев. – Звать-то вас как?
– Меня Банась, – ответил тот, что постарше. – А его…
– А меня Карусь.
– Вы все трое белорусы. А кого в концлагере было больше? – спросил Жихарев.
На этот вопрос ответила Алеся:
– Больше всего было евреев. Их привозили в Тростинецкий лагерь со всей Европы, даже из Германии. Поезда с еврейскими семьями приходили в Минск два раза в неделю, рано утром. Все их вещи сразу же отбирали и выдавали расписки. А после этого – я сама это видела несколько раз – их запихивали в душегубки и везли из Минска в крематории Шишковки. В пути они задыхались. В лагере – до нашего побега – знающие люди говорили, что все душегубки ездили туда-сюда беспрерывно, круглосуточно. Кроме того, многих евреев, поляков, русских и белорусов везли сюда, на это поле между Малым Тростинцом и Шишковкой, и здесь расстреливали. Заполняли трупами могильники, засыпали их землей и поверху для утрамбовки пускали гусеничный трактор ЧТЗ. А еще из Европы привозили на расстрел и в душегубки людей из концлагеря Дахау…
Мне через четверть века довелось побывать не только в Бобруйске, но и здесь, в обоих Тростинцах. К тому времени из разных источников мне удалось узнать, что Тростинецкий лагерь смерти занимает по количеству умерщвленных жертв нацизма четвертое место в Европе после Освенцима (4 миллиона человек), Майданека (1 миллион 380 тысяч человек) и Треблинки (800 тысяч человек). В Тростинецком погибло 200 тысяч.
В том лесу, откуда к нам вышла троица партизан – Алеся, Банась и Карусь, – я прочел на белорусском языке и переписал себе в блокнот наказ-завещание потомкам:
Мы – тысячы ахвар,
што у полымя кастроу
фашвсты кiнулi
на Трасцянецком полi!
Звяртаемся до вас,
Сясцер сваiх, братоу:
Змагайцеся за мiр
I, беражыце волю!
На другом гранитном постаменте я прочел надпись на русском языке: «Здесь захоронены советские граждане, замученные и сожженные немецко-фашистскими захватчиками. Люди, помните, передайте из поколения в поколение, что вся земля здесь пропитана нашими слезами и кровью. Пусть наше горе и мужество дадут вам силы и уверенность в борьбе за мир и счастье на земле!»
30 июля 1944 года. Польша. Полевой госпиталь
Моя жизнь и судьба устраивают мне невероятные сальто-мортале, смертельные прыжки. Впечатление такое, будто моя жизнь и судьба испытывают мое терпение. Интересно было бы знать, когда все это закончится. Между тем я не перестаю думать и разговаривать с моей дорогой Принцессой Оксаной.
Открыв глаза и глядя по сторонам, догадываюсь: я снова в госпитальной палате. (Механик-водитель Иван Чуев сказал бы по-одесски: «Обратно в палате».) Она значительно просторнее тех, где хозяйничала Оксана. Наверное, это не армейский, а фронтовой военно-полевой госпиталь, и тент здесь, похоже, ленд-лизовский, американский.
Третье ранение. К тому же, кажется, и контузия? То и другое? Возможно. Надо вспомнить: что, где и как? Напрягаюсь долго. Не получается. Провал памяти. Как долго я был без сознания – час, два, день, неделю? Меня оперировали? Очевидно: вся грудь и левая рука крепко забинтованы. Шевелить левой рукой больно. Оперировали под общим наркозом или под местным? Кто оперировал? Пальцы и вся правая рука не забинтованы. Могу шевелить пальцами, поднять руку. Голова, лицо и шея, кажется, тоже совсем не забинтованы. Проверяю. Они вроде бы в порядке. А ноги? Что с ними? Пальцы ног шевелятся. Получается! Но тут же вспоминаю раненого соседа в госпитале до начала Курской битвы (значит, память не полностью отшибло!). Ему казалось, говорил он мне, что может шевелить пальцами ноги, которую ему накануне ампутировали выше колена. Его собирались увезти в эвакогоспиталь, но он застрелился. Попробовать поднять ноги? Острая боль в груди и предплечье не позволяют! Что же с ногами? Левая забинтована, а правая – нет.
Сосед с забинтованной головой на койке слева улыбается.
– Очухался, командир? – прошептал он.
Его глаза внимательно смотрят на меня. Видел эту улыбку не раз! И голос кажется мне знакомым. Мехвод Чуев?
– Ты? – спрашиваю.
– Я, командир, я! – отвечает Иван.
– Каким образом?
– Так распорядился Всевышний, – ответил Иван Чуев улыбаясь. Потом улыбка на его устах погасла. Он продолжил: – Наших ребят разнесло миной, а мы, командир, вот здесь стренулись. Чудеса! Представляешь: они варили кашу, сидели вокруг костра, и вот аккурат прямо в его середину немецкая мина и угодила…
После продолжительной паузы я спросил у Чуева:
– А мы с тобой где были в то время?
– Чуть в сторонке… Карту рассматривали. Искали польскую Прагу. (Чуев имел в виду пригород польской столицы – тезку столицы Чехословакии.)
– Где это произошло?
– В направлении на Варшаву, за Вислой.
– До Праги, понятно, не дошли?
– Нет.
– А кто нас подобрал?
– Санитары. Попали мы прямо в операционную к Галине Васильевне Талановой. Сначала ты, командир. А после тебя – я. Она меня спрашивает: «Вы его знаете?» – «Мой командир танка», – отвечаю. Она: «А почему бредил на английском, все звал какую-то принцессу?»
– Ну и?..
– Ну я ей все про тебя, командир, и выложил. Она после этого распорядилась поставить наши койки рядом.
– Неужели та самая Таланова?
– Она! – произнес Чуев. – У меня здесь земляк оказался и подтвердил: ППЖ маршала Рокоссовского.
– Слушай, Иван, не смей так о ней говорить.
– А разве неправда, командир?
– Неправда! – возразил я. – Походно-полевая жена – это когда девчонки попадают в рабство к начальству. Я, например, был старшиной, а Принцесса – лейтенантом. Она не была мне подчиненной. Разве ее могли называть ППЖ?
– Так у вас было дело по-серьезному…
– Я уверен, что у них все тоже по-серьезному, а не так, как у других, – сказал я. – Помнишь, что нам о них рассказывал Милюшев? У них, Чуев, обоюдоискренние отношения и настоящая большая любовь. Война и любовь совместимы, Чуев.
– Тс-с-с! – прервал меня Чуев. – Она идет!
К нам направлялась молодая красивая женщина в белоснежном халате и таком же белом колпаке хирурга. Я ее никогда прежде не видел, но, если Чуев сказал «Она», значит, это Таланова, решил я. Кроме того, по ее походке сразу было видно: по палате идет не вторая и не третья персона этого госпиталя, а первая.
Чем ближе приближалась к нам Таланова, тем больше я понимал Рокоссовского. Я мысленно ее «сфотографировал», чтобы потом, когда смогу, нарисовать ее портрет.
Приблизившись к нашим с Чуевым койкам, она вдруг произнесла с приятной, мягкой улыбкой:
– Good morning! How do you feel?
У Чуева от неожиданности челюсть отвисла. Да и я был удивлен. Но я быстро взял себя в руки и ответил:
– Fine, thank you, Madam Doctor. You can’t imagine what a joy for me to hear my native English here, in this field hospital! (Спасибо, мадам доктор. Вы не можете себе представить, какая для меня радость услышать здесь, в этом полевом госпитале, родную английскую речь!)
– Too much! Too much! – замахала рукой «мадам доктор» и, снова улыбнувшись, перешла на русский: – Многовато. Многовато. Я вам сказала лишь то, что осталось в памяти со школы. Но ваше «Fine» и «Thank you, Madam Doctor» я поняла.
Она мне напомнила Принцессу Оксану. Я подумал: «Была бы Оксана жива, закончила бы мединститут и была бы похожа на Таланову». Она присела на край моей койки, приподняла мою левую руку и попросила сжать пальцы в кулак. У меня не получилось. Мне удалось с болью сжать кулак лишь наполовину. Она поняла, как трудно мне это дается, лицо у нее стало серьезным. Я испугался: не значит ли это, что меня из этого полевого госпиталя ушлют далеко от фронта за Урал? Глупо, конечно: я тогда не подумал о более серьезном последствии: что могу остаться вовсе без левой руки. Нет, я думал о том, что должен выполнить свою и Принцессы Оксаны заветную мечту – дойти до логова фашистского зверя, до Рейхстага! И там встретиться с моими земляками американцами. Они ведь теперь, наверное, уже в Париже!
Доктор Таланова молча встала и откинула легкое одеяло с моих ног.
– Пошевелите пальцами ног.
Я пошевелил.
– Хорошо! – сказала она.
– А левая рука? – осторожно спросил я.
– Не опухла. Пульс есть. Будем надеяться…
– Позвольте мне у вас спросить… – начал я робко.
– Позволяю.
– Могу ли я и мой механик-водитель рассчитывать на то, что мы через какое-то время сможем вернуться в нашу разведроту?
– Боитесь быть отправленными в эвакогоспиталь?
– Боимся, доктор. Хотим остаться на фронте, которым командует маршал Константин Константинович Рокоссовский.
Таланова взглянула на меня, как бы желая понять, насколько искренне я это сказал. Я встретился с ее глазами и выдержал пытливый взгляд. На лице у нее снова появилась приятная, мягкая улыбка.
– Время покажет, – произнесла она. – Возможно, вернетесь.
– Thank you so much, Madam Doctor! – сказал я по-английски.
Она меня поняла.
12 августа 1944 года. Батя
Старший сержант Иван Чуев и многие другие в нашей роте называют нашего комроты майора Жихарева между собой Батей. Такая кличка давалась далеко не всем командирам Красной армии. И я сам, следом за всеми, стал его так называть – разумеется, мысленно или в приватном разговоре с сослуживцами. Надо сказать, было за что Жихарева так называть. О танкистах и десантниках своей роты он, при всей строгости, заботился, как требовательный, но справедливый отец о своих сыновьях. Слыханное ли дело, чтобы комроты ехал более 50 километров и тратил несколько часов своего драгоценного времени, чтобы навестить раненых бойцов роты?
Мне кажется, мой краткий разговор с Талановой сыграл определенную роль в том, что нас с Чуевым не отправили в какой-нибудь далекий эвакогоспиталь и решили лечить здесь, в этом фронтовом полевом госпитале. Сегодня с утра Чуев мне сообщил, что нас должен навестить Батя. Откуда такие сведения? Земляк Чуева, некий шустрый одессит Марк, слышал разговор Талановой с нашим Батей по телефону.
В первую неделю августа к нам в госпиталь поступило сразу несколько тяжелораненых танкистов. Все они были из 2-й танковой армии, которую чуть не полностью разгромили несколько немецких танковых дивизий севернее Праги, пригорода Варшавы, на восточном берегу Вислы. Об этой ужасно неприятной для советских войск операции нам рассказал один из раненых – командир танкового взвода, старший лейтенант Морозов. Он был ранен под Воломином, что севернее варшавской Праги. «Там, – рассказал Морозов, – шли ожесточенные бои между танковыми корпусами нашей 2-й танковой армии и свежими немецкими танковыми дивизиями, переброшенными к Варшаве с юга». Морозов рассказал нам, что в Варшаве 1 августа по команде от Миколайчика из Лондона вспыхнуло восстание, возглавляемое генералом Армии крайовой Тадеушем Бур-Комаровским. Помимо прочего, Морозов упомянул то, что в Варшаве живет младшая сестра Константина Рокоссовского. Последнее обстоятельство было для меня новостью.
Около одиннадцати утра к нам прибежал, запыхавшись, Марк – тот самый земляк Чуева – и сказал нам, что к Талановой приехал какой-то бравый майор-танкист с двумя орденами Боевого Красного Знамени. Мы с Чуевым переглянулись и чуть ли не одновременно произнесли: «Неужели наш Батя?!»
– Ты, Марк, помнишь, о чем я тебя просил?
– Конечно, помню, – ответил Марк и, усмехнувшись, добавил: – Заяц трепаться не любит! А ты, земляк, – обратился он к Чуеву, – помнишь, что обещал, если я организую?
Чуев тут же, без разговора, снял с руки свои трофейные часы-штамповку и вручил их Марку. Тот посмотрел на них, послушал: идут – не идут? – оглянулся по сторонам, сунул их в нагрудный карман под халат и быстро ушел.
Я понял, что речь у них шла о «гешефте», который мне активно не нравился. Суть его была в том, что раненым танкистам, отправляемым в госпиталь, друзья надевали на руку две-три пары трофейных часов, которые можно было обменять на чистый медицинский спирт у таких, как этот Марк. Такие «шустрые», устроившись в полевых госпиталях, делали свои мутные делишки. «Кому война, а кому мать родна», – говорили о такого сорта людях фронтовики.
Вообще-то внимание к трофейным часам было в то время повышенное, мягко говоря. Когда немецкие пленные после Минска стали со словами «Гитлер капут!» сдаваться в плен, у них не столько спрашивали о спрятанном оружии, сколько о часах, – на полунемецко-полурусском тут и там звучала фраза: «Ур, ур есть?» Немецкие военнопленные беспрекословно снимали с рук или вынимали из карманов свои часы и отдавали советским солдатам, лишь бы их не «шлепнули». Я не раз видел это и не раз задумывался о том, почему в СССР была такая дикая погоня за ручными часами? И пришел к выводу, что во время индустриализации СССР лидеры страны не думали о насущных потребностях людей: о ручных или карманных часах, например. В Макеевке перед войной к нам в дом приходил к отцу один инженер. Я показал ему привезенный из Штатов специальный нож для очистки картофеля или других овощей и спросил, почему в Союзе не выпускают такие ножи.
– Смотрите, как тонко и быстро он чистит, – сказал я инженеру.
На что тот ответил:
– Такая хорошая сталь нужна нам не для картошки, не для бритвенных лезвий, а для танков и орудий, – ответил он, дав мне при этом информацию для размышления о том, что важнее – человек или танк?.. Часовых заводов во всем СССР было, кажется, только два. Отсюда, думал я, такая «часомания». После боя у советских солдат было популярно развлечение: «махнем часы на часы не глядя». «Часомания» и «гешефты» на фронте мне очень не нравились, порой вызывали отвращение. Я не раз задумывался, происходит ли что-то подобное в армии Соединенных Штатов?
Марк появился возле Чуева минут через десять с двумя небольшими свертками. Он открыл прикроватную тумбочку и положил в нее свертки.
– Чистый, медицинский? – строго спросил Чуев, на что Марк ответил по-одесски:
– Шоб я так жил!
– Что там? – спросил я.
– Встретим Батю – что надо! – ответил Чуев. – В одном пакете – чекушка чистого медицинского спирта, в другом – соленые огурцы. Банкет!
– А ты, Чуев, думаешь – это законно?
– Это не наша проблема, командир. Не наша! Может, он его не ворует, а просто собирает. Им тоже положено по пятьдесят граммов в день спирта вместо ста граммов водки. Они тоже считаются здесь фронтовиками. В тылу так и будут себя называть.
Я понял, что мой мехвод сделал этот «гешефт» ради встречи с Батей. Решил таким образом показать ему наше уважение и почтение.
«Чекушка на троих – не пьянка. Но языки развязывает и сближает людей», – говорил наш покойный комвзвода Олег Милюшев.
Диалог с Чуевым был неожиданно прерван. В палату вошел Батя – майор Жихарев. Вставать с кроватей нам с Чуевым еще не разрешили, а садиться можно было, что мы и сделали.
– Здравствуйте, мои хлопчики-молодчики! – произнес, улыбаясь, майор. – Я к вам прямо от Талановой. Она обещает…
– Что? – настороженно, не удержавшись, спросил я.
– Что к наступлению на Берлин вы оба будете у меня в строю.
– А когда будет наступление на Берлин? – задал бестактный вопрос Чуев.
– Вы оба вернетесь в строй недели через три или четыре. Так пообещала Таланова. А наступление на Берлин еще не скоро…
– А верно, что 2-я танковая армия Богданова потерпела большое поражение? – спросил Чуев.
– Это правда.
– А восстание в Варшаве – тоже правда? – снова спросил Чуев.
– Тоже правда, – ответил Жихарев.
– Товарищ майор, а можно нам с вами помянуть наших погибших товарищей по оружию: Принцессу Оксану, гвардии старшего лейтенанта Олега Милюшева и других наших танкистов и десантников? – осторожно спросил Чуев.
Хитер мужик, подумал я. Нашел способ подобраться к чекушке и соленым огурцам. Разве можно отказаться от того, чтобы помянуть павших товарищей?
– Помянем, – ответил Жихарев, когда увидел, что Чуев вынул из тумбочки чекушку и огурцы.
Было всего два стакана. Чуев и тут проявил солдатскую смекалку: налил в два стакана спирт и сказал:
– А я из горла! Пусть им земля будет пухом…
Мы, не чокаясь, выпили. Соленые огурцы оказались очень кстати после чистого медицинского спирта.
– Товарищ майор, – спросил я, – вы получили какие-либо известия о своей семье из Ельца?
– Из Ельца – ничего, – ответил он. – Но меня разыскала старшая дочь Алла и сообщила, что мама – моя жена Мария Михайловна с младшей Тоней перед приходом немцев уехали в деревню. А саму Аллу приняли танцовщицей в один из фронтовых или армейских ансамблей песни и пляски, хотя ей и шестнадцати еще нет.
Жихарев вынул из нагрудного кармана фотографию и показал нам.
– На этом фото она выглядит совсем взрослой, – сказал я. – Красивая девушка. Не случайно ее приняли.
– Она танцует с шестилетнего возраста, – добавил Жихарев не без гордости.
– Красотка! – воскликнул Чуев, взглянув на фото. – Был бы я не женат, нашел бы ее после войны и попросил бы руку и сердце.
Майор Жихарев оставил реплику Чуева без комментариев.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































