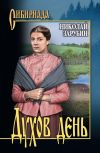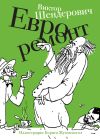Текст книги "Рассказы о прежней жизни (сборник)"

Автор книги: Николай Самохин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Председатель, конечно, про обиду брата не знал. Да и сам Константин, если бы все не так вот – одно к одному, не обиделся бы. Ну, в отпуске человек – обыкновенное дело. А тут…
Председатель, построжившись, счел необходимым проявить чуткость.
– Со средствами-то как, Петрович? – участливо спросил он. – Теперь ведь расходы да расходы.
– Спасибо – не надо, – ответил Константин.
И Артамонов поспешил вставить:
– Деньги есть, не беспокойтесь.
– Ну как же, как же, – сказал председатель, – Федоровна, посмотри там, у себя.
Жена достала пятерку, протянула Константину. И так эта пятерка царапнула Артамонова, что он аж зубы стиснул.
– Немедленно! – сказал брату, когда председательская чета откланялась. – Немедленно отдай! – Он достал еще десятку. – Пошли немтыря – пусть водки мужикам купит.
Потом уж подумал: нехорошо. Человек, возможно, от души… Но все в этот день ранило его, все…
Привезли гроб с телом матери в город только поздно ночью. Коля Тюнин вел свою машину как бог. За все семьдесят километров не тряхнул ни на одной выбоине, не затормозил резко. Хотя управлять было трудно. Во-первых, дорога. Такие «тещины языки», такие петли Артамонов только на Кавказе встречал. А во-вторых, в кабине их сидело четверо: старшая девчонка Константина уревелась вся – не останусь, поеду с бабой! Как ни уговаривали ее и отец, и Артамонов, и соседки – ни в какую! Хоть в кузове, да поеду. В кузов собрался залезть Артамонов, брату, с его легкими, ехать там была бы гибель, но Коля Тюнин скомандовал:
– Давайте все в кабину. Ужмемся как-нибудь. На всякий случай, – это Артамонову, – держи пятерку наготове. Если вдруг инспектор. Хотя вряд ли.
Ехали, скреблись по гололеду, курили без конца – разгоняли дрему. Таиске сказали: «Терпи, раз напросилась».
Артамонову все это казалось нереальным: позади, в гробу, мать… как же так?
Ему вспомнилась другая дорога с матерью. И другой день – теплый, сентябрьский, золотой.
Это было в сорок четвертом году. Им тогда нежданно-негаданно выделили в гараже, где работала сестра, трехтонку – вывезти сено для коровы. Шофер, молодой мужчина в полинялой гимнастерке, бывший фронтовик, пригласил мать в кабину: «Садись, глазастая, – я веселый». «Нет, мы наверху», – рассмеялась мать.
Ехали стоя, держась руками за кабину. «Ты ногами пружинь, сгибай их в коленках», – учила Артамонова мать. Шофер, задетый тем, что мать не села к нему, погонял вовсю, на тряских местах ходу не сбавлял. Мать, казалось, это еще больше веселило. Она разрумянилась, платок сбился на затылок, короткие темно-русые волосы трепал ветер. Она то петь принималась, то, нагибаясь к Артамонову, рассказывала ему разные истории, перекрикивая шум мотора.
– Вот, Тима, сейчас впереди ложок будет, заметь!.. В прошлом году, в сенокос, ехали мы тут верхами с Трясуновым дядей Иваном, с объездчиком, – ты его знаешь. Ехали шагом, только в ложок спустились, глядь, медведь дорогу переходит. Мы коней повернули и галопом назад. А до этого, только что вот старуху обогнали, шорку, – шла с котомкой за плечами. И опять ей навстречу. «Стой! – кричим. – Бабушка! Мамка! Ата! (Я не знаю, как по-ихнему.) Стой! Медведь там!..» А у ней – веришь? – аж глаза разгорелись. «Где медведь, где?» И вытаскивает ножик. А там ножище – страх смотреть. Платок с головы сорвала, руку им обмотала – и бегом в ложок, в кусты… Дак что ты думаешь? Зарезала ведь медведя! Они их знаешь как режут? Он на дыбы вспрянет, пасть разинет – а они ему туда руку с ножом, в пасть. Только обматывают руку потолще, чтобы не сжевал… Вот до чего отчаянный народ…
Возвращались опять наверху, на возу с сеном. Везли еще полмешка овсяной муки, знакомая старуха в деревне Безруковке уделила. Мать положила голову на мешок, мука через мешковину пудрила ей волосы.
– А что, Тима, – говорила мать, глядя в небо. – Вот приедем сейчас домой – а там папка ждет, а?
(Артамоновы уже месяца два, как получили от отца письмо: «Лежу в госпитале, ранен легко, скоро ждите домой…»)
Господи, какое это было счастье: ехать под чистым небом с веселой, разговорчивой матерью, знать, что корова теперь с кормом, что вечером будут овсяные блины, и под радостный стук сердца думать: а вдруг правда отец уже дома?
У сестры не спали. Горели в квартире все окна. Уже собрались самые близкие родственники. Дядя Василий пришел – младший брат матери, с женой – тетей Марусей; дядя Гоша – младший брат отца. Были и трое взрослых сыновей дяди Василия, но эти только помогли занести гроб в квартиру и до завтра распрощались. Чего больше всего опасался Артамонов, то и случилось: сестра упала на грудь матери и завыла. Хуже даже получилось, чем он предполагал, страшнее. Он ждал: ну покричит, попричитает – и все. Без этого не обойтись. Но она растравила себя причитаниями, зашлась до синевы, до припадка.
Дядьки раскрылатились беспомощно – они сроду-то баб уговаривать не умели. Тетя Маруся с Оксаной тщетно пытались ее утешить тщетными же словами: «Да Тасенька, да что же теперь сделаешь, да ведь назад не вернешь… уймись, хватит…»
Взялся было уговаривать сестру Артамонов – бесполезно.
Коля Тюнин, не успевший уехать, – опять он! – разрядил обстановку. Силой оторвал сестру, увел в другую комнату, посадил на диван.
– Ну-ка, цыть! – сказал – и кулаком по колену пристукнул. – Ты что? У тебя одной горе? Твоя это только мать?.. Посмотри на братовьев. Они сегодня побольше твоего вымотались – с ног валятся! Им не по семнадцать лет! Кувыркнется щас какой-нибудь – не так завоешь!..
Артамонов и правда задохнулся от этого крика, не выдержал. Позвал на кухню дядек, вынул из холодильника бутылку водки:
– Ну-ка, давайте, дядья, выпьем.
Дядьки не заставили себя просить, у них тоже смутно было на душе.
Выпили. Сразу вроде полегчало. Разговаривать только пока не знали о чем, молчали. Тема-то была – о случившемся, но что же теперь все об этом.
И Артамонов просто спросил:
– Как живешь, дядя Гоша?
Он потому спросил о жизни старшего дядьку, что у младшего все теперь было нормально: сыновей вырастил, на ноги поставил, и они хорошо пошагали своими ногами: переженились, да как-то все удачно, квартиры получили, машинами обзавелись, внуков дяде Василию нарожали. А дядя Гоша два года назад схоронил свою старуху и остался бобылем в пустом доме.
Дядя Гоша, как ждал этого вопроса, охотно заговорил:
– Ничего живу, неплохо. Пенсия у меня хорошая, да я же еще работаю, сторожу базу – сутки через двое… Жениться собрался, – неожиданно сообщил он.
Язвительный дядя Василий прищурился:
– А не рассыплешься, Георгий Спиридонович? До женитьбы-то? Ты ведь сестре-покойнице ровесник.
– Небось… – даже не глянул на него дядя Гоша. – Я еще в баню кажную неделю хожу, дак по три раза на полок залажу. Молодые не выдерживают. – И продолжил о своей жизни: – Телевизор купил, два костюма себе справил. Глянь-ко вот – как тебе костюм? – он поднялся в рост.
Костюм на дяде Гоше был хороший: двубортный, солидного, сдержанного цвета. И рубашка хорошая – в полоску. И галстук. Артамонов невольно залюбовался дядькой, особенно лицом его – грубой резки, но по-своему красивым, внушительным.
Дядя Василий, хотя годами был помоложе, выглядел изношеннее: черты лица помельче, стершиеся, и сам пожиже, и одет позатрапезнее.
Выпили еще маленько. Водка никого не брала. Она вообще – Артамонов замечал – в напряженные моменты жизни не хмелит, отупляет только и тем поддерживает.
– Петрович, а помнишь, как мы с тобой когда-то сиживали? – спросил дядя Василий. – Ох, и говорили! Всю жизнь, бывало, переберем.
Это было, верно. Давно очень, в студенческие годы Артамонова. Дядя Василий, когда Артамонов приезжал на каникулы, непременно зазывал племянника к себе, брал «белоголовку», и просиживали они над этой бутылкой до петухов. Молодой тогда еще дядя Василий был азартнейшим спорщиком, человеком обостренной любознательности и дотошности. Во всем ему хотелось разобраться: и в жизни, и в политике – внутренней и международной, и в истории, и в будущем человечества. Артамонова он заманивал, чтобы попытать: как на этот счет молодежь думает, передовое студенчество? Уважал в племяннике человека, по его мнению, грамотного, начитанного: Артамонов, как-никак, первым вроде прикоснулся к высшему образованию.
– Ну дак ты ведь политиком был тогда, – усмехнулся дядя Гоша. – Все переживал, что врагов народа мало переловили.
Это был удар под ребро. Дядя Василий, точно, к врагам народа большой счет предъявлял. В сорок первом году пришлось ему тяжело отступать, несколько раз попадал он в окружение и во всех тогдашних бедах винил исключительно врагов народа.
– Зато ты, Георгий Спиридонович, теперь у нас политик, – огрызнулся он. И повернулся к Артамонову. – Он знаешь, до чего додумался, Тимофей? Седой своей башкой? Заявляет, что запросто смог бы… ну, это… ты понимаешь, – дядя Василий подмигнул выцветшим голубым глазом.
– Да ты не мигай, – сказал дядя Гоша. – Говори прямо. Я ведь тоже партейный, я не боюсь. Я сроду ни черта не боялся. – Хвастлив был дядя Гоша по-прежнему.
– В общем, – понизил голос дядя Василий, – говорит, старый дурак, что государством сумел бы управлять. А? Как тебе это?
– А что, – хмыкнул дядя Гоша, – прынца какого-нибудь встренуть… Миллионера американского. Что я – американцев не видел? Я на них насмотрелся, когда с союзниками в сорок пятом соединились. Там, может, и прынцы были. Черт их разберет.
– Bo! – уставил на него палец дядя Василий. – Слышишь?.. «Прынца»… «встренуть»… А вопрос решить – всенародный? А выступление сделать? С Картером каким-нибудь поговорить?.. У тебя какое образование? Три класса – четвертый коридор!..
– Во-первых, ты меня не снижай, – сказал дядя Гоша. – У меня школа мастеров сталеварения – раз! – Он загнул палец. – Жизненный опыт. Война. Руководящая работа…
Дядя Василий заерзал на стуле:
– Руководящая! Хо-хо! Бригадир грузчиков – вот твой потолок. Над десятью пьянчужками покомандовал.
– Бригадиру тоже голову надо иметь… А насчет выступления – дак что я, выступления не составлю? Мне только – чтобы ошибки кто поправил. Вон Тимофея возьму в секретари. Как, Тимофей, пойдешь?
– Нет, дядя Гоша, – уклонился Артамонов. – Я не гожусь.
– Но-но! Брось. Я ведь газеты тоже просматриваю, и свои, и центральные. Натыкаюсь, случается, на твои статейки. Подходяще пишешь. Кому как, а мне бы сгодился… Другое дело, что тебе, может, в секретари зазорно. Дак они так и не называются. Называется – помощник.
Такого оборота дядя Василий не ждал. Не предполагал, что у шурина все рассчитано. Особенно его подрезала ссылка на Артамонова. С племянником дядя Вася сам, еще лет двадцать пять назад, государственные проблемы разрешал. И вроде вполне успешно.
А дядя Гоша поднатужился и добил его:
– Ну-ка, вспомни, Василий Анисимович, кто сказал: у нас кажная кухарка сможет научиться государством управлять? Кухарка!.. А у меня, как-никак, школа мастеров сталеварения…
Дядя Василий решил все же не сдаваться:
– Ну ладно. Допустим. А характер? Характер у тебя, старого долбака, какой? Ты же как чуть что – сразу за грудки. Во, представляю: американского миллионера – за грудки! Вот он обрадуется!.. А ты ведь сгребешь. У тебя не заржавеет.
– А что, дядя Гоша? – заинтересовался Артамонов. – Есть еще силенка? Все, поди, дерешься? Или перестал?
Дядя Гоша всю жизнь был очень сильным мужиком. С виду не здоровяк, но сухопарый, жилистый, перевитый тугими мускулами – железный прямо. И подраться любил, не упускал случая. А если не подраться, то хоть силой померяться. То наперегонки с кем-нибудь бежать ударится, то подобьет мужиков ось от вагонетки выжимать – кто больше. Однажды привязался к Артамонову – тоже во время студенческих каникул: «Слухай, ты боксер, да? Сколького там разряда-то?.. Давай цокнемся на пробу, раз ты меня, раз я тебя. Давай, а? Я заслоняться не буду. Только по лицу, договоримся, не бить».
Артамонов, дурачок молодой, согласился. Да они еще выпили маленько за встречу – так-то, может, и в голову не взбрело.
Он попрыгал перед дядькой, ткнул его снизу, под дых. Дядя Гоша хэкнул, половил ртом воздух – прозевался. «Ну, теперь держись – я тебя», – и сунул племянника кулаком в грудь. Артамонов вышиб спиной избяную дверь и, кувыркаясь, улетел в сени.
– Да какой я теперь драчун, – сказал дядя Гоша. – Отмахался… Хотя был недавно случай. После работы загорелось мужикам выпить. Скинулись по рублю. Ну, я тоже рубль дал. Сбегали, принесли три бутылки красного. Выпили по стакану – мало. Давай еще. А я им: хватит, ребята, шабаш. Я на дежурстве, у меня база, материальные ценности. И вам домой пора. Здесь не ресторан – до ночи гулять. Ну, один молодой парень, электросварщик, дурковатый такой, попер на меня буром: ах ты, пень трухлявый, я те щас!.. А я на ящике сидел, спиной к оградке – оградка там у нас железная, сварная. Как я повернулся к оградке-то, ухватил рукой один прут – так в двух местах сварку и оторвал!..
Артамонов скорчился, затрясся молча. Громко смеяться было нельзя.
– Ну, дядя Гоша, – сказал он, утирая слезы. – Если ты сварку в двух местах еще оторвать можешь, то с государственной машиной подавно справишься. Ты ее за неделю по винтикам раскатаешь.
Шутка его примирила спорщиков. Поверженный было дядя Василий воспрянул.
– Это точно! В таком смысле справятся. Ломать – не строить: душа не болит. Верно говорю, Георгий Спиридонович?
И дядя Гоша, посмеиваясь, согласился:
– Ломать, конечно, не строить…
Про мать они тоже поговорили – не смогли уйти от этого.
– Ты прости, Тимофей Петрович, – толковал Артамонову дядя Василий (он любил ко всем обращаться по отчеству). – Папка твой, конечно, хороший человек был, душа-человек, и мы с ним крепко дружили, вот Георгий Спиридонович не даст соврать. Но – не подумай, что я как родной брат, – в доме у вас головой все же мать была.
– А у него чья голова? – попробовал возразить дядя Гоша, кивнув на Артамонова. – Он же вылитый отец. Я другой раз гляну на него и аж вздрогну – Петро!
– Да я не про ту голову, Георгий Спиридонович. Я же иносказательно. Разве же отец глупый мужик был? Кто это может сказать? Я про то, что голова! Характер! На ней все держалось, и тут ты спорить не можешь… А почему – знаешь? – Это уже Артамонову. – Эх, если б ты всю ее жизнь знал, с малолетства! Такое ни в одной книжке не прочитаешь…
Шла вторая бессонная ночь.
Артамонова словно выдубили. Было ощущение, что остались только кости да кожа (он прямо физически чувствовал, как обтягивала она скулы, челюсти) – и какая-то утрамбованная, утоптанная пустота внутри.
Константин и Миха давно спали в Ольгиной комнате. Увела тетя Маруся туда же заслабевшего от водочки дядю Василия (он всегда-то на нее не шибко крепкий был). Сморился и дядя Гоша.
Артамонов же все бодрствовал. Долго еще пил чай с Оксаной и сестрою – теперь они заняли оставленную мужчинами кухню.
Наконец женщины его уговорили: ложись поспи – сколько можно?
– Я тебе в маминой комнате на кровати постелила, – сказала сестра.
– Не надо, – твердо отказался Артамонов. – Кровать вам с Оксаной.
Ему правда не нужна была кровать в состоянии этой невесомости. Он бросил в простеночке, в закуте перед Ольгиной комнатой, свой кожушок, на нем и свернулся.
…И начался их самый трудный день.
Начался он с ударившего внезапно дурного крика, причитаний.
Артамонов очумело вскочил. Не понял со сна: где он? что с ним?..
А это, оказывается, соседская тетка пришла попрощаться с бабой Кланей. Ей, видите ли, на работу надо было с утра, к выносу она никак не поспевала, ну и решила отреветь свое в половине седьмого утра… Это когда в доме только в половине пятого все кое-как угомонились, растыкались по углам.
Артамонов завел на кухню Оксану и решительно сказал:
– Вот что, женка, бери все в свои руки. Сейчас пойдут: родственницы десятиюродные – их тут пруд пруди, я не то что по именам, по фамилиям не всех помню, – соседки, подружки. Им для приличия откричаться надо, а Таську они нам угробят. Да и мы тоже не железные… Так что лови их прямо в коридоре, в дверях. Стой как цербер – весь грех на мне.
И Оксана встала… Родственницы, не знавшие вторую жену Артамонова в лицо, соседские бабки аж крестились, чуть ли не отплевывались, да нельзя было плевать: что за баба такая? Откуда взялась? Вот нечистая сила – и попричитать не дает!
Плач, причитания все же время от времени прорывались, хотя в комнате старух перехватывала приемная дочь дяди Гоши Ирина, тоже настропаленная Артамоновым. И всякий раз участницей этих надрывных сцен оказывалась сестра. Она оделась во все черное (откуда взяла?) – вдова, да и только. Анастасия словно вину какую перед матерью отмаливала. А в чем она, вина-то? В том, что в деревню ее отпустила? Нет. Это случайность, совпадение. Вина их всех перед матерью – великая! – в чем-то другом, что не выскажешь словами, умом даже не охватишь. И эту вину нельзя отмолить, отплакать. С ней жить предстоит.
Артамонов к тому же должен был встречать приходящих – как старший сын и вроде теперь хозяин. Сестра, конечно, была тут главной, и дом был ее, но она совсем выключилась со своей скорбью.
Артамонов встречал, здоровался, выслушивал соболезнования:
– Ой, Тима!.. Никак ты? … И не узнала бы. Ведь я тебя вот такого… А ты, глянь-ко, седой уж весь, белый… Мамка-то, а?.. Вот оно как – живем, живем… Горюшко-то какое, Тима…
В общем, к обеду Артамонова заколотило.
Он махнул на все рукой, ушел в комнату к молодежи: племянница Ольга, какая-то подружка ее институтская, Миха сидели там, курили, в комнате было уже не продохнуть.
Заскочила следом Ирина. Она – молодец, энергичная женщина – за всеми доглядывала: как? что? не надо ли чего? Увидела, как Артамонов спичкой по коробку промахивается, достала парочку каких-то таблеток.
– Ну-ка, братец, проглоти.
– Что это? – спросил Артамонов.
– Давай, давай – не бойся. Таблетки равнодушия – я их так называю. Я, Тима, со своим оболтусом совсем уже психушкой стала. Пошла, сдалась врачам. Вот, выписали. Теперь он придет вечером, развыступается – а я наглотаюсь этих таблеток и гляжу на него, как… корова выдоенная. До фени все!
Артамонов проглотил таблетки. Минут через пятнадцать правда ощутил дремотное равнодушие. О чем-то говорили Миха с Ольгой (он не прислушивался), плавал слоями табачный дым, и Артамонову казалось, что он тоже плывет в этом дыму.
Тут пришло время выносить гроб, залетели в комнату дядьки, раскудахтались, размахались руками:
– Тимофей, что же ты сидишь?.. Надоть чевой-то делать!
Артамонов смотрел на них сквозь дрему и спокойно думал: «Старые дядьки стали. Старики. Бестолковщина. В таком простом деле распорядиться не могут».
Старики напрасно гнали волну. Коля Тюнин и дяди-Васины сыновья все уже наладили. Подоспел, кстати, и «оболтус» Ирины. Маленько, правда, под газом, но деловитый, сосредоточенный. Он в иные моменты мог проявиться мужиком собранным, решительным, умелым. Чем и покорил когда-то Ирину.
Вот когда Артамонов понял мудрость народного обычая: дети в такой день должны оставаться только зрителями. Если за все хвататься самому – просто не вынесешь.
…Потом было кладбище. Снова толкотня, многолюдность. Это опять же сестра распорядилась: заказала в постройкоме, где работала главбухом, два автобуса – всех привезли, даже немощных, полуходячих.
Только и расступился народ, когда дети пошли с последним целованием.
Гроб стоял на табуретках, возле свежей могилы. А рядом, в этой же оградке, разобранной сейчас с одного боку, насыпан был старый холмик. И на нем – пирамидка со звездочкой. И выцветшая фотография отца.
Артамонов прислонился щекой к холодному лбу матери.
Забыл снять шапку. Кто-то, сзади, снял. «Переселяйся, – сказал Артамонов. – Пожалуйста, переселяйся…»
Тут ему застучала костылем по спине тетя Груня, бог знает какого колена родственница:
– Гражданин, гражданин! Хватить! Дайте сродственникам проститься!
Полуслепая была тетя Груня – уже много лет, выжившая из ума, всех называла «гражданин», даже собственного мужа. Полезла прощаться, оступилась, чуть не сверзилась в могилу. Бдительный Иринин муж успел поймать ее за шиворот.
Артамонов незаметно сунул под язык таблетку валидола, побрел куда-то между могилами, загребая валенками снег.
Потом остановился. Вспомнил: «Миха… Миха-то как там?..»
И вернулся.
Миха совсем скис. Стоял, упрятав подбородок в шарф, горбился. Первые это были в его жизни похороны…
Оксана рядом – раньше Артамонова сообразила – кутала ему грудь, что-то говорила тихо.
Артамонов подошел к ним. Они стояли в отдалении от всех, и Артамонов остро почувствовал их состояние: посторонние, неприкаянные. Он тоже заговорил. Чувствовал – требуются какие-то слова. «Надо перетерпеть все это, – говорил он. – Вот этот самый момент. Момент отчуждения. Она сейчас не с нами, что делать. Она была нашей и будет еще – потом, завтра, всегда. А сейчас она принадлежит не нам, а всем этим близким и неблизким людям, необходимому ритуалу… Надо перетерпеть…»
Он говорил, а за словами, рядом с ними вставала мысль: ну, вот и все… все. Шлагбаум открыт. Впереди «последняя прямая». Жизнь представилась ему длинной цепью, у которой вот сейчас отпало переднее звено. Теперь он сам это переднее звено. За ним – другие: скукожившийся, жалкий Миха, дочка, их будущие дети. Там не видно края – в неясность, в туман, мельчая, уходит цепь. А здесь, резко, – обрыв. И тянуть, тянуть эту цепь, пока не споткнешься, не упадешь… Мать потому так долго держалась за жизнь – старая, изболевшаяся, – что заслоняла детей. Вот именно – заслоняя собою…
На другой день после похорон Артамоновы делили материнское наследство. Делила, по праву старшей, сестра. Она же где-то и разузнала про этот обычай: после смерти человека полагается каждому из близких отдать какую-то его вещь. Себе сестра взяла вязаную кофту. Дочери ее, племяннице Артамонова, достались маленькие серебряные сережки, которые мать, проколов когда-то давно уши, так ни разу и не надела. Оксана получила кашемировый цветной платок. Миха – любимую книгу бабушки, роман «Жизнь Нины Камышиной» писательницы Елены Коронатовой.
Наконец сестра сказала:
– А это, Тима, тебе, – и двумя руками, как-то уж очень торжественно, протянула ему толстую тетрадь в черных дерматиновых корочках.
Вот когда Артамонов заплакал. Взял тетрадь, ушел на кухню, стоял там и молча плакал, сжимал прыгающие губы – не мог удержать…
Он знал, что в этой тетради. Не понимал только – когда же она успела-то?
Примерно с год назад он приезжал к брату в деревню. Мать тогда жила у Константина. Приехал он не один, с товарищем, местным, новокузнецким, журналистом. Ну, истопили баньку, попарились, сели за стол. Мать – она в тот раз неплохо себя чувствовала – расхрабрилась, выпила с мужчинами рюмочку. Оживилась, похорошела даже как-то. Она вообще обладала способностью – природной, не намеренной – легко меняться. С ровней, с бабами, старухами – одна. А в кругу людей потоньше (хотя в чем она, тонкость-то? Ну хотя бы так сказать – пограмотнее) вдруг подтянется, построжеет – прямо этакая комсомолка двадцатых годов. Еще волосы ей, теперь уж совсем белые, помогали: она всегда носила городскую короткую стрижку.
Журналист, бойкий человек (матери он сразу начал говорить «мамуля»), принялся нахваливать хозяйские разносолы.
Мать заскромничала:
– Да какое уж тут угощение. Это вам в охотку. Да после баньки, после стопочки. Мы, сынок милый, люди не богатые. Никогда и не были богатыми-то. С отцом-покойником ничего не накопили и детей этому не сумели научить.
Журналист, от изумления будто бы, даже вилку положил. И вскинул подбородок. Это он очень хорошо сыграл.
– Кто бедный? Ты, мамуля, бедная?.. Да ты же богачка! Твое богатство ни в какие шифоньеры не упрячешь. Вот оно, вокруг тебя! – Он повел рукою. – Смотри, каких орлов воспитала? – («Орлы», правда, сидели сутулились – один доходнее другого. Но гостя распирало великодушие.) – Твоего Тимофея вон за границей даже читают. В Испании! Ты хоть знаешь про это?.. А Константин? Первый здесь человек. Не смейся, не смейся – первый! Ты думаешь, председатель первый? Нет – он! – Журналист картинно указал на Константина. – Он разумное сеет. Из хулиганья здешнего людей делает. Я вон видел, как с ним на улице-то… каждый встречный – мое почтение!..
Это матери было маслом по сердцу. Она возгордилась.
– На детей я не погрешу. Они меня не обижают. И люди к ним хорошо относятся. Ко мне тут недавно – я в городе была, у дочери – Семейничиха забежала, соседка бывшая. «Ой, Анисимовна! Это не про твово ли Тимку нонче по радио говорили? Не поняла, чо говорили, а вроде как про твово». Про моего, говорю, наверное, что ж тут такого. Про него плохого не скажут – я не опасаюсь… А это не твой ли, спрашиваю, Ванечка возле милиции на портрете висит: разыскивается злостный рецидивист?.. То-то ты ему, мокроносому, все потакала: огурцов с чужой грядки надрал – молодец, Ванечка; овцу колхозную, зарезанную, привезли с дружками под черемшой (за черемшой, видишь, поехали) – давай сюда и овцу… Нет, я своим потачки не давала…
Мать села на любимого конька. К старости это все чаще стало с ней случаться. Артамонов крутил головой: сочинила, наверное, про радио. Что-то он не помнил никакой передачи. Разве только о книжке информация проскочила. И друг хорош – в Испанию его метнул.
Чтобы перевести разговор и отвлечь внимание от своей персоны, он, усмехнувшись, сказал:
– Мать у нас героическая… Ты знаешь, ведь она жизнеописание свое составляет. Специально для меня.
Это было правдой. Мать ему как-то созналась: «Я, Тима, тебе про свою жизнь пишу. Уж много написала. Как раньше жили, как бедовали – все подряд, голимую правду. А то помру, а тебе, может, пригодится что…»
Товарищ начинание матери горячо одобрил. Про связь поколений заговорил, про ответственность литераторов перед правдой жизни.
А мать вдруг огорошила Артамонова.
– Я, Тима, сожгла ведь писанину-то свою. Почти две общих тетрадки написала – и сожгла.
– Как… сожгла? – Артамонов даже привстал. Он когда-то, посмеиваясь внутренне над ее затеей, снисходительно сказал: «Пиши, пиши, мать. Глядишь, опубликуем твои мемуары». Но она серьезно взялась. И сестра ему, при случае, заговорщицки сообщала: «Мать-то… пишет». И теперь он представил, как сгорел в огне этот многолетний труд. Труд – а что же еще! И какой! Мать никогда в школу не ходила, самоучкой осилила грамоту, писала как слышала, безо всякой грамматики, даже точек и запятых не знала – отделяла мысль от мысли вертикальными черточками. Да разве в этом только труд! Ведь это же… снова все пережить, перечувствовать, над каждой строчкой слезами облиться: уж он-то знал, как они, строчки, даются… С ума сойти!
– Да они у меня на телевизоре лежали, – стала оправдываться мать, – а Танюшка добралась (речь шла о младшей девчонке брата), ну и разрисовала все красным карандашом. Я тебе их такие-то постеснялась отдавать, испорченные.
– Мать, да ты… – Артамонов чуть не ляпнул «сдурела». – Ты понимаешь, что натворила? Да неужели бы я под ее каракулями твои не разобрал? Да я бы стекло взял увеличительное… Сожгла – а! Ты подумай! Гоголь, понимаешь… Николай Васильевич. Да что вы, ей-богу, за люди за такие, что за порода?
Он искренне расстроился.
Мать сидела как виноватая девчонка.
– Тим, – попросила робко. – Да ты не убивайся – я снова напишу.
– Да, старик, чего уж ты так! – бодро хлопнул его по плечу товарищ. – Мамуля опять напишет. Напишем, мамуля, а?
«Напишет… – подумал Артамонов. – Когда-а?!»
И вот она – новая тетрадь – в руках у Артамонова. Необыкновенное и дорогое материнское наследство. Значит, писала, выводила свои закорючки. В этот-то год! Когда здоровой была считаные дни. У брата уже не смогла жить, попросила отвезти ее в городскую квартиру, к Анастасии. «Запаршивите вы здесь без меня со своей оравой, – сказала, – но нет больше сил. Оттопталась, видно».
Артамонов сманивал ее к себе, звонил несколько раз по телефону, уговаривал. Не в гости сманивал – пожить подольше. Тоже отказалась: «Не могу, сынка. Отъездилась. Не ходят ножки-то…»
А вот писала, помнила о нем. Уму непостижимо!..
* * *
Раскрыл тетрадь Артамонов только дома. Дождался, когда все разошлись: жена – на работу, Полинка – в школу, положил ее на журнальный столик, предварительно смахнув с него пыль, накопившуюся за дни их отсутствия… Не сразу начал читать: курил, очки протирал – волновался чего-то.
«Воспоминания о своих прошлых лет, – так называлось материнское сочинение. И дальше – без точки, без запятой, не с “красной” строки: – родилась я под Тулой как раньше называли Росея детства мое было очинь трудное да в то время и родителям моим жилось нислатка как рассказывала моя бабушка маево отца мать щас то мы говорит харашо живем мы вить вольнаи хоть и работаим у барина а вот мои родители были крипосные да спасибо нашему барину его дет выиграл в карты все имения и давал обищание если выиграю то всех распущу крипосных так и получилось что Еременко выиграл у Быкова все имения и всех распустил…»
Артамонов привычно начал «править» текст – мысленно: выпрямлять слова, знаки препинания расставлять.
«…В четырнадцатом году отца взяли на войну. А мама до конца работала у помещика. Даже мне пришлось поработать. Пололи грядки, оббирали яблоки. Платили нам 5 копеек в день. Когда помещику пригнали пленных, мама стала кухаркой, варила им. Тогда нам стало сытней. Немцы кашу пшенную не ели, говорили – у них ею куриц кормят. Вот мама принесет ведро – мы два дня сытые…»
«…Начались брожения на фронте, стали какие-то чудаки в казармах появляться. Вот мой папа в одно прекрасное время и увел всех солдат в лес – с оружием. Его должность была унтер-офицер, он грамоте учился. Не знаю, сколько их там было, слышала, что две казармы увели они в лес с Николаем Улыбиным. Тут вскоре началась революция…»
«…Вот как-то ночью я проснулась, слышу разговор матери и отца:
– А ты, мать, ребятишек пошли.
– Господи, Анисим, какие они вам помощники!
– Ничего, мать, – самые надежные.
А я сижу на кровати. Он меня обнял, поцеловал: “Что ж ты не спишь, дочка? ” Потом всех ребят стал целовать – сонных. И ушел.
Я спросила:
– Мам, куда папка ушел?
– На войну, детка.
– А разве война близко?
– Близко, доченька…»
«…Стали мы с братом Петром ходить по деревням, узнавать, где стоят деникинцы. Ходили, просили милостыню – кто что даст, собаки нас рвали. Но узнаем, в какой деревне деникинцы, – и в лес, до условного места. Брат Петро свистел очень хорошо, как соловей. Вот он свистнет, выйдет к нам дяденька знакомый, мы ему расскажем, как что, а он нам – корзинку грибов…»
«…А часа через два явились к нам деникинцы, начали маму спрашивать: “Где муж? ” Мама говорит: “Не знаю. Как взяли на войну – так больше и не видела”. – “Врешь, такая-рассекая! ” Стали маму бить. Мы все, ребятишки, в крик. А нас не мало было – пять человек. Они и нас плетью: “Замолчите, щенята!..”»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.