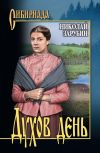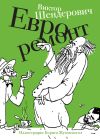Текст книги "Рассказы о прежней жизни (сборник)"

Автор книги: Николай Самохин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
А Полинка встала, теперь уже и в самом деле растерянная, и вышла из комнаты.
Остались на тумбочке баночки-скляночки.
Утром к нам пожаловала комендантша. Мы еще лежали под одеялами. Правда, Женька и Алексеич уже с книжками в руках.
– Долго спите, молодежь, – физкультурным голосом сказала комендантша и прицелилась глазом на Женькин «Беломор». – Не возражаете? – решительно вытряхнула она последнюю папиросу.
Женька не стал возражать.
– Кто староста комнаты? – спросила комендантша, прикуривая.
Староста был я.
– А который из вас Агарков?
Агарков тоже был я.
– Сдадите постель кастелянше, Агарков, – сказала она, – с одиннадцати до часу.
И вышла. Осталось только перистое облачко дыма.
– Как сон, как утренний туман, – сказал Женька.
Я встал и начал одеваться. Ребята почему-то вели себя абсолютно спокойно. Ни гу-гу. Только когда я взялся за дверную ручку, Алексеич заметил ласковым голосом:
– За документами, Митя, рановато.
– Ничего, – бодро сказал я. – Подышу воздухом.
В скверике, на полукруглой площадке, спиной к цветнику стояла вчерашняя девчонка. А перед ней на скамейке сидело… раз, два, три, четыре, пять. Мамочка! Шесть парней. Вот это свита! Где только они вчера были, голубчики?
Девчонка, видимо, держала свой секстет в строгости. Дирижируя худенькой ручкой, она читала им книгу, и рыцари преданно смотрели ей в рот. Между прочим, косы у нее оказались не темно-русыми, как мне показалось в сумерках, а классически каштановыми, если, конечно, этот цвет так назывался. А глаза – классически голубыми.
– Здравствуйте, – приветливо сказала она. – Хотите с нами заниматься? У нас бригада.
– Гутен морген! – ответил я. – Нет, спасибо. У меня собственный метод. Индивидуальный.
– Вы, наверное, уже приготовились? – вздохнула девчонка.
– Да-а, в основном. Прогнал на четыре раза.
Парни смотрели на меня, как вьючные мулы на своего необъезженного собрата.
Я сделал ручкой и с независимым видом зашагал прочь.
– Кому непонятно, мальчики? – скучным голосом спросила за моей спиной девчонка.
Я ушел в глубину сквера, выбрал скамейку, достал из кармана справочник для поступающих, лист чистой бумаги и принялся решать невеселый кроссворд. Выписал все здешние институты, с адресами и факультетами. Торопиться мне было некуда, и я красиво выводил:
1. Инженерно-строительный
а) архитектурный,
б) ПГС,
в) гидротехнический,
г) канализация и водоснабжение.
Потом стал вычеркивать. Исключил педагогический, загадочный НИИГАиК. Поставил большой жирный крест на водном. Скоро незачеркнутыми остались два слова: инженерно-строительный, гидротехнический.
Здесь, в дальнем уголке скверика, уже можно было заметить, как рождается осень. Один желтый лист, а может, он был ближе к оранжевому, даже сорвался и, перевернувшись несколько раз, стукнулся о дорожку зубчатым своим боком. И сразу на том месте, где он висел, образовалась дырочка, и в нее стало видно одно из институтских окон. Я прикинул по вертикали – приблизительно пятый этаж. На четвертом и пятом – общежитие. Прикинул по горизонтали – получилось, что окно Полинкино. Я постарался не шевелить головой – откроется окно или нет?
Какой-то проспавший утренний холодок парень делал обстоятельную зарядку. Он пробежал мимо меня, высоко и правильно вскидывая бедро. Потом еще раз. Окно все не открывалось. Парень закончил третий круг. Выдыхательно помахал руками, сел рядом.
Заглянул в мой листочек и громко сказал:
– В строительный документы уже не принимают. Я знаю, у меня туда кореш поступает…
Я промолчал.
– А на гидрофак – тем более, – добавил он. – Там конкурс – шесть человек.
Я зачеркнул последние два слова и поднялся. Теперь было вполне не рано забирать документы.
В комнате приемной комиссии сидела только секретарша, та самая, с золотыми нашивками на рукаве.
– Агарков, Агарков, – сказала она. – Что-то такое, не могу вспомнить… Да! Вас просили зайти в деканат.
– Ничего не понимаю, – сердито сказал декан. – Вы же почти круглый отличник – и забираете документы. Передумали? Так у нас другие факультеты есть. Да и поздно передумывать.
Я объяснил ему, в чем дело. Декан слушал, приговаривая «так-так», и вроде веселел. Потом, неожиданно переходя на «ты», спросил:
– Что ж, черное от белого не отличаешь?
– Черное от белого отличаю, – сказал я.
– Какой цвет? – вдруг ткнул он кривым мундштуком трубки в карту, прямо в Советский Союз.
– Красный.
– А это? – Он поднял авторучку.
– Голубой.
– А лысина моя какого цвета? – закричал декан.
– Голова у вас розовая, – сказал я.
– Голова! – фыркнул декан. – Какого же они черта!..
Я пояснил, что путаюсь только в оттенках.
– Ишь ты, – явно издеваясь, сказал декан. – Серьезный недостаток. А ну-ка, пойдемте к этой мадам.
Уже в коридоре он остановился и, больно взяв меня за руку, сказал:
– Кстати, дорогой, как будущему гидротехнику, вам надлежит запомнить: земснаряд никуда вести не надо. Это судно не управляемое, а буксируемое. Го-ло-ва!
…Алексеич зубрил физику.
– Ну? – отбросив учебник, спросил он. – Помог лысина?
– Мировой дядька! – сообщил я, не успев даже подумать, откуда он знает, что я был у декана. – Просто замечательный дядька!
– А ну-ка, какой цвет? – спросил Женька, поднимая синюю ученическую тетрадь.
– Черный цвет! Зеленый! Бутылочный! Серо-буро-малиновый! Черт полосатый! – Я повалил Женьку на кровать и начал дубасить кулаками по спине. – Коричневый! Бордовый!..
– Митя, – остановил меня Алексеич. – Побереги энергию. Физика послезавтра.
Да, послезавтра физика – первый экзамен.
А я не прочитал ни странички. И как раз по физике-то у меня четверка.
– Физик у нас, ребята, между прочим, был… Враг народа.
– Ого! – сказал Женька. – Школу поджег?
– Да нет. В тюрьме за что-то сидел. И вообще темная личность. Я ему на экзамене трансформатор сжег.
– Двойка? – спросил Женька.
– Нет, четверка.
– Ну какой же он враг народа? Это ты враг прогресса.
– Заткнитесь, – сказал Алексеич и встал.
И сразу половина комнаты стала полосатой из-за его тельняшки.
– Ты, Митя, когда последний раз шамал?
– Вчера утром.
– Вот, – покачал головой Алексеич, – видали йога? Давай за Полинкой – и в столовую. Ну что ты окаменел, генеральский зять? Давай, давай, она же еще ничего не знает. Да есть у тебя совесть или нет?
И чуть не выдвинул меня за дверь вместе с кроватью, за которую я уцепился.
Наверное, это был такой счастливый день. Полина первым делом обследовала мое ухо.
– Распухло. Будешь еще гулять с посторонними красавицами?
– Ладно, – сказал я. – Довожу до сведения: был у декана…
– Он был, – дернула плечом Полинка. – Да Алексеич и Женя еще вчера к нему ходили. Сразу же, перед цирком. Съел?
Я съел. Проглотил не пережевывая. Ну хватит! Идиотских положений больше не будет. Отходил в несчастненьких. Оттенки кончились. Начинаются основные цвета – экзамены.
V
– Хорошо-о! – говорит Алексеич с какой-то зябкой бодростью, словно только что выскочил из-под холодного душа. – Ух, хорошо.
Хорошо… Впрочем, у него-то не совсем. У него – посредственно. У меня – отлично. Мы с ним сдали физику. Женька с Полинкой написали сочинение. Они в другом потоке.
Мы сейчас все в одном потоке – в уличном. Мы шагаем легко и четко, как на параде, и милиционеры сигналят нам полосатыми, как Алексеичева тельняшка, жезлами: путь открыт!
Все пути открыты! Все дороги ясны. Прав Алексеич: хорошо жить на свете! Только… Только впереди идет Полинка – узкоплечая, стройная, с тонкими, изящными, как у танцовщицы, руками. Она знает, что мы смотрим на нее, и дурачится. Надела мохнатую кепку Алексеича, чуть пританцовывает на ходу и через плечо улыбается нам, морща нос.
– Ах, ребятишки, ребятишки, – совсем уж растроганно бормочет Алексеич и обнимает меня за плечи. – Никогда больше не ссорьтесь. Слышишь, Митя?
Ах, милый человек, Алексеич! Неужели он совсем ничего не замечает? Не видит, как все дальше и дальше уходит от меня Полинка?
«Женя рассказывал… Женя считает… Женя передумал… Женя, Женя, Женя!» – без счета повторяет она. Просто удивительно, когда успел молчальник Женька рассказать ей столько историй, высказать столько мнений, обнаружить столько желаний?
Я осторожно высвободил плечо из-под тяжелой руки Алексеича. Успокойтесь, дорогой товарищ Черданцев! Кажется, мы никогда больше не поссоримся.
В кинотеатре Полинка вдруг закапризничала.
– Ты сядешь рядом со мной, – сказала она.
– Мне и здесь хорошо, – ответил я, оставляя между нами Женьку и потом Алексеича.
– Нет, ты сядешь с этой стороны. – Полинка бросила кепку на крайнее кресло. – Вот сюда.
Наступило замешательство. Ребята стояли. Алексеич простодушно улыбался. На лице у него было написано совершенно определенно: ну что ж ты, чудак, ломаешься? Женька, как и я, понял, наверное, смысл этой вспышки. Он терпеливо ждал, слишком пристально рассматривая экран.
Я обошел ряд кругом, поднял кепку, сел и сказал как мог просто:
– С Алексеичем бы я мнениями обменивался по ходу. Не люблю, понимаешь, молча смотреть.
– А? – повернулась Полинка. – Мнениями? Поговоришь со мной…
Жужжит за спиной движок. Тянется через весь зал тоненький желтый лучик. На экране мужественный человек красиво любит растерявшуюся, беспомощную женщину. А если скосить глаза чуть в сторону, то можно разглядеть, как в темноте встретились их руки.
«Хорошо поговорили», – думаю я и незаметно вытираю слезы мохнатой кепкой Алексеича.
– Побродим? – предлагает Женька и переводит ожидающий взгляд с меня на Алексеича.
– Нет, – говорит Алексеич. – Я на боковую. Эх, и спать же буду сегодня!
Полинка смотрит вниз, молчит и вращает туфельку, словно растирая что-то на асфальте. Они стоят близко друг к другу, напротив нас, и я чувствую, как вырастает между нами стенка, по неписаным законам которой мне тоже полагается зевнуть и присоединиться к Алексеичу. Но я заставляю какую-то пружину внутри себя распрямиться, шагаю через вязкую пустоту, беру Полинку под руку.
– Побродим, – говорю я и твердо гляжу на Женьку.
Женька опускает глаза:
– Нет, пожалуй, и я – спать.
…Мы гуляем с Полинкой. Мы добросовестно обходим кругом институт. Девятьсот сорок восемь шагов. И ни одного слова. Второй такой круг я не выдержу. Я завою.
– Домой, Поля?
– Да.
Вот и кончился первый день экзаменов.
VI
Алексеич, оказывается, любит оперетту. Мы собрались на «Сильву». Он в этот день получил очередную тройку, но все равно до самого вечера насвистывал «Без женщин жить нельзя на свете, нет…».
– Оперетка вообще-то не первый сорт – хабаровская, – сияя, говорит он. – Ну ничего – зато оперный здешний посмотрим… «Сильва, ты меня не любишь!..»
К нам поселили четвертого. Его зовут Гена. Он из Якутии. Кажется, парень ничего. Тихий, розовощекий. Все хочет с нами подружиться. По вечерам организовывает чай. Приносит батоны, любительскую колбасу в прозрачной бумажной обертке и деньги не берет. Мне Гена одолжил пиджак. Увидел, что я натягиваю куртку, и сказал:
– Возьми надень.
Пиджак был только чуть-чуть узковат в плечах, а так подходящий. И еще Гена понацеплял для чего-то столько разных значков, что хватило бы четверым спортсменам. Я попробовал снять их. Нехорошо. Все лацканы в дырках. Привинтил обратно.
– Готов? – спросил Алексеич. – Силен! Полный георгиевский кавалер!
И тут вошел Женька. Прислонился плечом к косяку, будто в гостях, и сказал:
– Поговорить надо. Выйдем.
Я вышел.
– Не опоздайте! – крикнул Алексеич.
Женька-то не опоздает. Он в театр не идет. У него завтра математика.
– Ну говори, о чем хотел.
Женька шел молча, засунув руки в карманы. Мы спустились вниз, прошли через сквер, мимо поликлиники, оставили позади кино «Пионер». Женька сутулился и все прибавлял шагу.
– Может, за город пойдем? – спросил я, догоняя Женьку.
И тогда он остановился прямо на улице, в самом людном месте. Его зацепили плечом, толкнули в спину. Он не заметил.
Я не сразу понял, откуда у него веснушки. Крупные, отчетливые: стоит дунуть, и они посыпятся со щек.
Потом я сообразил: Женька просто бледный. Бледный как мел.
– Брось свою опеку, Митя, – тихо сказал Женька. – Слышишь?
Его еще раз толкнули, и он снова не заметил.
– Не ходи за ней больше. Она сама тебе не скажет. Не умеет она. И мучается. Понимаешь?
Она!
Тебя!
Не любит! – ударил он меня три раза.
Веснушки его вдруг поплыли у меня в глазах. Я повернулся и пошел в обратную сторону.
Женька догнал меня, схватил за рукав:
– Митя! Подожди. Ну что же делать? Встретишь другую девушку. Митька!
– Ладно! – сказал я. – Все! Не переживай! Квиты мы!
Он не понял.
– В расчете, – сказал я. – Два раунда по две минуты!
– Ах ты! – выдохнул Женька.
Я резко выдернул руку и прыгнул в трогающийся автобус…
В пустом автобусе гудит ветер. Встречные машины с коротким рявканьем проносятся мимо, словно выпущенные из пращи. Водитель включил радио на полную катушку и бьется о стекла, рыдает, взвизгивает на выбоинах вальс «Березка». А в открытом заднем окне кабины раскачивается пластмассовый Петрушка. На крашеном лице его застыла вечная бессмысленная улыбка.
Я сижу у открытого окна. Ножевой ветер полосует разгоряченное лицо, путает волосы, выжимает слезы из глаз.
…Ветер выжимает слезы из глаз, колется сахарным снегом, свистит в ушах. Я опускаюсь все ниже и ниже, совсем превращаюсь в маленький напряженный комок, только палки как крылья – в сторону и назад. Стремительно вырастают передо мной заиндевелые кусты боярышника, мчатся навстречу первые дома улиц. И вот я уже не птица, а снаряд. Сейчас я пробью коричневую стену сарая, дом и густой штакетник. Я распрямляюсь, резко бросаю тело вправо – и широкая, ровная улица распахивается мне навстречу.
Возле своего дома стоит бледная, закутанная в шаль Полинка, держится рукой в синей варежке за ограду и говорит:
– Здравствуй. Ты почему так долго не был? А я болела. Целую неделю.
…Я болею. Сижу на заборе маленького заводского стадиона и смотрю, как пожилые ферросплавщики играют в городки со строителями. Они пораздевались до маек, лица у них медные, а руки молочные, незагоревшие. Ферросплавщики расставляют ноги в широченных штанах, деловито щурятся и бьют с одного раза «бабку в окошке», «самолет» и «колодец».
– О! Но ведь это же Агарков! – раздается вдруг за моей спиной.
Я оборачиваюсь и вижу нашу немку Клару Ивановну Бер.
– Гутен таг, Клара Ивановна! – машинально здороваюсь я.
– Что вы здесь делаете? – с недоумением спрашивает немка.
– Болею.
– О-о! – И Клара Ивановна делает круглые глаза.
Вероятно, она решает, что я сошел с ума.
А рядом с нею почему-то стоит Полинка и беззвучно смеется, закинув голову.
…Полинка смеется и быстро-быстро крутит педали.
После поворота я обхожу ее и кричу:
– Ближе к бровке! Ближе! Смотри, как я!
Нас обгоняют МАЗы с абашевским углем. Они оглушительно ревут и, протягивая из-за наших плеч по два желтых луча, далеко впереди высвечивают дорогу. И вдруг у самого края ее – частые наплавы асфальта. Я не успеваю крикнуть. Меня начинает подбрасывать на седле, а руль рвется из рук. «Вот сейчас…» – успеваю подумать я и в этот момент слышу за спиной металлический треск…
Разорванным платком я перевязываю Полинке ссадину на колене. Совсем рядом белеет в темноте круглая, нежная нога. Можно прижаться к ней щекою. Нет, я только наклоняюсь чуть ниже. Еще совсем немножко. Вот если бы она погладила мне волосы. Почему она не погладит? Я так этого хочу!
…Мчится автобус, дребезжа стеклами. Пляшет под грустную мелодию неунывающий пластмассовый человек – Петрушка.
VII
Наконец понял все и Алексеич.
Я вернулся с тем же автобусом и до утра прошлялся по городу. Сначала я все ходил по главному проспекту. Пока не разбрелись последние гуляющие. Тогда на пустом, ярко освещенном проспекте стало неуютно, и я свернул в первую боковую улицу. Я не помню, сколько прошел их за ночь, потому что сначала шагал без разбора, а потом стал высматривать тихие и узкие улицы. Такие, где редкие фонари с трудом пробивали переплетающуюся листву, а от одного желтого круга до другого тянулись прохладные тоннели. В тоннелях были особенно звонкие тротуары.
Иногда я садился на низенькие оградки и курил одну, вторую и третью папиросу. В одном таком месте я задремал и проснулся оттого, что надо мной стоял человек и просил спичку. Я дал ему прикурить.
Мужчина поежился и спросил:
– Прохладно?
– Не знаю, – ответил я. – По-моему, нет.
– Прохладно, прохладно, – сказал мужчина и ушел, спрятав руки в карманы.
Под утро я немного заблудился и вышел к институту с непривычной стороны. Я перелез через металлическую ограду. Верхние окна института плавились под солнцем. А низ его и весь сквер были еще в тени. На пустой аллее какие-то парни, показавшиеся мне необыкновенно высокими, старательно делали зарядку. С одной из скамеек поднялся Алексеич и шагнул мне навстречу.
– Ты где пропадал, дурной? – спросил Алексеич.
И по его лицу было видно, что он обо всем догадался или ему рассказали.
– Переведусь в другой институт, – сказал я. – Вот сдам последние и переведусь. Не могу я так больше.
– Ну и мысли тебе натощак приходят! – бодро сказал Алексеич. – На-ка вот расческу, распутай чупрыну и пошли шамать.
Совсем он не умеет притворяться, Алексеич. Будто я не вижу, как ему весело на самом деле. Я, конечно, пойду с ним. Наверняка он немало здесь просидел. Караулил меня, психа, переживал.
Мы пошли в самую раннюю на проспекте столовую. Еще минут пять ждали, пока откроется. За только что накрытыми столиками было пусто. Мы сели в уголок, к окну. Подошла молоденькая официантка с припухшими глазами. Видно, тоже совсем недавно прибежала на работу.
– Ну что, по стаканчику бы? – вопросительно посмотрел на меня Алексеич.
– Нельзя, – сурово сказала официантка. – Так рано не подаем.
Алексеич отвел ее в сторону и стал что-то шептать, показывая глазами в мою сторону.
Наверное, вид у меня был не очень жизнерадостный. Официантка сочувственно закивала головой и ушла за перегородку.
– Чего ты ей заливал? – спросил я вернувшегося Алексеича.
– Сказал, что бабушка твоя умерла, у которой ты с двух месяцев воспитывался. А мне тебя подготовить надо.
– Умерла бабушка, Алексеич! – усмехнулся я. – И готовить меня не надо. Я уже готов.
– Да ладно тебе, – сказал он. – Брось, честное слово.
Нам принесли по стакану красного вина и котлеты.
– Знаешь, Митя, – сказал Алексеич, когда мы выпили. – Если хочешь, я ее не одобряю. И его не одобряю. Но любовь я, Митя, одобряю. Мне объяснить трудно, я оратор плохой. Но ты поймешь, у тебя голова светлая. Ну вот помнишь, как ты нас отговаривал в связь поступать? Тогда у тебя слова нашлись, и все такое. И лицо у тебя горело, и красивый ты был. Мы ведь не пацаны, кое-что в жизни видели и все равно рты поразевали. А для нее у тебя нет слов. Ты же ее только воспитывал: туда не ступи, того не делай, в глубину не лезь. Как будто тебя пионерское звено в буксиры приставило. А ей, может, как раз в глубину хочется.
Так. Явление первое: Митя любит Полю, Алексеич умиляется, Женя чуть-чуть переживает. Явление второе: Поля любит Женю, Митя очень переживает, Алексеич ведет разъяснительную работу. Ради святого товарищества. Все как по нотам: сначала дружеское участие (расчеши волосики, утри нос), потом стакан вина для создания обстановки, наконец, душеспасительная беседа. Полный порядок. Любовь не картошка. Я уже понял.
– Понимаешь, в этом деле тоже опыт нужен. Я не о плохом. Не про то, чтобы знать, когда кому подол задирать надо. Как бы тебе объяснить? Ты на нее все переложил – пусть, мол, сама отличает настоящее чувство. А она, Митя, не рентгеновский аппарат.
Вот и поговорили! Ах какие они принципиальные, мои друзья. Режут правду-матку. Сначала один, теперь другой. Трудно им, но режут. А я-то идиот!
Мы шли в институт и молчали. Алексеич, наверное, потому, что не получилось душевного разговора. Чего же он ждал? Что я пожму ему руку и растроганно скажу: «Спасибо, чуткий друг, ты открыл мне глаза»?
Солнце выбралось уже из-за домов и успело нагреть асфальт. В главной аллее, где утром приседали физкультурники, сдвинув прямоугольником четыре скамейки, разместилась свита маленькой киевлянки. Сама она, забравшись с ногами на скамейку, читала им вслух учебник химии. Какой-то новый парень, длинный, в цветастой тюбетейке, видно, еще не прирученный, громко острил, нарушая идиллию.
На пустых и длинных, выбеленных солнцем ступенях сидела Полинка. Такая печальная и такая красивая, что у меня комок подступил к горлу. «Для нее у тебя нет слов…» Вот подойти сейчас, взять за руки и… самые нежные, самые непридуманные…
Полинка подняла на нас глаза и сказала тихо:
– Женька провалил математику. Только что.
Алексеич молча опустился рядом с нею.
– Он в обратных функциях плавал, – сказал я. – Всегда. Я ему говорил.
Алексеич поднял со ступеньки корочку засохшего раствора, переломил ее, потер в пальцах и сказал:
– Правильно, Митя, плавал. А ты говорил. Он за прошлый год в электролизном цехе восемь рацпредложений внес. Заодно они с главным технологом авторское свидетельство получили. Это его прямые функции были. Только они в аттестат не записаны. А тригонометрией он, Митя, занимался с двадцати четырех ноль-ноль и так далее. Верно, плавал маленько.
Женька сегодня уезжает. Снова товарищество собралось на том же месте, где сидели когда-то по случаю моих оттенков. И опять они трое на скамейке, а я опять сбоку припеку – в стороне, на оградке.
Вчера случилось что-то неладное. Вечером Алексеич и Женька принесли в общежитие бутылку водки.
– В комнате пить нельзя, – сказал я.
– На прощанье, Митя, – улыбнулся Женька. – За обратные функции.
– В комнате пить нельзя, – упрямо повторил я. – Такой порядок, ребята. Я же староста, поймите.
Алексеич, поставив локти на тумбочку, смотрел на эту бутылку и молчал. Потом, не поворачивая головы, мягко сказал:
– Пойдем, Женя, под заборчик. Нам, работягам, не привыкать.
И они ушли. А я лег на кровать и закрыл голову подушкой. За что судил меня Алексеич? В конце концов, разве мне сейчас не хуже всех? Конечно, Женька завалил математику. Но ведь в обратных функциях он все-таки плавал. Это факт. И разве кто-то виноват, что рационализаторские предложения не засчитываются на экзаменах? И что по внутреннему распорядку нельзя пить в комнате? Почему они крутят и путают там, где все ясно, как дважды два?
…На скамеечке у них тихо. А мне и вовсе ни к чему шуметь в одиночку. Я заклеиваю рваную беломорину. Я заклеиваю, а она расползается. Я заклеиваю, а она расползается.
– Возьми другую, – кидает мне пачку Алексеич.
Полинка словно и не вставала со ступеней. Сидит в той же позе. Совсем уронила голову.
– Не хмурей, маленькая, – говорит Женька и осторожно убирает со лба ее светлую прядку волос. – Все будет отлично.
И волосы медленно падают обратно. И Полинка не дует на них.
VIII
И еще проходят дни. Похожие друг на друга. Я никого не вижу, не выхожу из комнаты. Читаю, читаю, читаю. И когда Алексеич зовет обедать, говорю: «Схожу попозже».
А потом наступает один – стремительный, все переворачивающий, обидный, непонятный день…
– Вот, вот и вот! – яростно вычерчиваю я обломком кирпича на асфальте пирамиду. – И сечем так! Ты же знала это!
– Я забыла, Митя, – безучастно говорит Полинка, даже не взглянув на мой рисунок.
– Как забыла?! Мы же решали столько подобных задач! Я приходил, и мы решали! Помнишь?
– Я забыла, Митя, – повторяет она.
Она медленно поднимается по ступеням к институту, и двери перед ней открываются. За ними стоит наш розовенький Гена. Он зачем-то снимает очки. Глаза у него растерянные.
– Вам стало плохо, да? – вежливо спрашивает он, становясь из розового свекольным. – Закружилась голова? Можно объяснить преподавателю. Я схожу. Хотите?
Полинка молча обходит его. Гена поворачивается за ней, но тут я ловлю его за руку:
– Стоп. Ты видел? Ты что видел?
– Она мне задачку решила, – говорит он. – А свой билет отнесла назад. Ничего не понимаю…
Алексеич брился. По самые глаза в крутой белой пене.
– Тихо! – отшатнулся он. – Сдурел – мотаешься так! Отхвачу полщеки – будешь платить страховку.
– Она положила билет. Не пошла отвечать. Понимаешь? Она знала – голову даю на отсечение!
Алексеич уронил на колени шматок пены.
– Так, – сказал он. – Так. Я сейчас… Я быстро. Ты почитай пока… Письмо тебе.
Он кое-как добрился и ушел. А я развернул письмо.
«Сынка! – писала мать. – Видела во сне тебя, и нехорошо. Беспокоюсь – не случилось ли чего… Заходила ко мне Филипповна, жаловалась на Полинку – не пишет. Просила тебя поругать ее. А Григорян Алик, дружок твой, сдал все экзамены до срока. Только на учебу его, сынка, не приняли…»
Алексеич вернулся через несколько часов. Смущенно потоптался у дверей, показал билет на поезд:
– Просила купить. Сегодня едет.
– Институт, значит, побоку, – сказал я. – Самое главное – побоку!..
– Может, и не самое главное институт, Митя, – сказал Алексеич. – Проводить ее надо.
– Нет уж, хватит! Понянчился! Провожай один. Поругать ее, кстати, можешь. Мать вон очень просит.
– Ну, извини, – сказал Алексеич. – Я понимаю, конечно. Там, в тумбочке, билет на футбол. Сходи, если хочешь. Я-то не успею.
Я не пошел на матч. Я стоял на перроне, спрятавшись за киоск «Пиво-воды», и видел широкую спину Алексеича. И Полинку. Алексеич время от времени шумно вздыхал и качал головой. А Полинка что-то быстро говорила ему, улыбалась и вытирала слезы…
IX
У меня остался последний вопрос – разбор предложения. Любого предложения: своего, чужого, из книжки или из головы. Я пишу то, которое знаю назубок и могу разобрать в любое время дня и ночи, даже подвешенный вниз головой: «Их зинге ви дер фогель зингт».
– А чьи это стихи? – растягивая слова, спрашивает немка.
– Гёте! – бойко рапортую я.
– Зо, – говорит немка. – А как будет дальше?
Как будет дальше, я не знаю.
– А что стоит впереди?
Я тоскливо молчу.
– А какого цвета моя лысина?! – гремит невесть откуда взявшийся декан. – Зо?!
Это ужасно, но я не могу понять, какого цвета его лысина, и чувствую, что окончательно проваливаюсь…
Я проснулся и долго еще лежал с закрытыми глазами. Лежал и улыбался. Вчера я сдал последний экзамен. Мне негде больше проваливаться. Немка не стала спрашивать, что там впереди и как будет дальше.
– Зо! – удовлетворенно сказала она, услышав о Гёте, и поставила мне пятерку.
Я открыл глаза и увидел Гену. Он сидел против меня, на бывшей Женькиной кровати, и тоже улыбался.
– Интересно ты спишь, Агарков! – сказал он. – Списки, между прочим, вывесили. Твоя фамилия – первая. А его фамилию, – он кивнул на пустую койку Алексеича, – я забыл.
Я быстренько оделся и побежал вниз. В коридоре, возле дверей приемной комиссии, действительно висели списки. Возле них толпились абитуриенты. Свою фамилию я нашел сразу: она в самом деле стояла первой. Потом в конце отыскал: Черданцев В.А.
Рядом со мной оказалась маленькая киевлянка. Она тоже рассматривала списки, старательно шевеля губами.
– Звенько! – подсказал я и ткнул пальцем в одну из колонок.
– Откуда вы знаете? – радостно спросила она.
– Случайно. Поздравляю. И до свидания. Привет папе-генералу!
– Ой, подождите, – догнала она меня. – Вы, конечно, тоже прошли? Да?
– Конечно, прошел, да, – ответил я.
– А ваши… друзья, – она подняла на меня голубые, как небушко, глаза, – они все поступили?
– Нет. Поступил один друг. Тот, который в тельняшке.
– Как жаль, – сказала она, безуспешно пытаясь изобразить на своем милом личике скорбь. – Кстати, папа у меня не генерал, а только капитан. Я ему про все написала, про тот случай…
– Ну-у, это зря. И как меня лупили?
– Нет, – улыбнулась она. – Он, знаете, очень вас благодарил.
– Рады стараться! – щелкнул каблуками я. – До свидания все-таки.
– До свидания, – махнула рукой девчонка.
А вечером мы распрощались с Алексеичем.
– Домой теперь, Митя? – спросил он.
– Да, смотаюсь дня на четыре.
– Ну… кланяйся там. А я к сестренке, в Барабинск. Завтра уеду. Может, проводить тебя?
– Нет, – сказал я. – Чемодан легкий. Гантели Генке отдал, за мичманку. Ты ему скажи – пусть комнату эту забьет. Хорошая комната.
– Скажу, – кивнул Алексеич. – Ничего комната. Поживем.
X
Поезд пришел в мой город днем. Я вышел из вагона. Неторопливо осмотрел себя. Пофасонистее сдвинул мичманку. Переложил поближе тоненькую справку: «Зачислен на первый курс гидротехнического факультета…» и так далее.
За переходным мостом разворачивался на кольце длинный, двухприцепный трамвай. Он постоял немного и, словно успев за это время прикипеть к рельсам, рывком тронулся с места.
Я не сел в трамвай. Специально. Честно говоря, мне хотелось встретить хоть какого-нибудь знакомого. Ведь я возвращался домой первый раз в жизни. Конечно, не обязательно, чтобы кто-то хлопал меня по плечу и восхищенно орал: «Молодец, Митька! Поставлен у тебя котелок!» Нет, мне хотелось спокойных, взрослых расспросов, понимающих и достойных слушателей.
И первым я встретил своего лучшего друга Альку Григоряна. Похудевшего, коричневого и усатого. Мне не надо было ничего объяснять. Я все уже знал из письма матери. Алька сдавал в металлургический. Он набрал двадцать восемь из тридцати и не прошел мандатную комиссию. Он написал в автобиографии, что отец его – инженер-нефтяник, был арестован в тридцать седьмом, в городе Баку. Алька не знал отца, не помнил. Так и написал: не знаю, не помню, не считаю отцом. Его позвали к ректору и там сказали: учиться вы, конечно, можете. Но работать на наших предприятиях вам вряд ли удастся. Идите в пед, мы дадим справку. С такими оценками вас там с руками оторвут. Идите, какая вам разница?
Была разница, Алька хотел варить сталь. Он не пошел в пед.
Мы отошли в сторонку, к стене дома, и я поставил свой чемодан на зеленую металлическую урну.
– Ну, у тебя-то как? – спросил Алька. – Девочка рассказывала: ты шел ровно, как всегда.
– Все у меня отлично, Алька, все в порядке. Она правильно говорила.
Не мог я сейчас рассказывать ему ни про свои радости, ни про свои неровности, ни про свои болячки, ни про Полинку, которую он почему-то всегда звал девочкой. Не мог, и все.
– Пойдем, Алька, выпьем, – сказал я.
Вдоль киоска, на низкой завалинке, сидели черные, белкастые электролизники и потягивали пиво, сдувая пену на утоптанную землю с намертво вколоченной подсолнечной шелухой. Какие-то два парня по очереди пили прямо из бидона, отдувались и деловито переговаривались:
– Ну вот и порядочек. Один здесь навернем, один домой утащим.
Мы взяли по сто с прицепом и плотно друг к другу сели на чемодан. Пена в кружке лопалась и оседала с нежным шуршанием. Белая, прохладная пена, похожая на мыльную.
– Алька, – сказал я, – как же получается, Алька? Ведь дети за отцов не отвечают.
Алька молча опустил курчавую голову.
…А вторым я встретил нашего старого физика Михаила Ароновича. Он стоял на тротуаре против своего дома и, задрав крючковатый нос, рассматривал что-то на крыше. Седой, похожий на сатира. В другой раз я свернул бы в сторону. Я не любил физика. У нас в школе мало кто любил физика. На уроках он мучил нас опытами. Расставлял свои штучки, все у него щелкало, подмигивало, жужжали электромагниты, светились катодные трубки. А он, прихрамывая, метался по лаборатории, быстро писал на доске, стирал и снова писал. И ни черта невозможно было понять. На следующий день он заставлял нас повторять эти опыты, психовал и беспощадно лепил двойки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.