Текст книги "Последние дуэли Пушкина и Лермонтова"
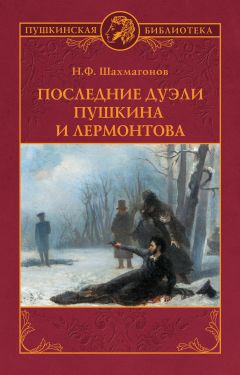
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
– Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена, справедливость – в руках самоуправств! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи, никто не уверен ни в своём достатке, ни в свободе, ни в жизни. Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона.
– Что ж удивительного, Ваше Величество, если нашлись люди, чтоб свергнуть такое положение вещей? Что ж удивительного, если они, возмущённые зрелищем униженного, страдающего Отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтоб уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть: вместо притеснения – свободу, вместо насилия – безопасность, вместо продажности – нравственность, вместо произвола – покровительство законов, стоящих надо всеми и равных для всех!
После паузы Пушкин продолжил:
– Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к её осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного. Вы могли и имели право покарать виновных, в патриотическом безумии хотевших повалить трон Романовых, но я уверен, что, даже карая их, в глубине души Вы не отказали им ни в сочувствии, ни в уважении. Я уверен, что если Государь карал, то человек прощал!
– Смелы твои слова, – сказал Государь сурово, но без гнева, – значит, ты одобряешь мятеж, оправдываешь заговорщиков против государства? Покушение на жизнь Государя?
– О нет, Ваше Величество! – вскричал я с волнением. – Я оправдываю только цель замысла, а не средства. Ваше Величество умеете проникать в души, соблаговолите проникнуть в мою, и Вы убедитесь, что в ней всё чисто и ясно. В такой душе злой порыв не гнездится, а преступление не скрывается!
– Хочу верить, что так, и верю, – сказал Государь более мягко, – у тебя нет недостатка ни в благородных побуждениях, ни в чувствах, но тебе недостаёт рассудительности, опытности, основательности. Видя зло, ты возмущаешься, содрогаешься и легко мысленно обвиняешь власть за то, что она сразу не уничтожила это зло и на его развалинах не поспешила воздвигнуть здание всеобщего блага. Знай, что критика легка и что искусство трудно: для глубокой реформы, которую Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был твёрд и силён, ему нужно содействие людей и времени.
Император внимательно посмотрел на поэта и продолжил убежденно:
– Нужно объединение всех высших и духовных сил государства в одной великой передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении к поднятию самосознания в народе и чувства чести в обществе. Пусть все благонамеренные, способные люди объединятся вокруг меня, пусть в меня уверуют, пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! Ибо только в общих усилиях – победа, в согласии благородных сердец – спасение.
Поэт слушал внимательно, и Государь не мог не заметить заворожённого взгляда, обращённого на него. Чистота души, великой души поэта была налицо, и Николай Павлович сказал:
– Что до тебя, Пушкин, ты свободен. Я забываю прошлое, даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника, вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание – воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов! Теперь можешь идти! Где бы ты ни поселился, ибо выбор зависит от тебя, помни, что я сказал и как с тобою поступил, служи Родине мыслью, словом и пером. Пиши для современников и для потомства, пиши со всей полнотой вдохновения и совершенной свободой, ибо цензором твоим буду я!»
Эта беседа была рубежной для Пушкина, она избавила его от остатков сомнения, она сделала его ревностным поборником самодержавной власти. В его душе, сознании, в его миросозерцании соединилось понимание и осознание необходимости борьбы за торжество «симфонии двух властей», подорванной и расколом XVII века, и чужебесием петровских преобразований, и бироновщиной.
Чем же напугала врагов России встреча государя и поэта?
До недавнего времени считалось, что беседа касалась лишь того, что было записано со слов Пушкина его приятелем Струтынским.
Но вот что озвучил профессор Санкт-Петербургского Государственного университета Владимир Михайлович Зазнобин, представитель авторского коллектива Внутренний Предиктор СССР. Нужно уточнить, что в данном случае СССР расшифровывается как Святая Соборная Справедливая Русь.
В. М. Зазнобин в интернет-интервью так передаёт продолжение разговора в Чудовом монастыре, о котором Пушкин Струтынскому не сообщил, да и вообще об этом его разговоре известно было очень ограниченному количеству лю-дей.
Попробуем проследить за этим удивительным разговором, озвученным и растолкованным Владимиром Михайловичем…
«Государь спросил у Пушкина, с кем бы он был на Сенатской площади, окажись в Петербурге 14 декабря 1825 года?
Пушкин ответил прямо:
– Конечно, с ними…
Затем сделал паузу и пояснил:
– Чтобы их остановить…»
Такая трактовка ответа непривычна. Вот В. М. Зазнобин и поясняет:
«Государь, тем не менее, посмотрел на Пушкина недоверчиво и напомнил, что у многих заговорщиков были найдены его стихи.
Пушкин на это ответил:
– Мои стихи каждый толкует по-своему, – и в свою очередь задал вопрос императору: – Ваше Величество, а вы читали мои стихи под названием Андрей Шенье?
Государь не ответил, но по одному его взгляду понял: читал. Читал и убедился в том, что Пушкин не враг самодержавия и России, что ему с бунтовщиками не по пути».
Вспомним стихотворение…
В нём как бы размышления поэта над тем, что было бы, если бы декабристы одержали победу:
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Всё ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени,
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали.
И что же? Каков итог? Что представлялось Пушкину в случае удачи бунта обезумевших дворянчиков, заражённых непонятными им идеями тайных обществ…
…Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Вот итог. Россия, лишённая самодержавной власти, оказалась под пятой истинных тиранов, а вовсе не под скипетром справедливого монарха, назначенного в тираны историками, сочиняющими ложь, о которой договорились.
Что же касается свободы – то свобода свободе рознь. Одно дело свободное волеизъявление людей, высоких духом, другое – свобода жадных хищников, для которых она – свобода от совести, свобода грабежей, которые оправдываются борьбой за неё.
Пушкин же признавал свободу, в которой она, по его словам, «Богиня чистая…»
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, – не виновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой: (…)
Точное указание на то, к чему приведёт свобода от совести. И вера в иную свободу:
Но ты придёшь опять со мщением и славой, –
И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Всё ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим;
Так – он найдёт тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнет;
Так буря мрачная минет!..
И далее следует пророчество Пушкина, словно бы в отношении себя самого…
Но я не узрю вас, дни славы, дни блаженства:
Я плахе обречён. Последние часы
Влачу. Заутра казнь. Торжественной рукою
Палач мою главу подымет за власы
Над равнодушною толпою.
Жертвенность поэзии ощущается во многих стихотворениях, словно поэт предчувствовал, что ждёт его… «Я плахе обречён»! Причём именно казнь, что и было на самом деле. Не дуэль, а казнь.
Но вернёмся к беседе Пушкина с Государем…
Следующий вопрос касался поэмы «Гавриилиада». Владимир Михайлович Зазнобин продолжает рассказ о беседе с вопроса, заданного Государем: «Скажи мне Пушкин, кто автор Гавриилиады?»
(…)
«Пушкин нашёл возможным не скрывать своё авторство:
– Я, ваше величество!
– Зачем? Издевательство над религией…
На что Пушкин ответил:
– Нет, ваше величество, над религией издеваются те, кто пишет на меня доносы. Вам известно такое греческое слово антропоморфизм?
– Да, известно.
И Пушкин стал объяснять, что у нас есть много людей, которые приписывают неземному, неземным сущностям земные свойства.
– Вот вы – император. Вы не можете же управлять один. Вам нужны министры, обер-прокурор… И они считают, что там тоже Богу нужны помощники.
И стал по сути говорить о том, что написано в Коране.
– Откуда это тебе известно?
– Из Корана.
– А ты что, мусульманин?
– Нет…
Дальше он сказал, что у России будут большие проблемы вот именно на этой почве – непонимание, что есть надмирная реальность – Творец, – что у нас неправильно понимают Бога…
Разговор длился четыре часа.
Император несколько раз пытался остановить разговор, он понимал, что не имеет права слушать рассуждения о Боге двадцатисемилетнего опального поэта. Но в то же время он, видимо, понимал и другое: “Если сейчас его остановлю, я больше никогда не узнаю то, что знает он”».
И далее В. М. Зазнобин поясняет:
«Вот вы поймите, раньше не было подслушивающих устройств. Они были вдвоём, абсолютно вдвоём, и одному – 30 лет, другому – 27.
Пушкин задавал вопросы, Император отвечал. Когда заговорили о религии, Пушкин сказал:
– Я сам Библию читал на французском. Есть Библия на английском, на немецком, на французском, но нет Библии на русском.
– Ну как же? Мой брат создал библейское общество, и Библия издана, – удивился Государь.
На что Пушкин ответил:
– Я бы, Ваше Величество, рекомендовал уничтожить все эти издательства.
– Почему?»
Пушкин стал говорить о многих библейских сюжетах и их трактовке в русском переводе Библии. Императору, конечно, была известна история борьбы Аракчеева с извращениями религии в период царствования императора, известного нам под именем Александра I.
В. М. Зазнобин отметил:
«– Моя задача была раскрыть содержание этой четырёхчасовой беседы. Когда она закончилась, Николай Павлович поехал во дворец французского посланника, где давался бал в честь коронации. Вся Москва уже знала, что Пушкин в Москве. Когда Государь прибыл на этот бал, весь двор его окружил, потому что событие – прибытие Пушкина в Москву – затмило такое событие, как коронация нового императора».
Литератор и мемуарист Николай Васильевич Путята (1802–1877), участник «Общества любителей российской словесности», так рассказал о приезде Пушкина в Москву и о том, какое впечатление на москвичей оказал этот приезд:
«А. С. Пушкина я видел в первый раз в Москве, в Большом театре, во время празднеств, последовавших за коронацией императора Николая Павловича. Театр наполняли придворные, военные и гражданские сановники, иностранные дипломаты, словом – всё высшее, блестящее общество Петербурга и Москвы.
Когда Пушкин, только что возвратившийся из деревни, где жил в изгнании и откуда вызвал его государь, вошёл в партер, мгновенно пронёсся по всему театру говор, повторивший его имя: все взоры, все внимание обратилось на него.
У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей степени своей популярности.
Дня через два Е. Баратынский, другой поэт-изгнанник, недавно оставивший печальные граниты Финляндии, повёз меня к Пушкину, в гостиницу “Hotel du Nord”, на Тверской. Пушкин был со мною очень приветлив.
С этого времени я довольно часто встречался с Пушкиным в Москве и Петербурге, куда он скоро потом переселился. Он легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вел, по-видимому, самую рассеянную жизнь, танцевал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества».
Вполне понятен и особый интерес к тому, какое впечатление произвёл Пушкин на государя.
В. М. Зазнобин отмечает:
«Все обступили государя, никто прямо не спрашивал, но во взглядах один вопрос – ну как он, Пушкин? Был такой граф Блудов, статс-секретарь, который спросил о впечатлении от беседы, на что император ответил:
– Я беседовал сегодня с умнейшим мужем России».
В. М. Зазнобин предложил задаться вопросом, что мог такого сказать двадцатисемилетний поэт, который был действительно самым образованным человеком в России того времени, Императору, которого готовили по специальной программе преподаватели, не только российские, но и заграничные. Что такого мог сказать Пушкин, чтобы удивить императора?
Когда Пушкин всё это рассказал, то финал был таков. Император сказал:
– Вот что, Пушкин. С этого момента дай мне слово, что ты больше никому этого рассказывать не можешь. Тебя обязательно ещё раз вызовут на Синод. Не дай Бог, если ты там будешь рассказывать то, что рассказывал мне. Несмотря на то что я над Синодом, я тебя защитить не смогу. Моя власть не безгранична. Если тебя будут допрашивать, ничего даже не начинай говорить – я тебя знаю, ты слишком откровенный и остановиться не сможешь. Ничего им не говори, попроси у них лист бумаги, конверт и напиши мне. И обязательно запечатай своей печатью. Где бы я ни был, я знаю, что делать.
Действительно, осенью двадцать восьмого года Пушкина вызвали на заседание Синода в Кронштадт, и он действовал строго в соответствии с тем, что ему приказал Государь.
– Письмо Пушкина есть в Интернете, – сообщил В. М. Зазнобин, – но настолько там всё перетолковано, что я не берусь комментировать, а вот ответ Николая Первого, который тоже есть в Интернете, и мы его нашли, заслуживает комментариев. Слова Николая Павловича свидетельствуют о том, что Государей учат говорить двусмысленно. Обратите внимание на нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот по моим представлениям, Путин никогда не лжёт. Но он часто говорит двусмысленность, и каждый толкует сказанное в свою пользу.
В письме императора в Синод было всего две фразы:
“Я знаю автора Гавриилиады. Оставьте Пушкина в покое”.
Смотрите, насколько двусмысленно.
Это можно прочитать или так: “Я знаю автора Гавриилиды. Это не Пушкин, поэтому оставьте Пушкина в покое”. Или: “Я знаю, что автор Гавриилиады Пушкин. Но он под моим особым покровительством, а поэтому оставьте его в покое”.
А Синод не имел права требовать разъяснение от императора.
Это не значит, что отступились от Пушкина».
Действительно, у Пушкина появилась небольшая передышка под защитой императора. Но он был уже приговорён орденскими структурами и вполне сознавал это. Неслучайно в 1829 году передал свои архивы, свою «Сафьянную тетрадь» на хранение атаману Кутейникову.
Столичные дуэли
Русский историк и журналист Михаил Иванович Семевский (1837–1892) рассказал такую историю:
«В московском доме князей Урусовых особенно часто появлялся весною 1827 г. Пушкин. Он проводил почти каждый вечер у князя Урусова, бывал весьма весел, остёр и словоохотлив… Во время таких посещений Пушкин, ещё по петербургской своей жизни бывший коротким приятелем Муханова, общался и с Соломирским: Пушкин подарил ему сочинения Байрона, сделав на книге надпись в весьма дружественных выражениях. Тем не менее ревнивый и крайне самолюбивый Соломирский, чем чаще сходился с Пушкиным у князя Урусова, тем становился угрюмее и холоднее к своему приятелю. Особенное внимание, которое встречал Пушкин в этом семействе, и в особенности внимание молодой княжны Софьи Урусовой, возбуждало в нём сильнейшую ревность. Пушкин, шутя и балагуря, рассказал что-то смешное о графине А. В. Бобринской. Соломирский, мрачно поглядывавший на Пушкина, по окончании рассказа счёл нужным обидеться.
– Как вы смели отозваться неуважительно об этой особе? – задорно обратился он к Пушкину. – Я хорошо знаю графиню. Она во всех отношениях почтенная особа, я не могу допустить оскорбительных о ней отзывов.
– Зачем же вы не остановили меня, когда я только начинал рассказ? – отвечал Пушкин. – Почему вы мне не сказали раньше, что знакомы с графиней Бобринской? А то вы спокойно выслушали весь рассказ, и потом каким-то донкихотом становитесь в защитники этой дамы и берёте её под свою протекцию».
Вся эта сцена проходила в довольно тесном кружке обычных гостей князя Урусова.
Разговор в тот вечер не имел никаких последствий, и все разъехались по домам, не обратив на него никакого внимания. Но на другой же день рано утром на квартиру к Муханову является Пушкин. С обычною своею живостью он передал, что утром получил от Соломирского письменный вызов на дуэль и, ни минуты не мешкав, отвечал ему, письменно же, согласием, что у него был уже секундант Соломирского, А. В. Шереметев, и что он послал для переговоров об условиях дуэли к нему Муханова, которого просил быть секундантом. Только что уехал Пушкин, к Муханову явился Шереметев. Муханов повёл переговоры о мире. Но Шереметев, войдя серьёзно в роль секунданта, требовал, чтобы Пушкин, если не будет драться, извинился перед Соломирским.
…Шереметев понял наконец, что эта история падёт позором на головы секундантов в случае, если будет убит или ранен Пушкин, и что надо предотвратить ту роковую случайность и не подставлять лоб гениального поэта под пистолет взбалмошного офицера. Шереметев поспешил уговориться с Мухановым о средствах к примирению противников. В то же утро Шереметев привёл Соломирского к С. А. Соболевскому, на Собачью площадку, у которого жил в то время Пушкин. Сюда же пришёл Муханов, и, при дружных усилиях обоих секундантов и при посредничестве Соболевского, имевшего большое влияние на Пушкина, примирение состоялось. Подан был роскошный завтрак, и, с бокалами шампанского, противники, без всяких извинений и объяснений, протянули друг другу руки».
Николай Васильевич Путята, рассказ которого о возвращении Пушкина в Москву после ссылки в Михайловской и о знакомстве с ним приведён выше, стал почитателем Пушкина и, когда над поэтом снова нависла необходимость поединка, сразу включился в исправление ситуации, о чём рассказал в своих воспоминаниях:
«Не хвастаюсь дружбой с Пушкиным, но в доказательство некоторой приязни его и расположения ко мне могу представить, кроме помянутого автографа, ещё одну записку его на французском языке. Пушкин прислал мне эту записку со своим кучером и дрожками. Содержание записки меня смутило, вот оно: “M’étant approché hier d’une dame, qui parlait à m-r de Lagrené, celui-ci lui dit assez haut pour que je l’entendisse: renvoyez-le! Me trouvant forcé de demander raison de ce propos, je vous prie, monsieur, de vouloir bien vous renre auprès de m-r de Lagrené et de lui parlier en conséquence. Pouchkine”».
Здесь дан перевод записки по книге «Пушкин в воспоминаниях современников»:
«Вчера, когда я подошёл к одной даме, разговаривавшей с г-ном де Лагрене, последний сказал ей достаточно громко, чтобы я услышал: прогоните его. Поставленный в необходимость потребовать у него объяснений по поводу этих слов, прошу вас, милостивый государь, не отказать посетить г-на де Лагрене для соответствующих с ним переговоров. Пушкин».
Н. В. Путята далее писал:
«Я тотчас сел на дрожки Пушкина и поехал к нему. Он с жаром и негодованием рассказал мне случай, утверждал, что точно слышал обидные для него слова, объяснил, что записка написана им в такой форме и так церемонно именно для того, чтоб я мог показать её Лагрене, и настаивал на том, чтоб я требовал у него удовлетворения. Нечего было делать: я отправился к Лагрене, с которым был хорошо знаком, и показал ему записку. Лагрене, с видом удивления, отозвался, что он никогда не произносил приписываемых ему слов, что, вероятно, Пушкину дурно послышалось, что он не позволил бы себе ничего подобного, особенно в отношении к Пушкину, которого глубоко уважает как знаменитого поэта России, и рассыпался в изъяснениях этого рода. Пользуясь таким настроением, я спросил у него, готов ли он повторить то же самому Пушкину. Он согласился, и мы тотчас отправились с ним к Александру Сергеевичу. Объяснение произошло в моём присутствии, противники подали руку друг другу, и дело тем кончилось. На другой день мы завтракали у Лагрене с некоторыми из наших общих приятелей. Стихи Пушкина, писанные его рукою, и французская его записка свято у меня сохраняются…»
«Чистейшей прелести чистейший образец…»
Вспомним знаменитый роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» (Том второй. Часть первую), вспомним описание балов, которые устраивал московский танцмейстер Пётр Андреевич Иогель (1768–1855). Персонаж реальный. Он был учителем танцев в Московском университете.
«У Иогеля были самые веселые балы в Москве. Это говорили матушки, глядя на своих adolescentes (подросточков), выделывающих свои только что выученные па; это говорили и сами adolescentes и adolescents (подростки), танцевавшие до упаду; это говорили взрослые девицы и молодые люди, приезжавшие на эти балы с мыслию снизойти до них и находя в них самое лучшее веселье. В этот же год на этих балах сделалось два брака. Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и вышли замуж, и тем ещё более пустили в славу эти балы. Особенного на этих балах было то, что не было хозяина и хозяйки: был, как пух летающий, по правилам искусства расшаркивающийся добродушный Иогель, который принимал билетики за уроки от всех своих гостей; было то, что на эти балы еще езжали только те, кто хотел танцевать и веселиться, как хотят этого тринадцати– и четырнадцатилетние девочки, в первый раз надевающие длинные платья. Все, за редкими исключениями, были или казались хорошенькими: так востороженно они все улыбались и так разгорались их глазки. Иногда танцовывали даже pas de châle лучшие ученицы, из которых лучшая была Наташа, отличавшаяся своею грациозностью; но на этом, последнем бале танцевали только экосезы, англезы и только что входящую в моду мазурку. Зала была взята Иогелем в доме Безухова, и бал очень удался, как говорили все. Много было хорошеньких девочек, Ростовы барышни были из лучших. Они обе были особенно счастливы и веселы в этот вечер. Соня, гордая предложением Долохова, своим отказом и объяснением с Николаем, кружилась еще дома, не давая девушке дочесать свои косы, и теперь насквозь светилась порывистой радостью…»
На одном из таких балов Александр Сергеевич Пушкин впервые увидел свою Наташу – шестнадцатилетнюю красавицу Наталью Гончарову. По данным одних биографов, это случилось в доме Петра Александровича Кологривова и его супруги, Прасковьи Юрьевны, урождённой Трубецкой, которая была матерью В. Ф. Вяземской, супруги Петра Андреевича Вяземского. Дом этот и ныне существует по адресу: Тверской бульвар, д. 22.
Удивительно. За много лет до того, на одном из детских балов, которые давал танцмейстер Иогель, Пушкин встретил свою «раннюю любовь», и вот снова, у того же Иогеля, его охватило чувство, которое подчинило его властно и неодолимо.
А теперь послушаем современников русского гения.
Сын Вяземских Павел Петрович (1820–1888) познакомился с Пушкиным в шестилетнем возрасте, в 1826 году, когда Александр Сергеевич только вернулся из ссылки. С детских лет он проникся уважением к великому поэту, даже написал его портрет, обнаруженный уже в советское время и опубликованный в 1960 году. Павел Петрович оставил интереснейшие воспоминания о Пушкине, в которых описал и женитьбу поэта.
«Пушкин поражён был красотою Н. Н. Гончаровой с зимы 1828–1829 года. Он, как сам говорил, начал помышлять о женитьбе, желая покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша мог трепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество.
Холостая жизнь и несоответствующее летам положение в свете надоели Пушкину с зимы 1828–1829 года. Устраняя напускной цинизм самого Пушкина и судя по-человечески, следует полагать, что Пушкин влюбился не на шутку около начала 1829 года. Напускной же цинизм Пушкина доходил до того, что он хвалился тем, что стихи, им посвящённые Н. Н. Гончаровой 8 июля 1830 года:
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец… –
были сочинены им для другой женщины».
Но посмотрим, так ли это, и не лукавил ли поэт, опасаясь того, что так и не удастся получить положительный ответ на предложение… Стихотворение называется «Мадонна» и под ним стоит дата – 1830 год, год, когда решался вопрос о его женитьбе на Наталье Николаевне…
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.
В простом углу моём, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный Спаситель –
Она с величием, он с разумом в очах –
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.
Из текста, думаю, понятно, что стихотворение, конечно же, посвящено Наталье Николаевне.
Дочь Натальи Николаевны от второго брака с Ланским Александра Петровна Арапова, урождённая Ланская, попыталась восстановить по рассказам матери сам момент её знакомства с Пушкиным:
«В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от неё глаз. Слава его уже тогда прогремела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем; толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности; при первом знакомстве их его знаменитость, властность, присущая гению, не то что сконфузили, а как-то придавили её. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта врождённая скромность только возвысила её в глазах поэта».
А вот признание самого Пушкина:
«Когда я увидел её в первый раз, красоту её едва начали замечать в свете. Я полюбил её, голова моя закружилась».
9 января 1829 года Вяземский писал жене: «Пушкин на днях уехал… Он что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни угадать, что с ним было или чего не было… Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок; и в том, и в другом месте видел я его редко, но видел с теми и другими и всё не узнавал прежнего Пушкина».
Как видим, даже Пётр Андреевич Вяземский терялся в догадках, оценивая непонятные для него перемены в поведении Пушкина.
Дмитрий Дмитриевич Благой писал:
«Для нас теперь ясно то, чего не смог тогда угадать Вяземский. Как раз в пору пребывания в Москве, в декабре 1828 года, поэт увидел на общественном балу у модного в светском московском обществе танцмейстера Иогеля молодую шестнадцатилетнюю девушку, Натали Гончарову, которая сразу же произвела на него громадное впечатление. Отзывы современников о характере красоты молодой Гончаровой противоречивы. По отзывам одних, она на том балу, на котором встретилась с Пушкиным, “поражала всех своей классической царственной красотой”. Совсем иным был отзыв больше разбиравшегося в значении терминов “классический” и “романтический” П. А. Вяземского. Узнав о предстоящей женитьбе Пушкина, он писал ему, что считает другую прославленную молодую московскую красавицу, Алябьеву, образцом “классической” красоты, а Гончарову – красоты “романтической”.
“Тебе, первому нашему романтическому поэту, – добавлял Вяземский, – и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения”».
Дмитрий Дмитриевич Благой отметил:
«Красота Гончаровой, при классической строгости черт лица и всего её облика, действительно, видимо, обладала каким-то особым, единственным в своём роде очарованием – “романтической” прелестью. Несомненно и то, что чувство к ней Пушкина с самого начала не было просто ещё одним очередным увлечением. В начале января 1829 года Пушкин уехал из Москвы, а в марте он снова вернулся сюда. Опять начал он бывать в доме Ушаковых; пошли толки, что он усиленно ухаживает за Елизаветой Николаевной Ушаковой. Однако сам Пушкин, по свидетельству современника, рассказывал, что он каждый день ездил на Пресню к Ушаковым, чтобы два раза в день проезжать мимо окон Н. Н. Гончаровой, которая жила с матерью и сестрами на углу Большой Никитской и Скарятинского переулка. Близкий знакомый Гончаровых, граф Фёдор Иванович Толстой-американец, тот самый, с которым Пушкин хотел было драться на дуэли сразу же по возвращении из ссылки, ввёл поэта, по его просьбе, в их дом. Март и апрель прошли в сомнениях, колебаниях, нерешительности. Наконец 1 мая Толстой от имени поэта обратился к Н. И. Гончаровой с просьбой руки её дочери. Ответ был уклончив. Пушкину не отказали, но, видимо ссылаясь на молодость Натальи Николаевны, предлагали повременить с окончательным решением. В тот же день поэт написал Н. И. Гончаровой восторженно-благодарное за оставляемую ему надежду письмо, одновременно сообщая, что немедленно уезжает из Москвы, увозя в глубинах своей души образ небесного создания, которое ей обязано своей жизнью. Позднее в письме к ней же Пушкин объяснял свой стремительный отъезд в Закавказье, в действующую армию, тем, что мгновение безумного восторга сменилось в нём невыносимой тоской, погнавшей его прочь из города, в котором так близко и все же так еще недоступно жила его любимая».
Ну что ж, не «да» и «нет» лучше, чем полный и окончательный ответ. Надежды оставались. Пушкин написал Наталье Николаевне:
«…Проливая слёзы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш ответ: этот ответ – не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я всё еще ропщу, если к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь; мне понятна осторожность и нежная заботливость матери! – Но извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью».
А отправиться Пушкин решил в действующую армию, поскольку как раз грянула Русско-турецкая война 1828–1829 годов, в ходе которой русские войска совершили ряд походов в Болгарию, на Кавказ и на северо-восток Анатолии, после чего Порта запросила мира.









































