Текст книги "Последние дуэли Пушкина и Лермонтова"
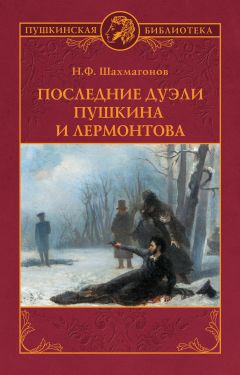
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Данзас подал ему другой пистолет. Он опёрся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия…».
В Википедии говорится:
«Из материалов уголовного расследования известно, что у Дантеса после выстрела Пушкина было кровоотхаркивание. Баллистические исследования при реконструкции событий показали, что у Дантеса не было шансов выжить без специальной защиты. Версия о том, что Дантеса спасла пуговица, также не подтвердилась. Через десять дней после дуэли Дантес явился на допрос и чувствовал себя хорошо. Некоторые исследователи утверждают, что металлический защитный жилет был заказан в Лондоне старшим Геккерном». Как же мог «активный» рыцарь Геккерн не позаботиться о своей усыновлённой «пассивной» жене Дантесе?!
В «наичестнейшей» Англии уже в ту пору наиболее «благородные рыцари» приспособились к дуэлям. Ну а поскольку мерзавцы обычно дрались с людьми действительно благородными, на дуэли они шли, как Дантес, на весёлую прогулку. Ведь Пушкин никогда не стрелял в лицо! А значит, безопасность гарантированно обеспечивал «металлический защитный жилет», по-нынешнему бронежилет.
Но какова же реакция Натальи Николаевны, которая ведь даже не подозревала о дуэли? Жуковский писал:
«Домой возвратились в шесть часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. “Грустно тебе нести меня?” – спросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лёг на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким голосом закричал: “N’entrez pas” (“Не входите”), – ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет.
(…)
“Плохо мне”, – сказал Пушкин, увидя Спасского и подавая ему руку. Спасский старался его успокоить; но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе, и все его мысли обратились на жену.
“Не давайте излишних надежд жене, – говорил он Спасскому, – не скрывайте от неё, в чём дело; она не притворщица, вы её хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною что хотите, я на всё согласен и на всё готов”.
(…)
Арендт уехал. В это время уже собрались мы все, князь Вяземский, княгиня, граф Вьельгорский и я. Княгиня была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал её умирающий муж; он не мог её видеть (он лежал на диване, лицом от окон к двери); но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал её присутствие.
“Жена здесь, – говорил он. – Отведите её. Она, бедная, безвинно терпит! в свете её заедят”.
Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно твёрд.
“Я был в тридцати сражениях, – говорил доктор Арендт, – я видел много умирающих, но мало видел подобного”.
И особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной; буря, которая за несколько часов волновала его душу яростною страстию, исчезла, не оставив на нём никакого следа; ни слова, ни даже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: “Не мстить за меня! Я всё простил”.
(…) У него спросили: желает ли исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром.
В полночь доктор Арендт возвратился.
Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал Государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжал за Арендтом от Государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно Государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести.
“Я не лягу, я буду ждать”, – стояло в записке Государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стояло в этом письме? “Если Бог не велит нам более увидеться, прими моё прощенье, а с ним и мой совет: кончить жизнь христиански [исполнить долг христианский]. О жене и детях не беспокойся. Я их беру на своё попечение”».
Далее в письме содержатся фразы Жуковского, в истине которых позднейшие комментаторы советского времени поспешили «позволить себе усомниться». Ведь в этих фразах сквозит уважение Пушкина к Государю, показаны отношения между поэтом и Государем. Не будем слишком строгими к тем, кто комментировал в советское время письмо Жуковского. Возможно, им просто хотелось обмануть цензуру и сохранить письмо, которое никак не соответствовало навязываемым представлениям о Пушкине и Николае Первом, а особенно об их взаимоотношениях. Была дана установка писать, что Государь травил и притеснял Пушкина, даже – вообще безобразная клевета – влачился за его супругой. Ну и убеждать читателей, что за кулисами убийства стоял царь. Потому и воспоминания современников не слишком афишировались, подменяемые россказнями верноподданных шелкопёров – верноподданных не столько советской цензуре, но, скорее, цензуре ордена русской интеллигенции, которая была гораздо жёстче и злее.
Авторы комментариев бессовестно, если, конечно, не намеренно ради спасения публикации, называют следующие слова Жуковского фальшивыми, написанными в угоду Императору. Судите сами, разве следующие строки не исполнены искренними чувствами?
«Как бы я желал выразить простыми словами то, что у меня движется в душе при перечитывании этих немногих строк. Какой трогательный конец земной связи между Царём и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул: как много прекрасного, человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить её для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. “Я не лягу, я буду ждать”! О чём же он думал в эти минуты, где он был своею мыслью? О, конечно, перед постелью умирающего, его добрым земным гением, его духовным отцом, его примирителем с небом и землею. В ту же минуту было исполнено угаданное желание Государя. Послали за священником в ближнюю церковь. Умирающий исповедался и причастился с глубоким чувством. Когда Арендт прочитал Пушкину письмо Государя, то он вместо ответа поцеловал его (разумеется, письмо. – Ред.) и долго не выпускал из рук; но Арендт не мог его оставить ему. Несколько раз Пушкин повторял:
“Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Письмо! Где письмо?”
Арендт успокоил его обещанием испросить на то позволение у государя. Он скоро потом уехал.
До пяти часов Пушкин страдал, но сносно. Кровотечение было остановлено холодными примочками. Но около пяти часов боль в животе сделалась нестерпимою, и сила её одолела силу души; он начал стонать; послали за Арендтом. По приезде его нашли нужным поставить промывательное, но оно не помогло и только что усилило страдания, которые в чрезвычайной силе своей продолжались до семи часов утра.
Что было бы с бедною женою, если бы она в течение двух часов могла слышать эти крики: я уверен, что её рассудок не вынес бы этой душевной пытки. Но вот что случилось: она в совершенном изнурении лежала в гостиной, головою к дверям, и они одни отделяли её от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжёлый летаргический сон овладел ею; и этот сон, как будто нарочно посланный свыше, миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями. И в эти минуты жесточайшего испытания, по словам Спасского и Арендта, во всей силе сказалась твёрдость души умирающего; готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не слышала, чтобы её не испугать. К семи часам боль утихла. Надобно заметить, что во всё это время и до самого конца мысли его были светлы и память свежа. Ещё до начала сильной боли он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу [его рукою], по-русски написанную, и заставил её сжечь. Потом призвал Данзаса и продиктовал ему записку о некоторых долгах своих. Это его, однако, изнурило, и после он уже не мог сделать никаких других распоряжений. Когда поутру кончились его сильные страдания, он сказал Спасскому: “Жену! позовите жену!” Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать. Потом потребовал детей; они спали; их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза молча; клал ему на голову руку; крестил и потом движением руки отсылал от себя. “Кто здесь?” – спросил он Спасского и Данзаса. Назвали меня и Вяземского. “Позовите”, – сказал он слабым голосом. Я подошёл, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал её; сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошёл. Так же простился он и с Вяземским. В эту минуту приехал граф Вьельгорский, и вошёл к нему, и так же в последний раз подал ему живому руку. Было очевидно, что спешил сделать свой последний земной расчет и как будто подслушивал идущую к нему смерть. Взявши себя за пульс, он сказал Спасскому: “Смерть идёт”.
(…) В это время приехал доктор Арендт.
“Жду царского слова, чтобы умереть спокойно”, – сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к Государю, чтобы известить его величество о том, что слышал. Надобно знать, что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему:
“Может быть, я увижу Государя; что мне сказать ему от тебя”.
“Скажи ему, – отвечал он, – что мне жаль умереть; был бы весь его”».
Вот тут нельзя не упомянуть о воплях комментаторов письма. Чего уж проще?! Есть письмо. Оно опубликовано! Нет… у комментаторов возникает необузданное желание «поставить под сомнение сам факт произнесения Пушкиным этих слов, а текстологический анализ автографа Жуковского позволил усомниться и в точности приведённых ниже слов благодарности и пожеланий Пушкина царю…».
Вот так, на пустом месте, когда речь идёт о словах добрых в отношении самодержца. Но вот когда надо сказать о России и русском самодержавии какую-то гадость, то и выдумки зарубежных шизофреников принимаются за истину, как, например, выдумки папского шпиона Антонио Поссевино об убийстве Иоанном Грозным своего сына или ещё более безобразные пасквили Генриха Штадена о России. Там и «автографы» все на месте, все принимаются. А тут, видите ли, не вписываются слова Пушкина в концепцию ордена русской интеллигенции, а потому начинаются выдумки об автографах.
Какой резон Жуковскому что-то выдумывать? Да ещё в письме к отцу поэта? На мой взгляд, рассказ о последних часах жизни великого поэта слишком ответствен, чтобы допускать выдумки. И Жуковский описывал всё с искренностью, которой нельзя не заметить:
«Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной от государя.
“Извини, что я тебя потревожил”, – сказал он мне при входе моём в кабинет.
“Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною”.
И я рассказал о том, что говорил Пушкин.
“Я счёл долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. Полагаю, что он тревожится о участи Данзаса”.
“Я не могу переменить законного порядка, – отвечал Государь, – но сделаю всё возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен: они мои. Тебе же поручаю, если он умрёт, запечатать его бумаги: ты после их сам рассмотришь”.
Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом Государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением.
“Вот как я утешен! – сказал он. – Скажи Государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в его сыне, что я желаю ему счастия в его России”».
Он мог заменить нам Пушкина
Александра Сергеевича Пушкина холуи тёмных сил Запада раскусили не сразу. Вплоть до его встречи с императором Николаем I в Москве, Чудовом монастыре, в сентябре 1826 года, его считали в кругах разрушителей Самодержавия и России своим. Лишь потом, разобравшись в том, что Пушкин не просто Солнце Русской поэзии, но и Духовный лидер Русского мира, развернули его травлю, а затем и охоту на него.
А вот Михаил Юрьевич Лермонтов заявил о себе на двадцать третьем году своей жизни, взорвав общество бессмертным стихотворением «Смерть поэта». Лермонтов родился 5 октября 1814 года. Стихотворение он написал в феврале 1837 года. То есть ему лишь недавно, четыре месяца назад исполнилось 22!..
Троюродный брат Михаила Юрьевича Лермонтова и автор воспоминаний о поэте Аким Павлович Шан-Гирей (1818–1883) вспоминал:
«В январе 1837 года все были внезапно поражены слухом о смерти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его. Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем этим святотатственным убийством, он в один присест написал несколько строф, разнёсшихся в два дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова».
Но известно оно стало и врагам – тем, кому ненавистно русское слова, как и сама Россия, как русский народ, как был ненавистен Пушкин. А после стихотворения «Смерть поэта» стал ненавистен и Лермонтов, охота на которого началась практически сразу.
Стихотворение действительно распространялось стремительно. В. П. Бурнашев в воспоминаниях «М. Ю. Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников» отметил:
«Нам говорили, что Василий Андреевич Жуковский относился об этих стихах с особенным удовольствием и признал в них не только зачатки, но и все проявление могучего таланта, а прелесть и музыкальность версификации признаны были знатоками явлением замечательным, из ряду вон».
Но это было только начало. Через несколько дней, 7 февраля 1837 года, Михаил Юрьевич Лермонтов дополнил стихотворение шестнадцатью гневными строками, которые начинались со слов «А вы, надменные потомки».
А спровоцировало это добавление посещение Лермонтова его дальним родственником камер-юнкером Столыпиным, завсегдатаем враждебного России салона мадам Нессельроде, ну и полностью разделявшим антирусские взгляды.
Допрошенный свидетель разговора губернский секретарь С. А. Раевский дал следующие объяснения о своих отношениях с Лермонтовым и «о происхождении стихов на смерть Пушкина. Вот этот текст:
«Бабка моя Киреева во младенчестве воспитывалась в доме Столыпиных, с девицею Е. А. Столыпиною, впоследствии по мужу Арсеньевою (дамой шестидесяти четырёх лет, родною бабушкою корнета Лермонтова, автора стихов на смерть Пушкина).
Эта связь сохранилась и впоследствии между домами нашими, Арсеньева крестила меня в г. Пензе в 1809 году и постоянно оказывала мне родственное расположение, по которому – и потому что я, видя отличные способности в молодом Лермонтове, коротко с ним сошёлся – предложены были в доме их стол и квартира.
Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих занятиях, в особенности последние три месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал.
В январе Пушкин умер. Когда 29 или 30 дня эта новость была сообщена Лермонтову с городскими толками о безыменных письмах, возбуждавших ревность Пушкина и мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и ноябре (месяцы, в которые, по слухам, Пушкин исключительно сочинял), – то в тот же вечер Лермонтов написал элегические стихи, которые оканчивались словами: “И на устах его печать”.
Среди их слова: “Не вы ли гнали его свободный чудный дар” означают безыменные письма, что совершенно доказывается вторыми двумя стихами:
И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар.
Стихи эти появились прежде многих и были лучше всех, что я узнал из отзыва журналиста Краевского, который сообщил их В. А. Жуковскому, князьям Вяземскому, Одоевскому и проч. Знакомые Лермонтова беспрестанно говорили ему приветствия, и пронеслась даже молва, что В. А. Жуковский читал их его императорскому высочеству государю наследнику и что он изъявил высокое своё одобрение.
Успех этот радовал меня по любви к Лермонтову, а Лермонтову вскружил, так сказать, голову – из желания славы. Экземпляры стихов раздавались всем желающим, даже с прибавлением двенадцати стихов, содержащих в себе выходку противу лиц, не подлежащих русскому суду – дипломатов <и> иностранцев, а происхождение их есть, как я убеждён, следующее:
К Лермонтову приехал брат его камер-юнкер Столыпин. Он отзывался о Пушкине невыгодно, говорил, что он себя неприлично вёл среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил. Лермонтов, будучи, так сказать, обязан Пушкину известностию, невольно сделался его партизаном и по врожденной пылкости повёл разговор горячо. Он и половина гостей доказывали, между прочим, что даже иностранцы должны щадить людей замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили два государя и даже осыпали милостями и что затем об его строптивости мы не должны уже судить.
Разговор шёл жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщал мнения, рождавшие новые споры, – и в особенности настаивал, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от влияния законов, что Дантес и Геккерн, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому.
Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах: “Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи Гения, так есть Божий суд”.
Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашёл у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор. Несколько времени это прибавление лежало без движения, потом по неосторожности объявлено об его существовании и дано для переписывания; чем более говорили Лермонтову и мне про него, что у него большой талант, тем охотнее давал я переписывать экземпляры.
Раз пришло было нам на мысль, что стихи темны, что за них можно пострадать, ибо их можно перетолковывать по желанию, но сообразив, что фамилия Лермонтова под ними подписывалась вполне, что высшая цензура давно бы остановила их, если б считала это нужным, и что государь император осыпал семейство Пушкина милостями, следовательно, дорожил им, – положили, что, стало быть, можно было бранить врагов Пушкина, оставили было идти дело так, как оно шло, но вскоре вовсе прекратили раздачу экземпляров с прибавлениями потому, что бабку его Арсеньеву, и не знавшую ничего о прибавлении, начали беспокоить общие вопросы о её внуке, и что она этого пожелала.
Вот всё, что по совести обязан я сказать об этом деле.
Обязанный дружбою и одолжениями Лермонтову и видя, что радость его очень велика от соображения, что он в 22 года от роду сделался всем известным, я с удовольствием слушал все приветствия, которыми осыпали его за экземпляры.
Политических мыслей, а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло. Лермонтову, по его состоянию, образованию и общей любви, ничего не остается желать, разве кроме славы. Я трудами и небольшим имением могу также жить не хуже моих родителей. Сверх того, оба мы русские душою и ещё более верноподданные: вот ещё доказательство, что Лермонтов неравнодушен к славе и чести своего государя.
Услышав, что в каком-то французском журнале напечатаны клеветы на государя императора, Лермонтов в прекрасных стихах обнаружил русское негодование противу французской безнравственности, их палат и т. п. и, сравнивая государя императора с благороднейшими героями древними, а журналистов – с наёмными клеветниками, оканчивает словами:
Так в дни воинственные Рима,
Во дни торжественных побед,
Когда с триумфом шёл Фабриций,
И раздавался по столице
Народа благодарный клик, –
Бежал за светлой колесницей
Один наёмный клеветник.
Начала стихов не помню – они писаны, кажется, в 1835 году, и тогда я всем моим знакомым раздавал их по экземпляру с особенным удовольствием.
Губернский секретарь Раевский21 февраля 1837».
Раевский упомянул о стихотворении «Опять народные витии…», которое было написано под влиянием блистательных поэтических творений Пушкина – «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».
Лермонтов говорил:
Опять, народные витии,
За дело падшее Литвы
На славу гордую России,
Опять шумя, восстали вы.
Уж вас казнил могучим словом
Поэт, восставший в блеске новом
От продолжительного сна,
И порицания покровом
Одел он ваши имена.
Именно Пушкин «казнил могучим словом» европейских клеветников и пасквилянтов, которые организовали лживые нападки в печати на императора Николая I и на Россию. В 1834 году 13 января (по русскому стилю) – 25 января по французскому – в Брюсселе выступил польский демократ – ярый русофоб – Иоахим Лелевель с отвратительной и, конечно же, лживой – в польском духе – речью по случаю трёхлетней годовщины «свержения Николая I с польского престола», а в апреле 1834 года в журнале «Revue de Paris» была напечатана мерзкая статья об императоре Николае I. Были и другие пасквильные публикации в газетах и журналах. Причём в одной из таких поделок Пушкина выставили борцом с русским самодержавием. Ну и получили ответ, который горячо поддержал Лермонтов.
Европейские журнашлюшки, лживость которых особенно хорошо видна в наши дни в связи с событиями на Украине, в Сирии и других конфликтных зонах, продолжали свою мышиную возню и в 1835 году.
Лермонтов выступил жёстко.
Что это: вызов ли надменный,
На битву ль бешеный призыв?
Иль голос зависти смущенной,
Бессилья злобного порыв?..
Да, хитрой зависти ехидна
Вас пожирает; вам обидна
Величья нашего заря;
Вам солнца Божьего не видно
За солнцем Русского Царя.
В этом стихотворении Лермонтов показал себя приверженцем Русского Православного Самодержавия…
Давно привыкшие венцами
И уважением играть,
Вы мнили грязными руками
Венец блестящий запятнать.
Вам непонятно, вам несродно
Все, что высоко, благородно;
Не знали вы, что грозный щит
Любви и гордости народной
От вас венец тот сохранит.
Любопытна следующая – четвёртая строфа, значительно подстриженная.
Безумцы мелкие, вы правы.
Мы чужды ложного стыда!
В советских изданиях далее ставились отточия, поскольку из Лермонтова лепили, так же, как и из Пушкина, вольнодумца, осуждающего самодержавную власть, ну и, конечно, царя…
Но, как известно, рукописи не горят. Вот эти слова…
Так нераздельны в деле славы
Народ и царь его всегда.
Веленьям власти благотворной
Мы повинуемся покорно
И верим нашему царю!
И будем все стоять упорно
За честь его как за свою.
Ну как же можно было такое читать вообще, а особенно изучать в школе?! Тогда ведь трудно объяснить, почему же Лермонтова сослали за стихотворение, которое, как сказано выше, понравилось наследнику престола цесаревичу Александру Николаевичу – будущему императору Александру II, да и сам поэт вызывал симпатии у младшего брата государя великого князя Михаила Павловича, а императрица, спустя некоторое время, когда в печати появились главы «Героя нашего времени», буквально зачитывалась ими.
Ну и завершил Лермонтов издёвкой в отношении клеветников:
Но честь России невредима.
И вам, смеясь, внимает свет…
Так в дни воинственные Рима,
Во дни торжественных побед,
Когда триумфом шёл Фабриций
И раздавался по столице
Восторга благодарный клик,
Бежал за светлой колесницей
Один наёмный клеветник.
Но кто же принял решение арестовать Лермонтова? Император? Так принято было говорить. Нет. Арест произвести решил член организованной преступной группировки, совершившей подлое убийство Пушкина, А. Х. Бенкендорф, возглавлявший III отделение. Конечно, он обязан был доложить о своём решении государю, поскольку имя Лермонтова уже стало известным на всю столицу, и шествие этой известности по стране продолжалось.
19 февраля Бенкендорф письменно доложил:
«Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермантова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без права сноситься с кем-нибудь извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи и о взятии его бумаг как здесь, так и на квартире его в Царском Селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец – бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. По словам Лермантова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать.
А. Бенкендорф».
Ну что ж, императору было уже многое понятно. Недаром он отчитал Бенкендорфа за то, что тот не выполнил его приказ и не предотвратил убийство Пушкина под предлогом так называемой дуэли.
Что же оставалось делать государю? Взять Лермонтова под защиту так же, как и Пушкина? Но Пушкина он уберечь не смог. Отринуть заявления Бенкендорфа, оставить без внимания? Лермонтова надо было спасать, как не раз спасали Пушкина различными командировками под видом ссылок.
Вспомним, что говорил император Пушкину во время беседы в Чудовом монастыре… Он прямо заявил: «Моя власть не безгранична». Ну и обратим внимание на замечание профессора В. М. Зазнобина об умении государей говорить, когда надо, двусмысленно. Увы, это необходимо, когда окружение зачастую сплошь лживо и враждебно.
Император оставил резолюцию на французском языке: «Приятные стихи, нечего сказать». Это ключевая фраза. Но достаточно ли сил выказать своё личное отношение к «надменным потомкам, известной подлостью прославленных отцов», ко всем этим омерзительным Бенкендорфам, Нессельроде и прочим?
Здесь главная задача спасти от них Лермонтова, и государь далее написал: «…я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермантова и, буде обнаружатся ещё другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону».
Поступить по закону – фраза не обязательная, скорее, успокоение для Бенкендорфа. Что уж там противозаконного? Кто такие надменные потомки? Трактовать можно по-разному. Ведь и по сей день трактуют как кто может.
Но что же делать далее? Вполне естественно, оставлять в столице нельзя. Лермонтов будет убит под видом дуэли непременно. «Надменные потомки известной подлостью прославленных отцов», то есть члены тайных лож, хоть и запрещённых, но подпольно действующих, не простят разоблачения.
Ну что ж… как столетие спустя сказал Константин Симонов в романе «Товарищи по оружию»: «Война для военных – естественное состояние». Сильная фраза. Она мне запомнилась с того времени, когда я, будучи суворовцем Калининского суворовского военного училища, читал этот роман, предваряющий другие произведения – «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», уже посвящённые Великой Отечественной войне.
Естественное состояние? Значит, отправка в действующую армию – дело вполне нормальное. Конечно, в случае необходимости можно придумать, мол, отправили, чтобы погиб. Но позвольте, Лермонтов окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Может ли считаться направление корнета в Гродненский гусарский полк наказанием? Его же не разжаловали, взыскание не объявили. Кстати, комментарии к тому или иному назначению по службе делались иногда – на потребу социального заказа – весьма забавные. К примеру, один из биографов сообщил о том, что от государя пришло распоряжение не использовать Лермонтова в особенно опасных местах. Опять ведь незадача. Государь заботится о поэте?! Биограф выкрутился так… Государь, мол, опасался, что Лермонтов получит ранение, выйдет в отставку, вернётся в столицу и будет опасен своими произведениями. Почему-то сочтено, что государь будет опасаться именно ранения. Про возможную гибель, которая не исключена во всякой войне, будто и забыли.
Итак, назначение состоялось. 19 марта 1837 года поэт отправился на Кавказ и с середины мая до середины сентября провёл в Пятигорске. Тоже удивительное наказание. Что за странный отпуск от боевых действий, к которым ещё не приступил? Уж никак не получается жестокого наказания за страшное для государя стихотворение. Государь как раз не увидел ничего такого, что было направлено против него и его самодержавной власти. Так расценили либо намеренно те, кто был врагом и государю, и Пушкину, и Лермонтову, либо те, кто вообще ничего не понимал и не умел читать между строк. Не мог государь не знать и о стихотворении «Опять народные витии…». Там как раз полная поддержка государю.
Впрочем, приезд в Пятигорск в 1837 года был связан с тем, что по пути в полк Лермонтов заболел. Даже некоторое время провёл в Ставропольском госпитале, из которого его отправили на воды. Он писал об этом лечении:
«Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах, меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить – в месяц меня воды совсем поправили».
И ныне в Пятигорских санаториях наряду с другими заболеваниями лечат заболевания опорно-двигательной системы.
Ну а город буквально дышит воспоминаниями о Лермонтове, именно в самую первую очередь о Лермонтове, хотя бывали там в разные времена многие знаменитости. В 1837 году в эти края Лермонтов приехал третий раз в жизни…









































