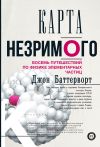Текст книги "Ангел, архангел, архай"

Автор книги: Ольга Рёснес
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Всякому «специалисту», гордящемуся своим «приличным квантовомеханическим воспитанием», полезно было бы уже сегодня принять во внимание факт сверхчувственного наблюдения: тот тип сознания, который сегодня можно называть «естественнонаучным», не имеет после смерти человека никакого индивидуального продолжения, попросту «улетучиваясь», становясь родом космического «сырья». Только моральное, приобретенное во время жизни, и «везет» на себе человека после его смерти, это и есть его «подъемная сила». И даже во сне, бессознательно, человек не добирается до своего гения, если в бодрствующем состоянии его сознание не окрашено моральными переживаниями. Сколько людей сегодня «обходятся» без каких бы то ни было моральных беспокойств! Проживая свой день «разумно», исполняя тот или иной «долг», но при этом не соизмеряя интеллект с моралью, человек живет как бы отдельной от своего Ангела жизнью, отдаваясь исключительно «готовым», состоявшимся вещам. И «вещностное» сознание таково, что оно не только заранее отметает все, что связано в каждом индивиде с моралью, но «объясняет» моральное, исходя из «вещного»: мораль становится для индивида «внешним законом», заповедью, «голосом совести», но никак не импульсом к свободе.
Примером «вещной» морали, основанной на авторитете православной церкви, стало запрещение русским патриархом преподавания в школах «сексуальной грамоты», на том основании, что предмет этот «безнравственный». На самом же деле «безнравственным» является не предмет, на изучении которого, с привлечением одухотворенных картин из растительной и животной жизни, можно воспитать любовное, благоговейное отношение к жизни, но та точка зрения, которую имеет на него православная церковь: безнравственна точка зрения, клеймящая стереотипом «греха» все, что оказывается выше церковного понимания. В этом плане церковь никак не способствует более доверительному контакту каждого со своим Ангелом: такую задачу церковь перед собой и не ставит.
Завоевание морального начинается у каждого с преодоления в себе эгоизма. Не быть эгоистом сегодня просто невозможно, этому подпадают все, так или иначе втянутые в систему производства: эгоистична «объективная наука», эгоистично «высокое искусство», не говоря уже о политике, где эгоизм становится абсолютным критерием «правды» и движущей силой. Нетрудно заметить, что там, где эгоизм особенно силен, где человек живет лишь сегодняшним днем, беря все, что можно взять, по принципу «жизнь одна», там налицо истребление жизни. Так, амбиции «глобализации Китая» привели уже сегодня к тому, что в стране, где ежегодно рождается около шести миллионов человек, практически отсутствует незатронутая производством природа: страна постепенно становится пустыней, угождая собственному эгоизму «первого производителя в мире» (при этом около миллиарда китайцев, а именно, крестьян, не имеют никакой пенсии, уповая лишь на милость своих родственников).
Эгоизм «подвигает» людей вырубать вековые леса, будь то в Африке или в России, «поворачивать вспять» реки, «сдвигать горы», бурить скважины в коралловых рифах и т. п. При более тонком рассмотрении, к эгоизму можно подойти с «внешней», социальной стороны, и с «внутренней», индивидуальной: только те силы эгоизма, которые направлены на самопознание, и есть его единственные земные плоды, тогда как все остальное, «внешнее», бесплодно. Обуздать эгоизм можно лишь сознательно, и это равносильно тому, что человек «поднимает самого себя за волосы». Так, вырывая себя из эгоистического болота, человек впервые получает доступ к своему гению-самодуху, в через него – к своему Ангелу.
Сложность понимания отношения «человек – Ангел» усугубляется сегодня не только все более и более требовательной технизацией и технологизацией жизни, ежедневно притупляющими моральное чувство и созерцательность мышления, но прежде всего слабостью воли к поступку. Поступая так, «как поступают все», спеша уложиться в сжатые жизненные сроки образования, семейной жизни, карьеры, каждый хочет для себя, бесспорно, «лучшего», толком не зная, где оно, и «веря» поэтому другим: кто-то сделал уже то-то и то-то. Никто ведь не задумывается над тем, что сегодня практически никто не идет по жизни своим путем, делая жизнь если не с «товарища Дзержинского», то уж точно с какого-нибудь «нашего». Люди панически боятся одиночества, боятся остаться в тишине и с самим собой, боятся признать несостоятельность своей «правды». Этот страх порождает неприязнь ко всякой сосредоточенности и самоуглублению, как к чему-то болезненному и даже преступному, и нет такого «руководителя», который не присматривался бы подозрительно к непохожему на себя подчиненному (некоторые «шефы» вешают над собой портрет еще более высокого «шефа», чтобы не потерять чувство «реальности»). На первый взгляд, в подобной «производственной» ситуации выживает лишь подхалим и мерзавец, если не считать самого «шефа», но это совсем не так: выживает только тот, кто не играет в эту игру. Тот, кому его собственные интуиции указывают путь к свободе. Но как же осуществляется такое выживание? Этот процесс затрагивает не только, собственно, жизнь «от и до», но, главным образом, жизнь «после», когда человек оказывается в духовном мире: вот тогда-то и начинаются «разборки». Полностью лишенный своего материально ориентированного сознания, которое до этого строило неодолимые крепости вокруг данной личности, «снабженный» лишь незначительными крохами морали, человек «не дотягивает» до своего Ангела, хотя тот делает все, чтобы установить с человеком связь: они так и не «сходятся». В связи с этим еще хуже складываются отношения с Архангелом, который, собственно, и развивает в человеке силы возвращения к жизни. В результате, вернувшись к повторной жизни, человек оказывается ослабленным, в том числе и физически, оказывается отброшенным назад в своем будущем развитии.
Самопознание не является для человека чем-то самоочевидным, этому надо учиться. Это не удел «немногих», но требование времени: каждый современен в той мере, в какой он начинает распознавать над собой свою будущую Диотиму.
4. Язык и народный дух.
Отличительным знаком каждой культуры является ее отношение к слову. То, в какой мере со словом связывается понятие духовного, определяет жизнеспособность не только словесного «материала», но мышления в целом. Кто только не говорит сегодня, что «в начале было Слово», понимая под «словом» нечто вполне филологическое и «авторское», даже «агитаторское», если не сказать «командное». Однако то Слово, что было в самом Начале, есть излияние воли высоких духовных сущностей, стоящих у основы мира, и сегодня мы имеем дело по сути с тем же самым: слово вырастает из воли к самопознанию.
Тем не менее, сегодня каждый стоит перед фактом обесценивания слова как поступка: налицо определенная «волевая инфляция» речи, значительно опережающая рост слова «в глубину», к уровню тех понятий, которые могут выразить его духовную природу. Язык, как повседневный, так и «научный», становится «мельче» и беднее, все более и более уподобляясь тому «рабочему минимуму», на который ориентируется компьютер. Теряя свою интонационную выразительность и музыкальность, свое смысловое «дыхание», язык способен удовлетворить сегодня лишь требования рассудка, но никак не потребность души, что ставит человека в ситуацию того искусственного «эсперанто», с которым исторически связана попытка истребления языка как такового.
Постепенное вытеснение из языка его духовной основы становится главной приметой современного «нормального» мышления. Слова остаются, но, будучи «теми же», уже не несут в себе познавательного потенциала: это все более и более слова-призраки, слова-оболочки, да просто пустые звуки. Закономерность смыслового истощения слова исторически связана с приспособлением языка к особенностям естественнонаучного мышления: слово становится абстрактным обозначением, интонация, дыхание, «музыкальность» уходят на задний план. Слова соединяются друг с другом по правилам логики, при этом часто не касаясь внутренней сути друг друга: в них отсутствует сила такого соединения или, как говорили прежде, отсутствует «божественное». Но пустота в словах недолго остается «вакантной»: в ней поселяются «демоны слова», ариманические существа, истребляющие язык с помощью всевозможных штампов, стереотипов и клише, сводящие язык к тому или иному «новоязу». Если присмотреться внимательно к началу «великой октябрьской» смуты 1917 года, можно без труда обнаружить повсеместное калечение, насилование, коверканье русского языка (на что красноречиво указывает Бунин), еще несущего в себе живые импульсы русской классической литературы: именно с языка-то и началась великая русская катастрофа. На первый взгляд «случайно», но в действительности в результате серьезнейшей и длительной подготовки, на русский язык обрушился ураган, «загаженный жаргоном марксистских трактатов начала века»[151]151
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 189.
[Закрыть], и этот низменный, беспредельно (или запредельно) пошлый «модерн», стал тем «вариантом» русского языка, который надолго удушил все живое, как в литературе, так и в жизни. Ведь то, как человек говорит, раскрывает о нем великую тайну: тайну его соответствия Духу народа. И в этом смысле ни один из большевиков духу русского народа не соответствовал, изобличая себя же ущербно-канцелярским, пародийно-марксистским и просто криминальным «способом говорения». Весь так называемый соцреализм с его «революционным эпосом», со всей его многоименной «поэзией» и «прозой», есть одно сплошное бегство от правды (и ему нисколько не противоречит сегодняшнее «замочим всех в сортире»).
Язык живет внутренним, душевным творчеством каждого, и не только, например, поэта. Общая языковая картина складывается из единичных, и каждый на протяжение всей жизни ведет незримую борьбу за свой язык. Достаточно было только позволить себе ввести в повседневную речь большевистский жаргон, ввести без сопротивления, без навыков преодоления того демонического и разрушительного, что «мечет молнии» в агитационных призывах, – и немедленно реализовалась безумная ленинская мечта. Соцреализм есть великое бегство от языка, бегство в сторону словесной мертвечины: слово становится флагом, ярлыком, пулей в затылок. То, в чем так преуспел «Идиот Полифемович» Маяковский, с его «красной паспортиной», отзывается сегодня то дистрофичностью бэ-акунинской «нелитературы», то пошло-пелевинской «интеллектуальностью», а то и просто «веселым и могучим», нахрапистым русским детективом: настало время безъязычия. А это значит, что в большинстве своем люди не хотят напрягаться, воспитывая свое мышление и очищая его от «готовых формул», что неизбежно приводит к тому, что человек ничего так не желает, как «отвернуться, спрятаться от истины мира, в котором он живет»[152]152
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 183.
[Закрыть].
Язык, с его интонационностью, мелодичностью, ритмикой и «размером», сродни музыке, и не случайно расцвет русской словесности совпадает с эпохой Чайковского, и в целом с национальным расцветом России. Язык – это прежде всего те идеалы, на которые так или иначе равняется сознание индивида. Гипотетически «без-идеальный» язык не имеет для человека никакого смысла, и всякая «формализация» языка, будь то в рамках какой-то «специализации» или на волне поголовной компьютеризации, означает оскудение образной, созерцательной компоненты мышления. Мысля «правильно», в соответствии с «нормой», человек становится сам для себя «цензором», развивая в себе способность «замалчивания» и технику «затирания» всего того, что могло бы привести к поискам истины: обстоятельства неизменно оказываются «выше» истины. Так было с творчеством Д.Шостаковича, посвященным, собственно, падению индивида. Не случайно композитор считал самого себя «несчастнейшим из людей»: он пел во славу недействительного. Ведь не мог же гений принимать за чистую монету сталинский, и в целом советский эксперимент над людьми: для этого ему надо было «расколоться надвое», вести двойную жизнь, одну для себя, а другую для «общественности», перемешивать правду и ложью. То «народное», чему композитор полагал себя слугой (он неизменно хотел быть «всегда со своим народом»), попросту в «советское время» не существовало, зато пышно расцветало – благодаря насильственному «вживлению» в культуру квазинародных поделок вроде «песен гражданской войны», соцреалистической литературы или пропагандистских «художественных» фильмов – антиархангелическое, бездуховно-национальное, подменяющее «родину» «родной компартией». Наедине же с собой человек переживал смертельный страх, и это оказалось единственной правдой композитора: изучение страха, попытка ему противостоять. В этой трагической «школе жизни» утончается до болезненности личность композитора, тогда как его индивидуальность попросту попадает в ловушку сиюминутности, будучи не в силах подняться над тотальностью умирания. Язык Д. Шостаковича нередко сравнивают с «баховским», забывая при этом, что И.С. Бах обращал свое сознание к «вневременному», будучи великим христианским посвященным, в действительности строившим свой Град сверху вниз, от Духа. Язык И.С. Баха есть жертвоприношение проснувшейся к духовному знанию души. Тогда как язык Д. Шостаковича – это только «современность».
Точно так же складываются и судьбы «русской литературы» в советский период: все это сплошь описание трагедии. Описание неимоверных усилий, предпринимаемых не верящей в идеалы личностью в ее стремлении к «счастью». Но самое гротескное при этом, что как соцреалистические «герои», так и сами писатели, верят в то, что они верят в идеалы. Вера в «идеалы по обстоятельствам» остается и по сей день основным правилом «игры в искусство», а «когда начинаешь учитывать обстоятельства, – замечает И. Бродский, – тогда уже вообще поздно говорить о добродетели. И самое время говорить о подлости»[153]153
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 199.
[Закрыть]. С точки зрения «игнорирующего обстоятельства индивидуума»[154]154
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 199.
[Закрыть], Д. Шостакович вполне мог бы обойтись без поощрений со стороны Сталина или Хрущева. С точки же зрения самих этих «обстоятельств» (и лично историка культуры С. Волкова), с их неразборчивостью по отношению к личности, «жизнь свою можно было потерять запросто. А личное знакомство с вождями могло послужить, по крайней мере на время, какой-то охранной грамотой. И потом, Шостакович ведь не просто свою жизнь спасал. Он также спасал свое дарование, свое творчество»[155]155
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 199.
[Закрыть]. То есть дарование и творчество Д.Шостаковича шло в ногу, хоть и не всегда попалая в такт, с охаживающей его кнутом властью. Но все-таки почему? Почему? Потому что язык коспозитора питался тем энтузиазмом и страхом, в которых увязла, как в трясине, советская действительность, и в этом смысле композитор был всегда «с народом». Другое дело, что к народному духу, к русской душе, ни этот энтузиазм, ни этот страх не имели ни малейшего отношения: будучи по своей природе неизменно «приподнятой» над материальной действительность, русская душа оказывалась вовсе не там, где ей определяли место сталинские «специалисты», не в «битвах новостроек» и не в шуршании доносов. Но к ней, к русской душе, никто из советских «художников» так и не пробился, застревая на виражах «веропослушной» карьеры и сгнивая в профессиональной «коммуналке»: это и была та катастрофа, которая «превращает личность в развалины: крыши уже нет, а печка, к примеру, все еще стоит»[156]156
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 202.
[Закрыть].
Булгаковский Мастер, олицетворяющий собой «русскую советскую» литературу, и Маргарита, как Муза этой литературы, разделили судьбу гётевского Фауста, продав душу дьяволу: Мастер выпил дьявольское зелье, Маргарита стала сатанинской блудницей. Противостоять же Воланду (Ариману) при жизни никто из них не смог, не посмел: не хватало идеалов. И не случайно «спасение» обнаруживается только за порогом смерти: Фауста спасают своим пением Ангелы, Мастер в компании с Понтием Пилатом отправляется пешком по лунной дорожке в направление Христа. Но ведь такое «спасение» возможно и при жизни, такая возможность есть у каждого, но только единицы желают ею воспользоваться. Булгаковский же Мастер-с-большой-буквы становится попросту ребячливым недоумком, отправляя свою Музу громить квартиры критиков и седлать их, как услужливых свиней, на бал к Сатане. Отстаивая свое земное творение в его земном бессмертии, Мастер нисколько не расположен искать в себе Христа: он к этому не подготовлен. И М.Булгаков не знает, как это делается, и слова его поэтому пусты. Писатель «помещает» как Сатану, так и Иешуа, вне человека, и тщетно поэтому ожидать, что Мастер когда-нибудь «дотянет» до истины: ему предстоит лишь вечно «плакаться» своей Музе о невозможном. О каком «мастерстве» идет речь, если Мастер не позволяет себе отказаться от личного, не дает себе свободы? Это всего лишь «мастерство» подражания, копирования, не связанного с пониманием сути дела. Это как раз та «дозволенность», против которой сам же Мастер на словах и выступает: дозволенность обстоятельств (то есть «можно» вступить в сговор с Сатаной, но никак невозможно самому, без «помощи» Воланда, подняться над собой). Чем в таком случае Мастер «лучше» критикующих его критиков? Бессилие духа и бесплодность души, вот «главные герои» М. Булгакова, неправомерно «упрощающего» к тому же (в сравнение, например, с Мефистофелем) фигуру Воланда. Язык романа, более уместный для написания сценария, обретает свою образную завершенность в кинематографическом языке одноименного фильма: это язык мертвых фигур, в каждой из которых действует «кукла».
С этим тотальным омертвением языка на всех его уровнях, включая «язык науки» и «язык искусства», в историю ХХ века вписывается… пустая страница: нет больше «гения слова», извлекающего из доставшегося ему разума ту или иную «правду о мире», и сама эта «правда» отдает плесенью приспособления к обстоятельствам, все более и более связывающих личность узами материального производства. Сегодняшние «гиганты слова», от Солженицына до Кётце, неизбежно становятся «редакторами» и «цензорами» своих же «попыток сказать»: их останавливает на полпути «неудобство» перечеркнуть свою личность ради устремленности к истине. И то, что они все-таки называют «истиной» (например, тезис «двести лет вместе» у Солженицына), есть не более, чем компромисс унылой сиюминутности и так и не состоявшихся пожеланий. Утверждая значимость себя, со всеми своими частностями (а их просто «тьма», к примеру, в романах Кетце), писатель попросту эксплуатирует язык, не позволяя словам засиять «внеземными» категориями: слова есть только указатели правил движения. Это чувствовал И. Бродский, позволявший своему языку покидать тучные нивы личного и светить в неизвестные пока еще дали индивидуализации (и этот прорыв, возможно, был бы совершен, если бы И. Бродский не покинул Россию).
Индивидуум, отмечает И. Бродский, «должен исходить из более или менее вневременных категорий. А когда начинаешь редактировать – в соответствии с тем, что сегодня дозволено или недозволено, – свою этику, свою мораль, то это уже катастрофа»[157]157
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 199.
[Закрыть].
Иллюзия «совладания с катастрофой» возникла у многих в связи с творчеством А. Солженицына: иллюзия раскрепощения сознания. Причина этой иллюзии в том, что, ступив на путь «раскрепощения», человек не доводит свою мысль до конца: он ее попросту недомысливает. В результате «один день» Ивана Денисовича оказывается бессмысленно хорошим: натянутая до предела струна выживания лопнет при первом же послаблении, не будучи прокаленной духом. Смерть кажется страшнее изнурительного ползания по загаженной страхом и ложью «почве», да никто, собственно, и не знает, что такое смерть: что индивид продолжает быть, переступив личное. Смерть есть последнее, что встречает каждый на своем пути, и от этой «точки отсчета», только в обратном направлении, каждый строит свой «дом», в котором, увы, пусто. Пусто, потому что бездуховно. А. Солженицын называет «святой» простодушную «фикусную старушку», и ее «святость» состоит именно в сонливости ума, в терпеливости без понимания, оказывающейся в конце концов заурядной глупостью и причиной нелепой смерти. Та же самая «святость» связывается с поступком бывшего зэка, отдавшего свои последние «трудовые гроши» засадившему его стукачу, и это выглядит прямо-таки «христианским» деянием, если заранее допустить то, что «святым» может быть и очень глупый человек. Но этого не бывает. Подобный идеал «юродивой святости» как нельзя лучше оправдывает всякого рода дьявольщину, нуждающуюся в извращении лика правды. Если святость глупа, то нам до нее один шаг, тем более, что, если верить поэту, умом Россию не понять: нашим-то, лозунговым умом. И сколько не ходи по «Кругам» А. Солженицына, сколько не нумеруй их по порядку, ничего, кроме фактов внешней истории там не встретишь. Их может быть много, этих внешних фактов, но много ли значат они без обозначения симптомов скрывающегося за ними «недуга»? Да и готов ли язык, неся на себе бремя архивной пыли, вспыхнуть звучанием Логоса? К этой новой, созвучной импульсу Христа гениальности не присматривается сегодня пишущий («сочиняющий» вообще), обходясь обкатанной наследственностью одаренностью, все более и более смахивающей на «ловкость рук» (чему сегодня и обучают во всякого рода «литературных институтах»).
Сегодняшний «штемпелеванный» язык, каким его хотят видеть стратеги коммерческого прогресса, отторгает от себя «слишком большие» идеалы, довольствуясь лишь предметами «первой необходимости», среди которых преобладают прилипчивые к слуху безделушки-штампы, вроде «сырьевых ресурсов», «уровня жизни», «прожиточного минимума» и т. п. Язык коснеет и омертвевает, формализируясь в неисчислимых «профессиональных», «молодежных», «зэковских» и прочих жаргонах, гротескно усиливаемых столь же неисчислимыми филологическими «изысканиями», вплоть до составления «словарей терминов», претендующих занять место самого языка. И что же делает в этих условиях писатель? Что делает, к примеру, Пелевин, которого российский интернет назначил «самым интеллигентным умом России»? Да он идет впереди на бой против языка. Для этого мало изъять из обращения «идеалы», надо развернуть само мышление в сторону неистребимой пошлости, сделать мысль ничтожной, а мыслящего – разочарованным в самом себе (таким вот «омоном ра»). Исходя исключительно из рыночных критериев, современные издательства стоят неодолимой преградой на пути слова, заваливая трупами «детективной», «приключенческой», «любовной» и прочей нелитературы столь же неразборчивые книжные магазины; и даже «классика», и та как будто потеряла сегодня свою «невинность», став просто «товаром». Что делает в таких условиях писатель? Да просто перестает им быть.
Никто как будто бы и не заметил, что освещавшая некогда классику радость жизни с некоторых пор куда-то подевалась: ни о чем хорошем уже и писать-то невозможно. Это великая победа Аримана: в мир пришла наконец весть о бессмысленности быть человеком. С идеалами покончено «раз и навсегда», а дальше что? Дальше – забота о благоденствии и физическом бессмертии, уже больше не нуждающемся ни в каком духе. Завоевание человека Ариманом идет сегодня по схеме: язык – мышление – бездуховность, и этому служит вся сегодняшняя культура. Язык есть поворотный пункт эволюции: либо вперед, к Слову, либо в подматерию. Второй путь оказывается в большинстве случаев предпочтительным: языку насильственно прививаются «интернациональные» элементы, рушится связь с Народным духом, стирается пройденный уже путь к одухотворенности. На основе языка происходит ариманическая переработка всей культуры и тем самым создаются условия для духовного порабощения Ариманом целых народов, как это произошло в России в ходе «социалистического эксперимента» (такие условия были созданы, однако архангелический, михаэлический характер русской души этому воспрепятствовал).
Большевистская катастрофа изъяла из повседневного обращения волю к радости жизни, заменив ее «волей к победе». И полный масштаб этого провала осознается тогда, когда приходит понимание, что только силами советской «наследственности» выбраться из бездны невозможно: нужна какая-то «прививка». Нужна выпадающая из «статистики» индивидуальность. При всех «внешних» обстоятельствах особенностью русской души является ее творчество «в себе» и – на будущее. Никакая другая национальная душа так не призвана к будущему, как русская, и на «внешнем» плане это проявляется подчас как «затянувшееся ожидание», как некая «медлительность» но отношению к настоящему (русский постоянно «отстает», например, в «благоденствии»). Но будущее само собой не придет, оно закладывается в настоящем. Будущее становится действенным в настоящем, когда находится душа настолько чуждая обстоятельствам, что становится возможным ее самореализации. Это означает, что внутренние процессы в такой душе протекают с иной скоростью, не требуя для себя обусловленности внешними «причинами». «Я, например, – признается И. Бродский, – занялся изящной словесностью по одной простой причине – она сообщает тебе известное ускорение… в голову приходят такие вещи, которые тебе, в принципе, приходить не должны были. Вот почему и надо заниматься литературой. Почему в идеале все должны заниматься литературой. Это необходимость видовая, биологическая. Долг индивидуума перед самим собой, перед своей ДНК…»[158]158
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 240.
[Закрыть].
Речь идет, бесспорно, о самопознании. Это – необходимость видовая, но не в биологическом смысле: каждый отдельный индивидуум есть вид в масштабе человеческого рода, вид индивидуальной духовности. Это, бесспорно, долг перед самим собой, но не перед «своей ДНК»: долг перед своим будущим Самодухом. Это и есть та «прививка» чуждости обыденности, которая, с одной стороны, обрекает индивидуум на одиночество: «чем лучше поэт, тем страшнее его одиночество, тем оно безнадежнее…»[159]159
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 265.
[Закрыть], а с другой стороны, роднит человека с «материей времени», под которой И. Бродский понимает некую «духовную объективность» (сухость, сдержанность, нейтральность, отстраненность от клише). Язык требует для своей жизни определенное «жертвоприношение», состоящее в умении жить словом, как духовной реальностью: «источник языка – источник всего»[160]160
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 292.
[Закрыть].
«Метафизичны не только слова как таковые, – уточняет И. Бродский, – Или мысли и ощущения, ими обозначенные. Паузы, цезуры тоже метафизичны, ибо они также являются формами времени»[161]161
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 292.
[Закрыть].
Сверхчувственная природа языка такова, что он как бы творится заново каждым в отдельности: интонацией, душевным движением, убежденностью. Язык расцветает или сходит на нет, в зависимости от внутренней ориентации индивида. И то, что каждый рождается именно в данном языковом окружении, есть знак его судьбы, его «прошлой готовности» именно к данному языку. «Стихи на двух языках писать невозможно, – замечает И. Бродский, – хотя я и пытался это делать»[162]162
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004, с. 292.
[Закрыть]. Именно в своем языке человек ступает на путь самопознания, подготавливая свою встречу с гением языка, Народным духом, народным Архангелом.
Все сказанное человеком за день, со всеми словесными нюансами и интонационными оттенками, впитывается, словно «губкой», человеческой душой ночью, во время сна: язык продолжает звучать, «словно струна в душевно-духовном мире»[163]163
R. Steiner. Engler. Antropos forlag. Oslo. s. 66.
[Закрыть], язык становится достоянием духовных сущностей, приносится им в дар. Стоит только задуматься над тем, какие слова человек «дарит» направляющим его развитие сверхчувственным существам! А какие дикие интонации, какие хрипы, стоны и вопли! Еженощно доставляя все это «богатство» в высшие миры, человеческая душа только исполняет свой долг «перевозчика», тогда как человек со своим Я волен сам «выбирать слова». Согласно сверхчувственному наблюдению, порядок вещей указывает на то, что человеческая душа во время сна (когда она свободна от своих дневных «обязанностей») вступает в прямой контакт с Архангелами, каждый из которых, как отмечает Рудольф Штейнер, «чувствует себя в родстве с тем, что мы приносим с собой во сне как эхо. Это то, что им нужно, то, что они желают испытать. Точно так же, как мы, люди, в физической земной жизни призваны дышать, находиться в кислородной атмосфере, тем самым полагая для себя кислород полезным, так и архангелы, связанные с внутренней жизнью земли, испытывают потребность в том, что человеческие души приносят им во время сна в виде отзвуков того, что заключено в человеческом языке»[164]164
R. Steiner. Engler. Antropos forlag. Oslo. s. 68.
[Закрыть].
Таким образом, язык является не только человеческим достоянием, но еще и человеческим приношением духовному миру. Вот почему так важно на протяжение всей жизни работать над своим языком, освобождая его от мертвечины клише и штампов, иначе нечего будет Архангелу «взять». Вся сегодняшняя культура «больна» косноязычием, что делает ее временем «духовного разброда, неуверенности, полной компрометации или утраты идеалов»[165]165
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004. с. 293.
[Закрыть]. Неуверенность в завтрашнем дне проистекает сегодня не столько от скудости «куска хлеба», сколько от невозможности пользоваться словами в их исконном смысле. Недалеко то время, когда истинный смысл слов может оказаться навсегда утерянным. Все больше и больше язык повинуется тем повседневным импульсам, которые сужают смысл слов до востребуемого материальной практикой содержания, а это всего лишь содержание вещей. Это называется, между прочим, «ближе к жизни», что можно было бы иначе сформулировать: «дальше от жизненного содержания». Но сегодня мало кто признает, что содержание любой вещи носит идеальный характер (в том числе и содержание денег), поэтому все реже и реже заходит речь об идеалах. Так называемая «деловая повседневность» не развивает в людях вкуса к внутреннему «горению», столь необходимому для «идеализма», развивая, напротив, мертвяще холодную рассудительность, расчетливость и подобные «деловые качества»: человек оказывается идеально пуст. Все, о чем люди между собой говорят, адресовано исключительно физическому миру, к которому, как к таковому, ни Ангелы, ни Архангелы не имеют никакого интереса. И дело не становится лучше, когда кто-то «рассуждает» о духе, при этом не имея самих духовных переживаний: слова эти не доходят до духовного мира. Точно также обстоит дело, например, с механическим музыкальным исполнительством: все ноты на месте, все указания выполнены, но… не интересно слушать, потому что мертво. Себя человек может при желании обмануть, но для духовного мира ложь оказывается попросту «несъедобной». Сколько священников сегодня бормочет «святые слова», не вкладывая в них никакого смысла и тем самым отвергая их божественный смысл, да и вся церковная служба остается театром, если духовное ищется лишь в клубах кадильного дыма, блеске золота и монотонности заученного бормотания. «Мы живем в такое вот время…» – скажут многие «в оправдание» подобной «заземленности» духа. Но надо научиться понимать свое время, видя в его симптомах не только проявления физического. В какое же время мы живем? Это время не только бегства от идеалов, но еще и производства антиидеалов. Любой, самый «невинный» мультик может стать сегодня «оружием массового поражения», если его воспринимать инстинктивно, без участия того необходимого сопротивления, которое оказывает всякой механистичности человеческая душа с погруженным в нее Я. Механический «герой», будь то безнадежно-безрадостный, едва справляющийся с искусственно наращенной мускулатурой «продукт» Шварцнеггера, или крайне озабоченный тем или иным «расследованием» интернациональный «детектив», – это насильно втиснутый в человеческую телесность демон. И всякий демонический идеал есть одновременно идеал разрушения личности, так или иначе «преданной делу» Аримана. Не составляет исключения и так называемый «идеал нормального человека», лояльного гражданина, семьянина и «специалиста»: это всего лишь пустая оболочка, безразличная к своему содержанию. При этом часто ссылаются на так называемые «здоровые инстинкты», что было бы уместно в случае с обезьяной. И среди самых «здоровых» неизменно оказывается инстинкт добывания денег.